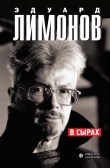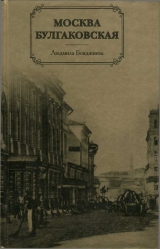
Текст книги "Москва Булгаковская"
Автор книги: Людмила Бояджиева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
– Ах, почему же сразу «любовника»! Неужели все непременно надо опошлять? Просто я думаю, что во мне просыпается мое прежнее «Я», с любовью к жизни, веселью, шуму, людям, к встречам и… Ты же меня знаешь.
– Знаю, знаю. И все поняла. Переходи конкретно к нему.Кто тот, которого так не хватало идеальной жене? Надеюсь, ты не влюбилась в своего виртуоза парикмахера?
– Оля, я, прежде всего, хочу, чтобы ты меня поняла. – Большие черные глаза Лели смотрели с мольбой. «Сколько в ней женщины! – с чувством превосходства подумала Ольга. – Играет, бедняжка, оправдывается… А влюблена до потери пульса!»
– Мне хочется больше света, жизни, движения! – Уловив скепсис во взгляде сестры, Леля заговорила горячо, быстро: – У тебя есть театр, твое любимое дело. Мой удел – портнихи, косметички, выходы в гости. Женя занят почти целый день, малыш с няней все время на воздухе, и я остаюсь одна со своими мыслями, фантазиями, нерастраченными силами…
– Будем считать, что твоя чуткая сестра все правильно поняла. А теперь хочет знать подробности. Когда, с кем, где?
– Ах, сама сейчас не знаю, когда мы познакомились. В начале этого месяца – это точно. Какие-то знакомые устроили блины – масленица же прошла. И всю неделю – блины, блины… кажется, это было у Уборевичей. Он еще на старой квартире жил.
– Молодой военачальник обожает проводить музыкально-артистические вечера.
– Я оказываюсь за столом рядом с голубоглазым блондином. Про его историю во МХАТе ты мне много раз рассказывала.
– Булгаков?! Пфф! – Ольга резко отодвинулась от стола и сделала трагические глаза. – Более неудачную кандидатуру найти было бы трудно. Кто же спорит – это чрезвычайно интересный человек, огромный талант, но сейчас он в опале, и я бы тебе не советовала показываться рядом с «идеологическим врагом». Подумай сама: ты не жена рядового бухгалтера. Кроме того, он женат на чрезвычайно бойкой даме. Что выкинет эта особа, узнав об измене мужа, трудно предположить.
– Оля, я ни о чем не думала! Я не могла оторвать от него глаз, как завороженная. Он фонтанировал юмором. Придумывал спичи, танцевал, разыгрывал сцены, что-то пел, дурачился… И все выходило безумно своеобразно, талантливо и свободно! Как…как полег птицы… Ты знаешь, я ненавижу пошлость, вульгарность. Он начинен подлинной искрометностью – человек-театр! Помнишь мое креп-сатиновое бордовое платье? Там на рукавах тесемки и одна развязалась. Я протянула ему руку: завяжите, если не трудно. Завязал. Поцеловал мою руку медленно, со значением, и так посмотрел в глаза… знаешь, Оля, редко мужчины умеют смотреть в глаза так…Прямо сердце останавливается.
– Он посмотрел так,и ты обещала ему встретиться?
– Мы условились на следующий день пойти на лыжах. И завертелось! После лыж – генеральная в театре, после этого актерский клуб, где он играл с Маяковским на бильярде. Словом, мы почти неделю встречались каждый день, и, наконец, я взмолилась и сказала, что мне необходимо выспаться. И чтобы Миша позвонил мне на следующий день. Я легла рано чуть ли не в 9 вечера. И что ты думаешь? – Глаза Лели сверкнули интригующе. – Ночью – было около трех – встревоженная Верочка зовет меня к телефону (Женя все эти дни был в командировке).
Я подошла.
– Оденьтесь и выйдите на крыльцо, – загадочно сказал Миша. Живет он на Большой Пироговской – далеко отсюда, но повторяет настойчиво: «Выходите на крыльцо!» Я оделась и вышла из подъезда. Луна светит как фонарь, и все вокруг как заколдованное – серебряное, замершее. Миша – весь белый в лунном свете – стоит у крыльца. Медленно достает из-под меха на груди нарциссы… Смятые, но еще теплые.
– Погоди, даже меня пробрало – так романтично. – Ольга налила в рюмку коньяк и выпила. – Ночью с Пироговки шел сюда пешком?
– Да ты слушай дальше: берет меня под руку и на все мои вопросы и смех прикладывает палец к губам и молчит… Ведет через улицу на Патриаршие пруды, доводит до одного дерева и говорит, показывая на скамейку: «Здесь они увидели его в первый раз», и опять палец у губ, опять молчание…
– Да уж, заинтриговал. Со странностями мужичок. Ну а в смысле поцеловать?
Елена опустила густые ресницы:
– Было, но так… как в балете – совершенно эфемерно.
Ольга хмыкнула:
– Это настораживает. Гении такие нервные, такие дерганые… Поговорить у них получается отменно… В смысле романтических вздыханий… А большее… Да ведь тебе и не надо большего.
– Оль, пожалуйста, не смейся… Мне ничего не надо. Только любви! Необыкновенной любви. А он – совершенно необыкновенный. И… И влюблен без памяти.
– И ты по уши, не отпирайся – я же вижу. – Ольга со вздохом покачала головой. – Смотри, сестра, мужа-то не огорчай. Если с Булгаковым встречаться надумаешь – поаккуратней, умоляю! В такую семью раздор вносить… Это, милая моя, от жира. Ты Евгения своего пожалей, о мальчишках подумай… И тогда уж – увлекайся сколько угодно! – Ольга решительно поднялась. – Ладно, остальное расскажешь вечером. Меня в театре уже, наверное, с собаками ищут.
Провожая сестру, Леля всплакнула:
– Как это все получилось – сама не понимаю. Я ж не хотела! Но буквально мгновенно, очнуться не успела, и уж он для меня – свет в окне. Все время думаю.
– Постарайся отвлечься, держи его на расстоянии и себя не распаляй. Смотри, а то Женьку из-под носа уведут!
– Он у меня преданный. До гроба… – Леля высморкалась в тонкий платочек. – Прямо хоть травись…
– Ой, обожаю мелодрамы! Только предупреждаю – это не твой жанр.
3
– Люба, мне пройтись надо!
– Да ты хоть доху надень, метель же! – крикнула она вслед и который раз за эти дни подумала: «Романчик опять закрутил. Пусть пофлиртует, ему для творчества полезно».
Он вышел под мокрый снег, летящий вкось с мартовским ветром, подставил лицо ледяному крошеву и вдохнул полной грудью: «Май… Май! Опять май!»
С первой же минуты, как только сидевшая рядом женщина повернула к нему бледное, в легкой пыльце дорогой пудры лицо с яркими, чуть косящими глазами, и протянула руку с развязавшейся тесемкой, грянуло колоколами во всем теле – май, май! Он не слышал, что говорит она и что отвечал сам, волна счастливого куража захлестнула с ног до головы. И стоит ли разбираться, чем она приворожила его: своим узелком на рукаве, чуть косящим взглядом или какими-то женскими чарами. Она была лучшая из всех, кто существует на этом свете, – это было совершенно определенно. И жить без нее не имело никакого смысла.
«За мной, мой читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей верной вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык! За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую любовь».
Он мог бы вспомнить, что так же опрометью, как в прорубь, кинулся во влюбленность к Тасе, но не вспомнил. За четыре месяца тайных встреч с Еленой Сергеевной – отчаянно страстных, нежных, она оттеснила прошлое. Вернее, слилась с ним. И теперь стало ясно – это не две любви сразили Булгакова солнечным ударом – одна. Две женщины – любовь одна. А Люба? – Отличный парень Любан. Но это другое, совсем другое.
Елена Сергеевна была бы завидной спутницей каждого – светская, шикарная, сдержанная, с благородством манер и мыслей, три европейских языка, изящество речи… Муж ее «был молод, красив, добр и честен» – напишет Булгаков в «Мастере и Маргарите». И начнется история Михаила и Елены не на масленичном банкете, а в весенних московских переулках, как в романе. Не было февраля. И метельного, вьюжного марта не было.
Сразу – весна. Никакого застолья – он и она, посреди лунной ночи.
Далеко-далеко, в безумном сне, была ночь, пустынная улица, лунный свет на пороге ее спящего дома, ее жаркое тело под наброшенной на шелковую сорочку ароматной шубой…
Перед самой последней и окончательной правкой романа встреча мастера и Маргариты была описана чуть подробнее. Может быть, Булгаков потом снял слишком памятные подробности?
«Из кривого переулка мы вышли в прямой и широкий, молча, и на углу она беспокойно огляделась. Я в недоумении посмотрел в ее темные глаза, а она ответила так:
– Это опасный переулочек, ох, до чего опасный. – И, видя мое изумление, пояснила: – Здесь может проехать машина, а в ней один человек…
– Ага, – сказал я, – так, стало быть, надо уйти отсюда.
И мы быстро пересекли опасный переулок, где может проехать какой-то человек в машине.
– А вы боитесь этого человека?
Она усмехнулась и поступила так: вынула у меня из рук цветы…»
Произошло именно то, что большинство интеллигентных людей знают наизусть: «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила сразу обоих! Так поражает молния, так поражает финский нож!»
А потом они всеми силами старались удержаться на опасной черте. Михаил понимал, что не имеет права разрушать благополучную семью с прекрасными детьми и заботливым отцом. И Елена пыталась подавить искушение. Летом поехала в Ессентуки на месяц. Он послал ей письмо с засохшей розой и вместо фото – только глаза, вырезанные из карточки. Естественно, она думала лишь о нем, он страдал разлукой, как тяжелой болезнью.
Осенью 29-го, когда она вернулась домой, они стали ходить в Ленинскую библиотеку – он писал там книгу о тех, кто встретился на Патриаршах. Книгу о них с Еленой, о тех тайных свиданиях, которые происходили в полуподвальной квартирке, арендованной Михаилом недалеко от ее дома.
Скрывать влюбленность было все труднее. Казалось, любовники стали прозрачными, и каждую минуту тайна может раскрыться. Люба сохраняла с Лелей дружеские отношения и полагала, что очередной флирт Михаила со временем развеется, как это уже не раз случалось.
Елена Сергеевна изо всех сил делала вид, что все идет по-старому, старалась быть заботливой женой и матерью. Она словно пыталась загипнотизировать себя хлопотами и чудесной перспективой. Но часто застывала с невидящим взглядом, так что Верочке приходилось по три раза окликать хозяйку.
4
И Михаил застывал за письменным столом, уносясь мыслями в будущее. Его новая пьеса «Бег»– о гибели в революционном буране русской интеллигенции, о пропадающих в Константинополе эмигрантах, сразу понравилась МХАТу. А это уже – знак судьбы: пан или пропал. Премьера «Бега» изменит статус Булгакова, даст надежду на соединение с Еленой… Запрет же пьесы будет означать провал, полную неизвестность. Елена Сергеевна никогда не бросит Шиловского, не оставит детей, не уйдет к опальному писателю, не имеющему достаточных средств даже к скромному существованию, да и ясных видов на будущее. Это правильно, иное решение было бы преступлением для матери двоих мальчишек. Да и для него, не смеющего разрушить семью.
Бесконечно обсуждая все на свете, словно мир был создан только что и подарен им двоим, они избегали говорить о будущем в своих отчаянных, словно перед разлукой, свиданиях. Оба чувствовали, что разорвать эту связь будет невозможно, но как построить жизнь по-иному, не знал никто из них.
Булгаков ежеминутно ждал удара и внутренне был готов ко всему.
Для многих, даже близких людей, жизнь Булгакова в те годы представлялась на зависть яркой, необычной, в непрерывном ожидании новых побед и ошеломлений. И внешне ему удавалось сохранить видимость полной независимости. Он вел себя весело, даже беспечно, выглядел безукоризненно, манеры имел подчеркнуто изысканные, особенно в публичных местах. А нервы были натянуты в струночку.
В те годы Булгаков с женой часто ездил ужинать в «Кружок»– клуб работников культуры в Старопименовском переулке,где собирались писатели и актеры. Его появление сопровождалось оживленным шепотом. К нему, юля, подбегал тапер и, поспешив вернуться к роялю, отбарабанивал понравившийся Булгакову модный фокстротик («Аллилуйя»-звучит в ресторане у Грибоедова в «Мастере и Маргарите»).
«Те, кому доводилось встречаться с Михаилом Афанасьевичем в ту пору, в середине двадцатых годов, помнят этого чуть сутулящегося человека, с вечным хохолком на затылке, с постоянно рассыпавшимися волосами, которые он обыкновенно поправлял пятерней. Чувствовалась в этом особенная, я бы сказал, подчеркнутая чистоплотность как внешнего, так и внутреннего порядка… Булгаков был необычайна жизнерадостным человеком. Казалось, что все трудное проходит мимо него, но по существу он был необыкновенно раним», – вспоминал М.М. Яншин.
После ужина, если в бильярдной находился в это время Маяковский, Булгаков направлялся туда. За ним тянулись любопытные. Все с нетерпением ожидали скандала – ведь взаимная неприязнь писателей была общеизвестна.
Они стояли как бы на противоположных полюсах литературной борьбы: левый фланг – Маяковский, правый – Булгаков. Настроение в этой борьбе было самое воинствующее, самое непримиримое. Время от времени, как страстные игроки, они встречались за бильярдным столом.
Играли сосредоточенно и деловито, каждый старался блеснуть ударом. Маяковский играл лучше.
– От двух бортов в середину, – говорил Булгаков.
Промах.
– Бывает, – сочувствовал Маяковский, выбирая удобную позицию. – Разбогатеете окончательно на своих тетях Манях и дядях Ванях, выстроите загородный дом с огромным собственным бильярдом. Непременно навещу и потренирую.
– Благодарю. Какой уж там дом!
– А почему бы?
– О, Владимир Владимирович! Но и вам клопомор не поможет, смею вас уверить. Загородный дом с собственным бильярдом выстроит на наших с вами костях ваш Присыпкин.
Маяковский выкатил лошадиный глаз и, зажав в углу рта папиросу, мотнул головой:
– Абсолютно согласен. Ваш консерватизм глубоко не перспективен.
– А ваша компания вместе с Мейерхольдом и Татлиным, озабоченная «колебанием мировых струн», низвержением авторитетов, получит бутерброд с маслом. Но, боюсь, на большее вам рассчитывать не на что.
Независимо от результата игры, прощались дружески. И все расходились разочарованные.
– О чем ты говорила с ним, Любан? – Михаил заметил, что жена, смеясь, перебросилась парой фраз с Маяковским.
– Я сказала ему, что болею только за мужа. А он жаловался, что я делаю это настолько явно, что у него кий в руках не держится.
– При чем здесь ты? Плохому игроку и луна помеха.
– Ты не прав. Владимир играет ровнее тебя. Ты иногда играешь блестяще, а иногда мажешь.
– Так ведь он играет только в элементарную «американку». Вот и набил руку. Я предпочитаю игру тонкую.
– Твоя излюбленная «пирамидка» – балет на сцене Большого театра.
– Именно. Не футуристическая халтура. А высокое искусство. – Михаил внимательно изучил меню: – А не ударить ли нам по порционному судачку?
5
В этом человеке, поразительным образом балансирующем на грани трагикомедии, уживались самые разные настроения. Вызывающий монокль и белоснежные воротнички с бантом служили прикрытием робости, беззащитности. Отчаянное шутовство служило убежищем от темных мыслей, не дававших ему покоя. Много раз он повторяет «ненавижу смерть!», как бы заклиная страшную неизбежность раннего ухода, о котором, кажется, подозревал.
В дневнике в ночь с 23 на 24 декабря (в Рождество по старому стилю) Булгаков записал строки из стихотворения В. Жуковского:
Бессмертье, тихий светлый берег;
Наш путь – к нему стремленье.
Покойся, кто свой кончил бег!
Вы, странники, терпенье!
В 1928 году эти строки станут эпиграфом к пьесе «Бег», позже отзовутся в «Мастере и Маргарите». В мироощущении Булгакова и в его художественном мире временное и вечное, низкое и высокое, комическое и трагическое, реальное и фантастическое слиты.
Едва ли не на первом свидании Михаил взял Елену за руки и с полной, пугающей серьезность попросил:
– Я буду умирать трудно. Поклянись, что не отдашь меня в больницу!
Она поклялась, сдерживая улыбку, – вот уж не поймешь, когда он шутит, а когда говорит всерьез. Но удивилась и клятву свою запомнила. Булгаков обожал таинственность и потихоньку вводил Елену в мир своих тайн, многие из которых впоследствии так и не разъяснил.
Однажды в мае Булгаков пригласил Елену Сергеевну на Патриаршиев полнолуние.
– Представь, сидят, как мы сейчас, на скамейке два литератора…
А потом повел ее в какую-то квартиру тут же на Патриарших. Там их встретил старик в поддевке с белой бородой. В камине пылали поленья, на столе стояла роскошная еда – рыба, икра. Старик сказал, что ехал из ссылки, добирался через Астрахань и прикупил деликатесов.
– Миш, куда ты меня привел? – удивилась Елена.
– Тсс! – приложил он палец к губам. Сели у камина.
Старик долго смотрел на пляшущие в темных глазах Елены Сергеевны искорки.
– Позвольте вас поцеловать?
Поцеловав, заглянул в глаза и сказал:
– Ведьма.
– Как он угадал? – воскликнул Булгаков. Но никогда так и не рассказал Лене, куда он ее водил в ту ночь.
В сентябре, когда Елена Сергеевна уехала на юг, он делает наброски «Театрального романа», адресуя его «бесценному тайному другу».
6
– Ахматова вышла из Союза писателей. И еще Замятин, Пильняк, Булгаков… Жень, ты слышишь? – Елена Сергеевна наманикюренным пальчиком поправила искусно уложенный парикмахером черный завиток на виске. Шерстяное платье с белыми кантами по всем рельефам подчеркивало стройность фигуры и отличалось сдержанной элегантностью.
– Ты слышал, что я сказала? Это в «Правде» написано. Здесь еще про троцкистский заговор на Свердловском шинном заводе статья.
– Угу, – промычал Евгений Александрович из ванной и вышел, обтирая чисто выбритое лицо полотенцем – ароматный, красивый, надежный… – Оставь ты это. Ахматова – прекрасный поэт и человек неординарный. А уж сколько Пильняка и Замятина травили. Да и Булгакову досталось.
– Но ты же сам хвалил Михаила. Вчера сказал, что за его пьесу «Бег» сам Сталин на Политбюро заступился.
– У Сталина много противников. Он не так всемогущ, как думают многие. Вот и Булгакова ему не удалось отстоять. Запрещены все его пьесы.
– Господи… – не удержалась Лена. – Не понимаю! Ничего не понимаю! Он же самый талантливый, и пьеса так захватывает… Там же все правда про гражданскую войну, про уничтоженную русскую интеллигенцию. Ты сам говорил…
– И когда ты эту пьесу читала?
– Мне Люба рукопись давала. Я даже плакала и не спала всю ночь. И теперь погиб не только «Бег», запретили… все пьесы! Ужас какой, нет, это ужас! Как же они теперь жить будут, на что? Я позвоню им.
– Милая, сейчас тебе не следует вмешиваться в это дело. Надо все хорошенько выяснить. – Честный красный генерал-лейтенант, чистосердечно перековавшийся из белого полковника, знал, что его телефон прослушивается.
– Женя, ты такой умный, ты все правильно понимаешь, а я и не знаю. Порой не знаю, что думать… – Она явно нервничала, бессмысленно перебирая стопку газет. Ба! Да Леля едва сдерживала слезы, но они упали на газетные листы, оставляя темные отметины!
– Дорогая, нельзя все принимать так близко к сердцу. Идет формирование новой государственности, новой идеологии. Процесс тяжелый, иногда жестокий. Но ради будущего… Придется мне с моей красавицей женой проводить регулярные политзанятия. – Он обнял ее и очень нежно поцеловал в шею. – Лелечка, мне в Академию ехать пора, ты уж извини. К обеду прискачу. И не забудь, что сегодня банкет у Гурвичей. Да… – Он вернулся в комнату, с сомнением посмотрел на жену, как бы колеблясь. – Леля, ты не всегда воздержана на язык в разговорах с Ольгой и… подругами. Имей в виду, что в нашем доме телефоны прослушиваются. Угроза шпионажа в высшем командном составе армии очень велика, и такая мера предосторожности совершенно необходима. Только тс-с! Это военный секрет, ты поняла? И не стоит так расстраиваться от баталий на фронте искусств – все образуется.
Евгений Александрович Шиловский в форме генерал-лейтенанта выглядел особенно молодцевато и подтянуто. Помощник начальника Академии Генерального штаба, начальник штаба военного округа, доктор наук, профессор, преподававший стратегию в Академии Генерального штаба, был женат счастливо уже семь лет. Имел двух чудесных мальчишек с пятилетней разницей в возрасте, прекрасную служебную репутацию и любовь очаровательнейшей из женщин… Полный порядок на всех фронтах… Тут в четком реестре размышлений Шиловского появлялась какая-то заминочка. В самом деле, Леля была безупречной женой. Но откуда сомнения? Или он просто не хочет замечать ничего настораживающего? Не хочет подозрениями разрушить счастливую гармонию?
Брови Евгения Александровича задумчиво сошлись к переносице, лицо утратило выражение спокойной уверенности в себе, свойственной ему в любой ситуации. Всплыли сразу все настораживающие детали. Да, опасения отнюдь не пустые. Надо решать, что-то надо с этим вопросом решать…
7
Смутные надежды соединить свою жизнь с Еленой Сергеевной разрушило известие, которого Булгаков втайне ждал и боялся: Главрепертком запретил постановку «Бега» по мотивам чисто политическим.
Руководство МХАТа, не теряя надежду спасти пьесу, решило организовать новую читку «Бега» на заседании Художественного совета и пригласило Горького, помогавшего опальным писателям.
Алексей Максимович пришел в восторг: «Пьеса великолепна! Это вещь, которая будет иметь анафемский успех, уверяю вас!» – воскликнул он, когда автор завершил читку. Казалось, одержана победа.
Но Главрепертком не уступал. В конце 1929 года яростная борьба вокруг пьесы перешла в политическую. Политбюро ЦК ВКП(б) в присутствии Сталина поставило вопрос о Булгакове ребром – «устранить идеологического врага». Сталин, смотревший «Дни Турбиных» не менее 15 раз, держал оборону, защищая пьесы Булгакова.
На Политбюро он сказал, что считает «Бег» пьесой, вполне возможной для постановки, если автор добавит к написанному 1–2 картины, изображавшие внутренние социальные причины гражданской войны.
Но Политбюро придерживалось категорического мнения: «Булгаков в своих пьесах использует максимум легальных возможностей для борьбы с советской идеологией». Каганович подвел итог прениям: «Все-таки, я думаю, давайте с «Турбиными» покончим».
Решение о запрете «Турбиных» было принято. Заодно запретили к постановке и все остальные пьесы Булгакова. С несгибаемым «врагом советской идеологии» было покончено. С этого момента безработного Булгакова не берут даже наборщиком в типографию. Он лицо нежелательное, а следовательно, нищее и озлобленное.
Траурный день 29 февраля 1929 года. Такое известие никаким юмором не пробьешь. Ложись – и помирай! – вот что осталось. Все разлетелось вдребезги – надежды, мечты, вера в силу своего дара, в свою звезду, наконец. Какая-то заштампованная бумажка с мерзким официальным и глумливым «выражением лица». Товарища Булгакова извещали, что все его пьесы запрещены к постановке. Можно было бы скончаться на месте от разрыва какого-нибудь мозгового сосуда, пульсирующего барабанным боем. Можно кинуться с моста или наглотаться снотворного. Но никак нельзя уйти, не повидав ЕЕ.
8
1 декабря Елена и Михаил, тесно обнявшись, сидели в своем полуподвальном убежище и пили красное крымское вино. Рука Елены ощущала, как дрожит плечо ее друга. Она боялась сказать ему, что заметила и подергивание головы – признаки нервного тика, и болтала всякую ерунду.
– А знаешь, я всего на два года моложе тебя и родилась в октябре – вот уж противный месяц! А Ригу я люблю! Мой отец – Сергей Маркович Нюренберг был учителем, увлекался журналистикой. Мама была дочерью священника.
– У нас с тобой запятнанное происхождение – в роду священнослужители и учителя. Учили-то они не основам марксизма.
– Учили милосердию и добру. Еще у нас в семье осуждалась ложь, а я вон какая получилась.
– Да ты всегда была лгунишкой! Самые тихони потому и кажутся примерными, что скрывают неблаговидные поступки. Разбила любимую мамину чашку, и осколки под диван засунула. Попало сестре – верно? Я с детства орал, когда болел: «Мама, не надо мне лекарства, я буду примерным мальчиком и уже держу градусник». Вышло все как раз наоборот – хотел быть послушным, смиренным. А вырос балбес и задира.
– Ты не задира, ты – справедливый и бескомпромиссный… В 1911 году я окончила гимназию в Риге, а через четыре года мы переехали в Москву.
– Господи, я уже был женат на Тасе… Венчался в 1913 году и по большой любви… да это совсем особая история.
– А я выскочила замуж за ужасно симпатичного юношу – адъютанта командующего 16-й армией РККА. Кстати, он был сыном известного артиста Мамонта-Дальского. Но мы были так молоды и легкомысленны…
– Что Шиловский, его начальник, показался тебе куда солидней и привлекательней.
– Что ты говоришь! Это же обидно! Да, Евгений показался мне настоящим героем. Но это не корысть.
– Любовь. В него невозможно не влюбиться.
– Ты злишься на меня! А это все не имеет совершенно никакого значения. Никакого! С тех пор как появился ты.
– Явление идеологического мученика семейству… Советского деятеля… – Глаза Михаила сузились, голова непроизвольно дернулась. Он хотел еще говорить что-то обидное о своей враждебности всему укладу советской номенклатуры. О своей несовместимости с Еленой…
– Послушай, разве ты не понял – мы познакомились не сейчас, мы знали друг друга давным-давно. Всегда.
– Я понял, и никто не способен меня переубедить… Прости, что психую, Леля. На душе тяжко.
– Хочешь, я позвоню хорошему врачу?
– О чем ты! На Лубянке меня тщетно пытались расколоть, но так и не выудили нужных показаний. У невропатолога на допросе расколюсь сразу и скажу, что схожу с ума от разлуки с любимой женщиной. – Он попытался улыбнуться, но улыбка получилась жалкой и виноватой.
– Миша, как же ты мучаешь меня.
– Леля, это запрещение моих пьес, по сути, высшая мера. Меня уничтожили не только как писателя, но и физически, – я обречен на нищенство. Нечего и думать, что меня где-нибудь возьмут на работу. И ты… Я не могу забрать тебя.
– Все устроится, не надо так унывать. Мы молоды, у тебя полно нерастраченных писательских сил… – Елена умолкла, чувствуя, как фальшиво звучит ее оптимизм.
– А жизненных-то уже нет… Ладно, это ерунда. Вот… Он достал из-под покрывала на тахте папку с рукописями. – Это «Консультант с копытом». Если придут за мной, конфискуют все. Я не хочу, чтобы погиб этот роман. Знай, что он хранится здесь, и спрячь у себя, если…
– Перестань. Надо надеяться.
– Сколько же можно обманывать себя! Я все время надеялся, я четыре года не писал прозу, я ждал ответа на мои письма Правительству. Я все время. ждал чуда…
– И дождался. Мы встретились.
– Леля! Больше всего теперь я боюсь за тебя. Что будет, если меня арестуют и наша связь откроется… Боги, о боги! – Он двумя руками схватился за голову и застонал.
– Послушай, Сталин заступался за тебя. Ты должен написать ему.
– Напишу, напишу, напишу… – раскачивался Михаил, зажмурив глаза. Наконец, справившись с нервным приступом, встряхнулся, взял Елену за руки. – Напишу! А пока чуда не произошло, я считаю себя неприкасаемым. Я не хочу загубить твою жизнь. Пока что-то не прояснится, видеться мы не будем.
В попытках найти выход из критического положения, Булгаков обращается с письмами к Сталину, к Калинину, Свидерскому, Горькому. Он разъясняет весь ужас своего положения и просит о разрешении на выезд из СССР. Очевидно, что писатель нуждался не столько в выезде за рубеж, сколько в защите от литературных преследователей. Это был крик души затравленной и надломленной, но гордость не позволяла ему прямо просить о помощи.
Елена извелась, не зная, как связаться с Михаилом, – телефон был под запретом, в их тайное убежище он больше не приходил. Оставалось одно – зайти проведать подругу Любу.
9
Любу беспокоило ухудшающееся состояние мужа. Он старался держаться, ухитрялся шутить, производя на посторонних впечатление покойного благодушия, но дома срывался.
Страшные головные боли сваливали его в постель – давление поднималось катастрофически, приходилось делать кровопускания. Появились навязчивые страхи – страх одиночества, темноты, открытого пространства. Что и говорить о нервных срывах, подавленности, раздражительности. Всему этому было объяснение – на протяжении многих лет он проходил пытку издевательствами, нереализованностью.
Люба уже знала, что приступы депрессии и сменяющей ее вспыльчивости – признаки некой нервной болезни, преследовавшей Михаила с времен гражданской войны. Контузия, жуткие нервные нагрузки и в уездной больнице, и во фронтовом госпитале, и при налетах в Киеве – стальные нервы не выдержат. Она отлично изучила Алексея Турбина, отождествляя с ним образ мужа.
Люба не знала того, что тяжелое душевное состояние 39-летнего Михаила во многом связано с последствиями употребления морфия. Да, он сумел преодолеть зависимость от наркотика, но надломленная психика легко поддавалась фобиям и депрессии. Все, что происходило в его писательской судьбе, требовало богатырского здоровья и недюжинных моральных сил. Да и физические условия выживания зачастую были на грани катастрофы – голод и холод мучили Булгакова годами. Он держался за счет огромной силы воли и всепоглощающей любви к своему делу. Но и здесь приходилось сражаться с самыми страшными страхами – сомнением в своих писательских возможностях. Враги били в одну точку с садистским упорством: «не нужен», «не подходит», «запрещен», «бездарен». Булгакова выталкивали из жизни, нанося смертельные раны. Он выдержал благодаря женщинам, бывшим рядом, – Тасе, Любе, теперь его привязывали к жизни сильнейший накал любви и роман, который он писал о ней и обо всем, что выстрадал.
Любови Евгеньевне хватало сил и юмора, чтобы переносить шумные скандалы, вспыхивающие внезапно. Она знала: нервы Михаила перенапряжены, и, успокоившись, он будет просить прощения. Вот расшвырял книги, бумаги, кричит, что не нужен никому… И затих, свернувшись под одеялом, – думает. Потом перебрался за письменный стол, включил лампу и начал писать. Распахнув двери в кабинет, Люба увидела худую спину в накинутой поверх косоворотки штопанной безрукавке.
– К нам гости, Мака! Ляля зашла – принесла для меня французские духи. Ей в посылке прислали. – Люба поднесла к носу мужа изящную коробочку: – Понюхай!
– Пахнет счастьем нездешним! – Вошедшая Елена протянула руку. – Извините, Миша, что ворвалась без приглашения.
– Это чудесно, чудесно, – мог только выговорить он, целуя руку Шиловской. – Рад видеть.
– Пишете, Миша? – В голосе Лены прозвучал упрек. – В городе черт знает какие слухи ползут – то ли утопился, то ли застрелился. Вся Москва в волнении. – Она шутила, а в черных глазах, устремленных на его запавшие скулы и взъерошенный ежик, стояли слезы.
– Садитесь, дамы, и слушайте! «Хотел я в море утопиться – вода холодная была. Хотел я с горя удавиться – меня веревка подвела»! А дело, собственно, в том, что мой дух противоречия живуч, как бродячая собака, – не позволяет сдаваться. Орудие писателя – перо. Обмакнул – и снова в бою. Пишу пьесу о Мольере – но какую! Это не наган там какой-нибудь – это царь-пушка. Называется «Кабала святош» – эго такое религиозное общество при Людовике вроде нашей Лубянки.