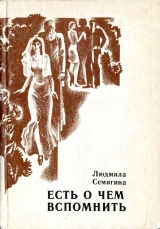
Текст книги "Есть о чем вспомнить"
Автор книги: Людмила Семигина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
– Здоровы были, – буркнул Волк-старший, не глядя на председателя.
– Слышь, Егор, – Петрович присел на ступеньки рядом с парнем. – Помогай. Погода того и гляди кончится, дожди пойдут, а у нас сено не убрано.
Отец тяжело глянул на председателя:
– А свое пущай, значит, гниет?
– «Свое»?! – светлые глаза председателя потемнели от гнева. – Я на фронте свое защищал. И семью твою – тоже.
– Ты меня фронтом не кори, – Волк-старший так натянул подпругу, что она затрещала. – Мне уж умирать пора…
– Ну, ладно… – Петрович разжал кулаки. – Не сгниет, один справишься. А за нами дело не станет, после войны рассчитаемся. А, Егор? Колька Седов последнюю неделю бригадирит у нас, повестка пришла. Его на фронт отправим, а тебя вместо него назначим.
Егор молчал, молчал и отец, укладывая две косы на телегу.
– Ну, ты подумай, мы ждем, – и Петрович ушел, не попрощавшись.
– Поехали, – бросил Волк-старший, не глядя на сына, и открыл ворота.
– Я не поеду, – тихо ответил Егор.
Волк-старший медленно подошел к сыну.
– Ты… поедешь, – прохрипел он.
– Нет.
– Ах ты, волчонок, – зло выругался отец, его рука взметнулась вверх.
– Отец, – закричала Домна, загораживая сына.
– Уйди, убью!
Что было дальше, Егор помнит смутно, но, может, долгие годы тюрьмы притупили его память. Отброшенная отцом, мать отлетела и упала у соседнего плетня. Он схватил руку отца, замахнувшегося на него кнутом.
Удар Волка-младшего оказался роковым. Отец упал, ударившись о наковальню.
…Прошло с тех пор много лет. Но сегодня он явственно представил себе мать, упавшую от удара отца у соседнего плетня. И стало ему страшно за нее, хрупкую, беззащитную. С жестокой ясностью он пришел к мысли, что то, что свершилось в тот день, не могло не свершиться. Только, может, это был не лучший вариант его бунта, однако тогда и не мог знать другие.
Эти мысли Егора не успокаивали, вина перед матерью рвала душу. Долгие годы скитаний – в Сибири и на Севере – оказывается, не притупили жалости и любви к матери, которая была, и это он только сейчас понял, единственным родным ему человеком.
– Вставай, Егор, – услышал Волк голос над собой. – Вставай, пойдем, – Николай Седов помог подняться, взял рюкзак.
– Куда пойдем? – спросил Егор.
– Ко мне. Таня пирогов напекла. Закусишь, – Николай кивнул на бутылку и пнул ее подальше от могилы.
После жаркой бани Егору стало легче, мягкий, пахнувший лесом веник выхлестал из него хмель.
Они сидели за столом, в чистой горнице, на столе дымился горячий борщ, вкусно пахли грибные пироги. В комнату то и дело заглядывали любопытные детские головки.
– Ваши? – спросил Егор.
– Наши, – виновато улыбнулась Татьяна.
– Ты ешь давай, – кивнул Николай на пироги.
– Как мать жила? – тихо спросил Егор.
– Ничего жила, хорошо. На ферме работала, – Татьяна вытерла рукой заблестевшие слезы. – Письма твои нам приносила…
Николай недовольно посмотрел на жену.
– Она и детишек нам вынянчила, – быстро заговорила Татьяна, отмахнувшись от мужа. – Они к ней, как к родной, привыкли…
Егор отодвинул тарелку.
– Что думаешь делать-то? – спросил Николай.
Егор достал из пачки папиросу, закурил и опустил голову.
– Не знаю… Кем я только в своей жизни ни работал – золото искал, уголь рубил, по морям-океанам на рыболовных судах плавал. А ни к какому берегу так и не пристал…
– Мы не знали, куда писать-то тебе о матери, – Татьяна, перебирала бахрому скатерти. – По старому адресу телеграмму дали, ответ пришел, что нет тебя там. Как надумал приехать? Почувствовал, что ли?
– Не знаю… Потянуло что-то…
– Иди, отдыхай, – Николай хлопнул Егора по плечу. – А то у нас ложись.
– Нет, пойду.
…Он открыл свою избу и, заходя в сени, ударился головой о косяк. В комнате было прибрано, но убого, ветхо и неуютно. Егор сел на материну кровать, огляделся. Все так же, как много лет назад. Родной дом не вызвал никакого чувства, кроме воспоминаний о безрадостном, нелюдимом детстве и острой жалости к матери.
Он лег, не раздеваясь, закрыл глаза. Так и лежал со своими неясными мучительными думами.
…Гулкий, тревожный набат поднял спящее село. Люди бежали на высокое пламя, охватившее избушку Волков. Громыхали на телегах бочки с водой, брякали ведра.
У пожарища, широко расставив ноги, стоял Егор. Веселое пламя маленькими точками отражалось в его суровых глазах. Люди в нерешительности остановились.
– Чего ждете-то? – раздался чей-то испуганный голос. – Сгорит ведь!
– Черт с ним, – спокойно ответил Николай Седов. – Труха одна…
– Здорово, Егор,– – из толпы к Волку подошел пожилой безрукий мужчина с густыми, но седыми кудрями. – А я тебя сначала не признал.
– Здравствуй, Петрович, – Егор неловко пожал протянутую руку.
– Ты домой совсем или как? – вдруг спросил председатель.
– Не знаю… – пламя жарко обдало людей, Егор отступил: – Нужен ли я вам? – усмехнулся он.
– А это мы посмотрим, – сказал Петрович.
Егор сел на чурбак и зажал голову руками.
БЕШЕНАЯ
Механик Федор Сироткин возвращался вечером с работы домой и встретил по дороге Веру Хомутинникову, свою бывшую одноклассницу и даже в некотором роде первую любовь. Она несла с речки два ведра воды.
– Мужа надо заставлять воду носить, – пошутил он.
– А ты помоги! – Вера заглянула ему в глаза и, передавая ведра, рассмеялась: – Я мужа берегу, боюсь, надорвется!
– Повезло твоему Володьке, – в тон ей сказал Федор. – Меня моя Улька не жалеет…
В это время прямо на них вывернула из магазина Улька.
– А вот она, легка на помине, – громко сказал Федор, смутившись от такой встречи.
– Здравствуй, Уля, эксплуатирую твоего мужа, – попыталась пошутить Вера, зная характер Федоровой жены.
Та прошла, не удостоив их вниманием, высокомерная и оскорбленная.
– Ну вот, помог, называется, на свою шею, – вздохнула Вера. – Давай сюда ведра.
– Да донесу, чепуха, – натянуто засмеялся Федор. – Ревности какие-то…
– А что, ко мне уж и приревновать нельзя? – игриво спросила Вера.
– Приревновать и к столбу можно, – не понял ее Федор.
Улька сидела на табуретке, сжав губы и скрестив на груди руки.
– Баньку изволите топить? – ядовито встретила она мужа. – Бельишко, может, вам собрать?
– Брось, Улька, – вяло отмахнулся Федор, стягивая рабочую гимнастерку. – Постирай вот лучше, пока ветерок – обсохнет.
– Постирай тебе! – взвизгнула Улька. – Пускай стирают те, кто воду на тебе возит!
– Дура ты!
– Бабник!
– Не наводи на скандал, Улька, – попытался успокоить ее Федор. – Не раздувай. Что я такого сделал-то? Воду женщине помог поднести…
– Воду он помог поднести? Женщине? Какой женщине? Телке этой? Да на ней цистерны надо возить!
– Чего ты ее-то цепляешь? – сказал Федор и тут же пожалел.
Зеленые Улькины глаза вспыхнули яростным огнем, густой румянец покрыл щеки.
– Любовницу защищаешь? – завопила она, кидаясь на Федора.
Федор вышел из терпения:
– Заткнись, Улька, а то врежу, нарвешься!
Дальше началось невообразимое. Улька кричала, чтоб он забирал свои шмутки и уходил к этой телке.
– Прекрати! – разозлился Федор и ухватил разбушевавшуюся жену за руки.
Улька вывернулась и укусила его за палец.
– Ах ты… бешеная! – Федор не сдержался и несильно двинул Ульку тяжелым кулаком.
– Мама! – заорала та не своим голосом.
Федор плюнул, переоделся и вышел из дома. «Вот жизнь! – раздраженно думал он, шагая по улице. – Того и гляди сюрприз преподнесет эта сумасшедшая… Семь лет прожили, а она как была дурой, так и осталась. Не Мишка с Сережкой, так давно бы на край света сбежал. Завтра надо сыновей от тещи привезти, а то она еще и от безделья дурью мается».
На лавке у своего дома сидел Аким Чуднов, совхозный сторож.
– Куда расшагался? Садись, покурим, – пригласил он.
Федор сел, и в самом деле, идти было некуда. Покурили.
– Чего смурной такой? – спросил Аким.
– Да так…
– С Улькой, поди, поцапались.
Федор махнул рукой.
– А чего тут гадать? Раз на ночь глядя из дома бежишь, значит, с бабой поскандалил… Сколько девок в деревне хороших было, нет, тебе надо было на этой занозе жениться! С Веркой Хомутинничихой кружился, вот и брал ба ее. Она ядреная, Верка-то… Правда, крученая стала, холера, как в годы вошла: юбку длинную наденет, смех один прям! А так ничего, спокойная баба, не чета твоей горластой. Покрутит-покрутит, покудова молодая, да перестанет, а твою до седых волос не успокоить… Она же у тебя малость того, – рассуждал Аким, попыхивая папиросой.
– В каком это смысле? – обиделся Федор.
– В таком. Позавчера на агронома кидалась, как бешеная овчарка.
– Ну, ты полегче с кличками-то… За дело она его, пусть не матерится при женщинах, – заступился за жену Федор.
– Могла бы покультурнее лаяться, – возразил Аким. – А то за один матюк чуть глаза Гаврилычу не вытащила. Он теперя ее за версту будет оббегать… Побил бы ты ее как следует, чтоб поутихла.
– Побил уже сегодня, – нехотя ответил Федор.
– Рази так бьют? Гладют только, – сплюнул Аким. – Они от такого битья еще нахальнее становются. В профсоюз бегут доносить. Баба нонче грамотная пошла… Таких бабенок кнутом надо учить. Моя тоже по молодости кого-то из себя гнуть начала, а теперь как шелковая…
– Неловко бить-то… Женщина все-таки…
– А неловко, дык и майся с ей, – быстро согласился Аким. – Она у тебя в неделю-то по три раза бызит…
– А тебе-то чего? – рассердился Федор и поднялся с лавки. – Тоже мне, советчик нашелся.
– Тогда не ходи и не жалься.
– А я тебе и не жалился.
Федор пошел домой. Раздражение с Ульки перенеслось на Акима. «Советчик тоже мне… Любители совать нос в чужие семьи… Еще указывает, на ком мне надо было жениться…»
Дружил Федор Сироткин до армии с Верой Хомутинниковой. Красивая она была… Проводила в армию, обещала ждать честь по чести, а перед демобилизацией парни написали, что Верка с Володькой, своим будущим мужем, загуляла. Защемило у него сердце от такого известия. Ну, думал, приеду домой, много шуму будет. Приехал, в первый же день в клуб пошел. Увидел. Верка с Володькой танцевала: красивая, в голубом платье, вся так и горит синим пламенем. Горит, а не греет. Смотрел он, смотрел на нее, ребята-друзья уж было держать его приготовились, а ему расхотелось драться. Тут и подскочила Улька. «Пошли, солдатик, попрыгаем?!» Пошел, потоптался маленько, Ульку разглядел, ничего себе мордашка. Вроде раньше видел в деревне, бегала.
Пошел после танцев ее провожать, а по дороге про свою неудавшуюся любовь и рассказал. И про обиду про свою, и про горечь измены, в общем, все рассказал, как есть.
– У-у-у, как у тебя все! – Улька таращила на него круглые глаза и качала головой. – Нет, у меня любовь не такая будет!
– Какая же? – усмехнулся Федор.
– Если бы мне мой возлюбленный изменил, я б его… убила, – выпалила Улька.
Месяца через два они поженились. В самый разгар свадьбы Улька тихонько вывела Федора из-за стола и утащила в степь. Был теплый майский вечер. Пахло вспаханной землей. Улька смотрела на темное бугристое поле горящими зелеными глазами.
– Федь, можно я побегаю? – попросила она.
– Ну побегай, – пожал он плечами.
Улька подняла подол длинного свадебного платья, на ходу сбросила туфли и помчалась по перепаханному полю, высоко закидывая коленки. Мелькали ее крепкие стройные ноги, развевалась белая фата над черной весенней землей.
– Я люблю тебя, поле! – кричала Улька звонким детским голосом. – Я люблю тебя, Феденька!
В тот момент и не засеянная еще земля, и небо багровое от заката, и мчавшаяся по полю белая Улька – все для Федора слилось воедино…
«Советчики», – пробурчал Федор, отгоняя воспоминания. Когда он зашел во двор, Улька поливала в огороде и весело пела какую-то песню. На веревке сушилась его рабочая одежда. Он усмехнулся: ненормальная, ей-богу!
Спать лег на полу, на веранде. Долго лежал, курил, прислушиваясь к Улькиной песне.
Улька закончила поливать и вошла в дом. Федор смотрел на звезды и размышлял: пойти к жене или не стоит рисковать?
– Федь! – послышалось в темноте.
В проеме дверей появилась фигура в длинном, белом. «Привидение», – хмыкнул он про себя, а вслух недовольно сказал:
– Мы вас сюда не приглашали.
И сердито подвинулся на край матраца. В тот же миг простыня забелела на полу, а Улька прижималась к нему горячим телом, тыкалась под бок, всхлипывала и виновато шептала:
– Пошумела я немножко, уж прости меня…
– Пошумела она, псих – одно слово…
Федор гладил Ульку по спутанным волосам, испытывая острое чувство нежности и жалости к этому родному сумасбродному существу.
– В другой раз увижу я тебя с ней… – всхлипнула она ему в плечо.
– Дуреха ты, – шептал Федор, проваливаясь в сладкий невесомый туман. – Бешеная, одно… слово…
„ЯВЛЕНИЕ ХРИСТА НАРОДУ“
Единственный магазин, не считая ларька, в котором, кроме сахара, кильки в томатном соусе да крыс, ничего не водилось, располагался в самом центре деревни. Был он, несмотря на некрасивую наружность, крепок, ладно сбит и в ремонтах не нуждался. В магазине, благодаря пробивной способности продавщицы Валентины Кругловой, продавались разные ходовые харчишки и дефицитные промышленные товары.
Валентина появлялась на пороге магазина всегда вовремя, весело здоровалась с односельчанами, поджидавшими ее с утра пораньше. Красивая, свежая для своих тридцати лет, она шумно гремела засовами, шутила, вводя в смущение мужиков.
Продавец – должность в деревне заметная, кто уважал, кто завидовал, словом, разговоров всяких про Валентину шло много. Жизнь у нее сложилась невесело: муж ее, Колька Федорец, красивый, куражистый хохол, оставив ей в наследство двух годовалых девчат-близнецов, уехал искать по свету «душевного покоя и нравственного понятия». Она уже отправила своих девчонок в школу, а он все не возвращался, Валентину считали матерью-одиночкой.
Со своим хозяйством она справлялась по-мужски: дом и двор – всегда ухоженные, девочки – чистые, круглые. Много охотников из мужского пола крутилось вокруг нее, а было ли чего, не было – никто толком не знал. Так, языки чесали, да и только. Мужики говорили между собой: «Завидная бабенка, а себя, молодец, блюдет». Последние несколько лет за ней тщетно ходил по пятам Васька Прибаткин, веселый, холостой механик. Казалось, чем бы не пара – и любит, и замуж предлагает, но чего-то боялась Валентина, а чего? – одной ей было известно.
Сегодня Валентина запаздывала к открытию магазина. А покупатели уже собирались. Первой пришла Анисимовна. Она села на крылечко магазина и стала без интереса изучать деревенскую улицу, которая по случаю выходного дня была пуста.
На полянке у магазина неподвижно стоял сонный гусь. «Поди, Пичугиных гусь-от, – размышляла от нечего делать старуха. – Ишь вить, какой шатущий, в хозяв».
Подошла Зиночка, пятнадцатилетняя дочь ветеринарного врача Григория Чугунова.
– Здравствуйте, бабушка! – поздоровалась она и села рядом.
– А, здравствуй, Зинка, – Анисимовна встрепенулась, скорбное лицо ее ожило: есть с кем словом перекинуться. – Чего покупать-то мать велела?
– Масла постного, – Зиночка звякнула пустым бидончиком.
– Стряпать чего хотит? – любопытствовала старуха.
– Не знаю, – девочка пожала плечами.
– Отец-то вчерась много мяса домой привез? – как бы невзначай спросила Анисимовна.
– Ничего он не привез, – Зиночка возмущенно отвернулась и стала смотреть на гуся.
Прибежала, запыхавшись, молодуха Любка, год назад выскочившая замуж за известного в селе тракториста Михаила Худякова и любившая его до безумия.
– Ой, закрыто еще, – огорчилась она. – Мой-то спит, отдыхает в выходной, а я себе думаю: сбегаю селедочки куплю, картошки молодой отварю. Миша любит.
– Любит твой Миша, – хмыкнула Анисимовна, – на девок заглядываться.
– На каких это девок? – насторожилась Любка.
– На таких… Вчерась едет на своем тракторе, а по улице Танька, моя соседка, идет. Идет, из себя корчит, вся как на шиле вертится. Вот он на ее пелился-пелился, чуть было не вывалился из трактору-то.
– Ну и что тут такого? – Любка обиделась. – Посмотреть ни на кого нельзя, что ли?
– Мне-то вовсе бара-бира, – равнодушно сказала Анисимовна. – Пущай хоть на кого пелится…
Немного помолчали.
– Чего-то Валентины седни долгонько нет, – наконец проговорила Анисимовна.
– В огороде, поди, поливает, – ответила Любка, задумчиво глядя в одну точку. – Помочь-то некому, вот и пластается кругом одна.
– Пластатца она, как же, – Анисимовна презрительно оттопырила губу. – С Васькой Прибаткиным пластатца.
– Чего мелешь-то? – оборвала ее Любка. – Не видала, дак не мели языком.
– Добрые люди сказывали, вот и я говорю… Не напрасно он ее три года обхаживал, сдалась вчерась, говорят, как миленькая. Довертела хвостом-то до хорошей жизни: в четыре часа, сказывают, от нее через заплот махнул. Кобель, он есть кобель. Васька-то, путевый давно бы женился на девке… Хохол ить ее бросил и энтот бросит… Мелешь… Люди сказывали, зря не скажут.
– Рот разевай пошире, тебе насказывают, – разозлилась вдруг Любка.
– А ты чего заступаисся, – накинулась Анисимовна. – Чего так шибко заступаисся?
– Глянь-ка, Васька Прибаткин идет, собственной персоной, – фыркнула Любка, повеселев. – Явление Христа народу!
– Шалопай беспутный, – сказала старуха. – Христа-то к ему не припутывай.
– Мы в прошлом году в Москве-то были, – пояснила Любка, – мой, как сдурел, заладил одно: пойдем в галерею Третьяковскую. Картинку, говорит, одну надо посмотреть. Тебе, говорит, как бескультурной, тоже полезно. А это учитель наш его надоумил: посмотри, мол, «Явление Христа народу». Может, и еще чего присоветовал, да мой только одну и запомнил. Три часа простояли в очереди…
– Ну и чего? – спросила Зиночка.
– Чего-чего, посмотрели… Там много разных есть…
– Ну и как она? – не терпелось Зиночке.
– Кто она?
– Ну, это самое… явление?
– Висит, как еще. Так же вот люди сидят, только не у магазина, как мы, а у воды. Кто как… – Любка опять фыркнула, – кто даже нагишом… А потом смотрют – вдали Христос идет. Так все и нарисовано: смотрют, а вдали Христос идет, – она засмеялась, – вон, как Васька, только без прута… Еще икон там много.
– Это чего… гарелея – церква, что ли? – заинтересовалась Анисимовна.
– Это искусство, – почти прошептала Зиночка, с зачарованной завистью глядя на Любку.
Анисимовна с ожесточением сплюнула.
– Привет, бабоньки, – Васька Прибаткин, счастливый и какой-то ошарашенный, подмигнул голубым глазом, мимоходом швырнул в гуся прутом, – чего расселись, как куры на насесте?
– Гусака-то не замай, – сердито глянула на него Анисимовна. – Не твой гусак-от.
– А был бы мой, я б ему шею свернул, – загоготал Васька.
– Ржешь, как жеребец, веселисся, – пробурчала старуха.
– Чего Валентины-то нет? – поинтересовался Васька и сразу как-то посерьезнел.
– А ты чуть свет похмеляться, что ли, к ей? – подковырнула Анисимовна и заговорщически глянула на Любку. Та отвернулась.
– Тебе на язык еще никто не наступал, Анисимовна? – деловито осведомился Васька. – А то я тебе его живо оттяпаю.
– А ты не грозись, больно ловок стращать-от, – насупилась старуха. – А милиция на что? – Она победоносно повертела головой и неуверенно добавила: – Обчественность!
– «Обчественность», – передразнил, улыбаясь, Васька.
– Не лайся, а то живо угодишь куда следовает, – вскипела Анисимовна.
– Хватит вам, – оборвала Любка. – Вон Валентина бежит.
– Ой, извиняйте, ради бога, – Валентина, не глядя на Ваську, с ходу загремела ключами и засовами. – С девками своими замешкалась. Зоенька двойку получила вчера, я к учительнице забегала. Днем-то некогда…
– Знамо, что двойку, – перебила Анисимовна, подымаясь со ступенек. – Без мужика-то, да при такой жизни гляди, ищо ни того дождесся.
Валентина смолкла и открыла магазин.
– Заходите, сейчас я халат наброшу, – она достала из сумки и надела белоснежный накрахмаленный халат, повязала такую же косынку, спрятав под нее пушистые волосы. Сразу стала строгой и торжественной.
– Чего-эт ты седни принарядилась, – хихикнула Анисимовна, осматривая Валентину с ног до головы.
Васька стоял в дверях, опершись головой о косяк. Ворот цветной рубашки расстегнут, шея смуглая, литая, синие глаза – шальные от счастья, тоскуют, зовут. Валентина замешкалась, засуетилась, выпрямилась, глянула на Ваську настороженно, выжидающе, с чувством собственного достоинства. И столько всего хорошего было в его взгляде, что она улыбнулась ему тепло и ласково, как родному. Они молча сказали друг другу то, что им хотелось сказать после долгожданной, пьяной от любви, решающей для обоих ночи…
Васька молча вышел из магазина.
– Чего тебе, Любочка, – ласково и рассеянно спросила Валентина.
– Селедочки мне, покрупнее которая, – Любка поняла их немой диалог и чувствовала себя неловко от того, что помешала.
Валентина склонила зардевшее лицо над бочкой, выбирая в ней крупную селедку.
– Дуры бабы, – загундела себе под нос Анисимовна. – И чего тают от этого бугая Васьки, он вон в прошлом годе Аньку с Крутоярки оманул, брюхата ходит, ревьмя ревет, как белуга. Вовсе девка была, позарилась на его, поганца…
Валентина вспыхнула и уронила нож с селедкой.
– Чего ты опять мелешь, – с досадой сказала Любка, испуганно глядя на Валентину. – И не он это вовсе, нужна она ему больно. У них своих в деревне охальников полно.
– Люди сказывали, и я говорю, – надулась Анисимовна. – Мне-то?! Мне бара-бира… Полкила песку мне свесий, – попросила она Валентину.
Та молча отвесила ей сахар, пряча пылающее лицо. Анисимовна долго копалась в грязном платочке, развязывала, перебирала узелки, наконец, подала деньги.
Любка, растерянно и незаметно оглядываясь на Валентину, вышла из магазина. За ней вышла и Анисимовна. Васька торчал неподалеку, у одинокого тополя, курил и о чем-то сосредоточенно думал. Гусь продолжал стоя спать на зеленой лужайке.
– Распустили скотинку-то, хозявы, – проворчала старуха, пряча кулек с сахаром в черную брезентовую сумку. – Ненароком кто-нибудь шею отвертит.
Анисимовна огляделась и заметила Ваську.
– Чего-эт ты… – начала она, но запнулась, встретившись с отсутствующим взглядом его шальных, излучающих небесную синь глаз. – «Господи, сумашедчий черт, ей бо, сумашедчий!» – подумала она и пошла прочь скорым шагом.









