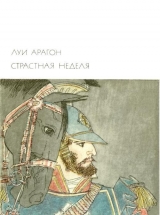
Текст книги "Страстная неделя"
Автор книги: Луи Арагон
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
– Самое страшное, – продолжал Огюстен, – это взгляд. Поднятые вверх глаза кирасира. Глаза, ищущие неба. Пустые глаза.
Если бы вы только знали, кем вы были для нас, для моих ровесников, разве вы разочаровались бы в своём искусстве, господин Жерико, разве бросили бы живопись? И из-за чего, из-за чего, господи боже мой?
Теодор слушает – и не верит. Он не верит ничему в это вербное воскресенье. Его кирасир для него не символ. А некий человек. Человек вообще. Трагический удел человека. В конечном итоге есть только поражение. Пусть другие в мысли о возвращении императора вновь черпают восторги перед знамёнами, залпами, победами. Только не он. Наполеон возвращается, но это уже изживший себя миф, человек, выдохшийся к концу бега, и куда бежит, куда стремится он? К новой бездне? А для Жерико эта ночь станет ночью заранее предугаданного бегства королевской фамилии: в ночи проскачет чёрная кавалькада, и это будет похоже на поспешное бегство воришек под дождём, по незнакомым дорогам. В самом первом наброске он придал своему «Раненому кирасиру» позу «Мыслителя» Микеланджело. Весь свет, сияющий над миром, последние остатки этого сияния сосредоточились в затуманенных кровью и лихорадкой глазах, даже те блики, что лежат на носках сапог и на стали кирасы… А впрочем, к чертям все это и вас тоже!
– Вам, должно быть, известно, какой приём оказали двум моим полотнам в закрывшемся сегодня Салоне. Завтра их отнесут к моему отцу, и он повесит их лицом к стене… Настоящий провал…
Маленький Тьерри воздел к потолку руки. Он был и трогателен, и смешон. Неудача! Провал! Это слово причиняло ему физическую боль, он и слышать этого не желал. Какой двадцатилетний юнец может хладнокровно перенести мысль о провале, поражении, даже если он только что окончил Эколь нормаль и уже представил вместе со своим учителем графом Анри де Сен-Симон обстоятельный трактат во Французскую Академию.
– Поражение! Провал? – воскликнул он. – Да как вы могли ожидать, что разномастное общество, да ещё находящееся в процессе преобразования, состоящее, с одной стороны, из вчерашних избранников, а с другой – из тех, кого изгнали двадцать лет тому назад, сумеет перенести этот страшный диптих славы и поражения, этих близнецов, посланных вами в Салон восемьсот четырнадцатого года, я имею в виду «Офицера конных егерей» и «Раненого кирасира»? Посмотрите-ка, что выставил в Салоне Гро?
Почему вы не написали «Красотку Габриэль» или «Курицу в горшке»? Вас бы до небес превозносили! А вы стали Кассандрой,{40} зловещей птицей, пошли наперекор всем. О каком же поражении может идти речь? Неужели вы не понимаете, что нынче ночью восторжествовали вы?
Жерико покачал головой.
– Беды, обрушившиеся на королевскую фамилию… снова война. Торжествовать вроде бы и не от чего. А вы, выходит, бонапартист?
Огюстен не сразу ответил, от волнения он стал даже заикаться:
– Но… но… вы же отлично знаете, что нет. Король! Будто тут в короле дело! Но он – король, давший хартию. Я же не людей защищаю, а институции. И речь идёт вовсе не о королевской фамилии, но дело её защиты в данный момент – заметьте, в данный момент! – совпадает с делом защиты нации. Другими словами, защиты наших прав и нашей свободы!
– Вот послушайте-ка их, – посоветовал Теодор.
Все посетители кофейни – и штафирки, и солдаты, и женщины, – словно поддавшись какой-то невидимой заразе, пели хором:
«Мы на страже Империи!»
– Нет, вы только посмотрите на Кадамура, – добавил Теодор, – на нашего республиканца Кадамура.
Стоя рядом со своей богоданной дочкой, старый натурщик в расстёгнутом каррике во всю глотку орал песню, театрально взмахивая руками.
Я слышал, как он только что повторял вам давным-давно навязшую в зубах легенду о том, что Бонапарт – де приказал стрелять в народ из пушек с паперти собора святого Рока, – смущённо признался Огюстен. – И подумать только, что так пишется История! Ведь вовсе не Бонапарт, а Баррас велел стрелять в народ, да, кстати, никакою народа там и не было, а было два десятка заговорщиков-монархистов… И все же, как видите, Кадамур – бонапартист…
– Давайте выйдем, – предложил художник, – а то дальнейшее сидение здесь может повредить и вам, голубчик, и мне, а под аркадами галереи свежий ветер прочистит нам мозги, тем более что промокнуть там мы с вами не рискуем…
* * *
И верно, в окружающих дворец галереях, освещённых масляными лампами системы господина Кинкета, порывы влажного ветра не досаждали прохожим; зато сами галереи этим вечером были забиты толпой взволнованных людей, по виду военных, вперемежку с девицами, одетыми слишком нарядно для столь скромного места и столь позднего часа: то и дело мелькали шляпки со страусовыми перьями, расшитые бархатные платья, нелепая смесь зеленовато-яично-жёлтых и вишнёвых тонов, и, как бы назло холодной, сырой погоде, сияли обнажённые плечи и шеи, украшенные ожерельями из настоящих или поддельных, так называемых театральных, бриллиантов… Этим вечером сюда набилась тьма народу, среди степенных буржуа толкались оборванцы, бок о бок с захмелевшими офицерами гуляли чужеземцы, торговцы чернилами явились со своими тележками, шныряли зазывалы, важно прохаживались лавочники и приказчики, пришедшие сюда поразвлечься, фокусник в дикарском головном уборе глотал огонь, а рядом с ним устроилась женщина в лавровом венке и заштопанной накидке, гадавшая на картах, которые она раскладывала на раскрытом и перевёрнутом зонтике, – словом, непереносимо шумная зубоскалящая толпа, где политика и угроза соседствовали с проституцией, где мужчины шёпотом предлагали вам посетить ближайшее злачное место, а местные феи заявляли во всеуслышание: «Скажи на милость, что это нынче вечером с мужчинами стряслось? Меня и трех раз не пригласили, как это тебе понравится?»
– Пройдём в Деревянную галерею, – предложил Теодор Огюстену.
Здесь кинкеты висели на большем расстоянии друг от друга, однако в полумраке, благоприятствовавшем дальнейшим атакам кавалеров, бродила не столь густая толпа. Это, очевидно, объяснялось тем, что капли дождя беспрепятственно сыпались сквозь порванный местами холст, служивший крышей длинному ряду бараков, которые, казалось, увязали в размокшей земле. Деревянная галерея, со стороны «Кафе де Фуа» называвшаяся Жерло, а с противоположной стороны именовавшаяся в просторечии Татарский стан, перерезала надвое тёмный сад непрочным мостом лавчонок, магазинов и строений, вторые этажи которых напоминали не то меблированные комнаты, не то дом свиданий, не то полицейский участок. Здесь красный мундир Теодора не столь бросался в глаза, и, так как почти все встречные девицы уже успели обзавестись кавалерами, молодые люди могли, не боясь игривых предложений, продолжить свою беседу, будто вокруг них никого и не было.
Занятную пару представляли собой эти двое: высокий, худощавый и крепкий мушкетёр в плаще и каске и его юный собеседник, невысокий, коротконогий, с виду настоящий крестьянский парень откуда-нибудь из Блезуа, коренастый, сутуловатый, с волнистой прядью на левом виске и, несмотря на свои двадцать лет, уже начинавший лысеть, чего не могла скрыть сбитая набок фетровая шляпа. Теперь говорил Теодор. Говорил так, как никогда прежде не говорил, словно одинокий бродяга в глухом лесу. Даже с теми, кого он хорошо знал, даже с ближайшими своими друзьями, Жозефом и Орасом, даже с юным Жамаром он не мог бы говорить так. А этот Огюстен, точно с неба свалившийся, представлялся ему не реальным существом, но тенью, отсветом; вот началась эта ночь, и совершенно неожиданно все, что накипело на сердце, вылилось в словах. Два случайно встретившихся человека шагали взад и вперёд по Деревянной галерее под протекающей холщовой крышей, поддерживаемой балками, не обращая внимания на толкавших их людей, не глазея на витрины, за которыми молоденькие работницы, сидя на высоких табуретах лицом к публике, заканчивали в этот поздний час срочные заказы: их необходимо было сдать к утру, ибо, независимо от того, улизнёт король или нет, не могут парижские щеголихи остаться без весенних шляпок.
Теодор говорил, говорил, говорил О чем говорил он? Хотя юный Тьерри внимал ему затаив дыхание, трудно утверждать, что он действительно понимал то, что слышал, мог связать мысли Жерико в единое целое, полностью улавливая их смысл. Примерно то же самое происходило с ним, когда он впервые ребёнком попал в театр. Тогда ему минуло всего восемь лет, и приятель его отца, господин Метивье, владелец театра в Блуа, не имевшего постоянной группы, пригласил как-то в свою ложу семейство Тьерри на оперу, которую разыгрывали странствующие актёры. Было это при Первом консуле, сразу же после нашего разрыва с Англией. Давали «Кастора и Полидевка» Кандейля: композитору в ту пору было под шестьдесят, и он не побрезговал стариком Рамо,{41} снисходительно позаимствовав из его оперы две-три арии. Все казалось чудом, там были леса и скалы, актрисы в кринолинах с подборами пели трогательные песенки, а на актёрах, с перьями на голове и копьём в руках, блестели золотые перевязи, украшенные огненными солнцами. Ни на одну минуту у мальчика не было ощущения, будто он не понимает того, что происходит на сцене, – все при свете плошек складывалось в единое и стройное целое; на первом плане там была дама, и господин Метивье объяснил, что она – вроде Дюгазон. Что это означало? И почему владелец театра назвал этого красавца странным словом «Тенорок»? Впрочем, на вкус господина Метивье, Эльвю был гораздо лучше. Огюстен так и не мог разобраться, кто из этих полуголых господ в перьях был Эльвю. Но какое это имело значение? Щеки у него горели огнём, голова кружилась, и под звуки музыки на глаза навёртывались сладкие слезы. Ибо скрипки – это нечто невообразимо прекрасное.
Этим вечером в Татарском стане речь Жерико была полна для юного сен-симониста своими эльвю и дюгазон. Теодор говорил о живописи как живописец, и упоминаемые им картины сменяли друг друга, подобно картинам оперы, когда для слушателя логическая связь подменяется музыкой и он переходит от одной бравурной арии к другой, не успевая сообразить, что связывает их, о чем, в сущности, толкует либретто. Огюстен слушал имена художников – вехи вдохновенного рассказа Теодора, – как некогда в детстве слушал восторженные речи господина Метивье, рассказывавшего Тьерри – старшему о мадемуазель Арну или госпоже Сент-Юберти. Он вспоминал, что мадемуазель Арну, по словам Метивье, была обязана своей карьерой тому, что принцесса услышала на страстной неделе, как она пела литанию в одном из парижских соборов. И, внимая Теодору, Огюстен не мог не думать, даже не вникая в подлинный смысл его слов, что он тоже слушает литанию, и ему казалось, что вокруг чела рассказчика встаёт тёмный нимб.
О ком говорил Жерико? О себе или об одном из тех признанных мэтров, которых он скрепя сердце копировал без устали, как будто долго что-то о них выведывал, а потом в течение десяти-двенадцати дней писал в своей собственной манере картину, которую обзывали топорной, грубой? Все то плохое, что думал он о Наполеоне, об этом самовлюблённом тиране, повинном в стольких смертях, меркло, по сути дела, перед чувством благодарности за создание Лувра и за картины, вывезенные из Италии. Что поделаешь, если это награбленное добро! Но тот художник, о котором он говорил сейчас, был похож на него, Теодора, как огромная тень походит на человека, чьи затаённые трагические мысли она выдаёт, превращая обычный жест руки в некий театральный взмах дланью. Вдруг перед внимательно слушавшим Тьерри слова художника предстали с особой отчётливостью, как будто переменился источник света.
– Разве можно верить критикам? – говорил Теодор. – Как-то, роясь в старых бумагах моего дяди, живущего в Нормандии, я наткнулся на несколько поэм одного поэта, о котором не упоминают из-за постигшей его судьбы. Это брат Мари-Жозефа Шенье.{42} На мой взгляд, у нас нет никого, кроме этого бедняги, посланного якобинцами на гильотину – я охотно верю, что он затевал против них заговоры, – нет никого, кто бы так глубоко и смело проник в таинственное царство поэзии… Что же говорят о нем люди искусства? Можно было надеяться, что, несмотря на весь тот хлам, в который обрядили наши писаки восстановление королевского дома, они все же найдут по справедливости местечко для Андре Шенье. Как бы не так, полнейшее молчание. Наши рифмоплёты, представители традиции, торжествующие ныне, начинают испуганно вопить при малейшем упоминании о Шенье, которого считают повинным в излишних вольностях, и, хоть сами они заядлые роялисты, предпочитают ему Мари-Жозефа. Бедный Андре, жертва гильотины и критиков-мракобесов, они травят его даже в могиле за то, что он позволял себе лишнее в стихах, дабы сказать то, что хотел сказать. А вы только послушайте, что они говорят о нас, художниках: тут и «непростительные ошибки», имеющиеся в наших картинах, и недостатки отделки, и небрежность в написании дальнего плана, да и картина, по их мнению, не картина, а набросок, и то, что мы писали с упоением, с восторгом, для них – рыночный товар…
Огюстен вполне понимал горечь, звучавшую в словах Теодора: ведь он и сам с гневом и яростью прочёл в «Салоне» за 1814 год статью, где утверждалось, что «Раненый кирасир» всего-навсего лишь эскиз, и где автору рекомендовалась умеренность и большая тщательность отделки. Но Теодор уже унёсся мыслями в Италию, где он обнаружил того художника, о котором начал говорить.
– И его, – говорил он, – и его тоже разве мало упрекали за недостаточность отделки, за тяжеловесность, обыденность, за то, что давал себе слишком много воли? И разве без конца не твердили, что он пишет только эскизики? Что его таланту – в этом они не могли ему отказать – недостаёт корректности?
Художника поносили за его мрачный нрав: мол, потому-то он и перегружает фигуры и предметы тенями, почти не освещает их или освещает только сверху, из духа противоречия пишет тёмные фоны, лишает своих персонажей нюансов, не даёт гаммы тонов и размещает их всех как бы в одном плане, на фоне беспросветного мрака. Аббат Ланци говорил, что его персонажи заключены в тюрьму, что нет у него ни чёткости рисунка, ни умения отличать прекрасное… Но ведь художнику вполне хватало правды, и по этой причине он меньше всего заботился о приукрашивании своих картин, потому-то и обходился без всяких драпировок, без нарочитого подражания греческим статуям! Не слишком ли черно, твердили ему, жизнь не такова. В Лувре висит одно замечательное полотно этого великого художника – «Успение Богородицы», помните? Никогда ему не простят, что он изобразил не какую-нибудь принцессу на ложе под балдахином, с кокетливо откинутым пологом, и вокруг неё служанок в полупрозрачных одеяниях, а написал на смертном одре женщину из народа, и мы видим на её лице все муки долгой агонии – тут и капли пота, никем не осушаемого, и сероватый оттенок кожи, и восковая бледность ноздрей, и следы страданий, изуродованное болезнью тело. У неё вздутый живот, и священники отказались поместить картину в Санта Мария дел ла Скала, в алтаре, украшение которого затем поручили Франческо Манчини: над дарохранительницей из драгоценных каменьев, да ещё с колонками из восточной яшмы, грешно помещать картину Караваджо,{43} изобразившего, по их уверениям, какую-то раздутую водянкой бабу, и лучше уж, твердили они, не думать о том, где он искал для неё натуру! А я вам скажу, где искал: искал в больнице, где оканчивает свою жизнь большинство людей, или в морге – именно здесь можно узнать всю правду о человеке, а вовсе не на подмостках, где парадно и в полном благолепии испускают дух благородные господа. Слишком, видите ли, черно! И говорят это по поводу смоляно-чёрного фона, непроглядного мрака, а что без него, я вас спрашиваю, что без него цвет, освещение, да и не только в живописи, а во всем, что может быть передано красками? Ибо священникам хотелось, чтобы уж, если Пресвятая Дева проставляется, то пусть в её кончине непременно будет заключена идея «преображения», пусть в самом трупе её чувствуется лёгкость грядущего «вознесения».
Вот чего они ждут от нас, художников, и упрекают нас, если мы на это не идём. Нам вменяют в обязанность быть преображателями. То ли Богородицы, то ли Наполеона – неважно. Ах, придёт же наконец такое время, когда нам руки будут целовать за то, что мы сумели увидеть где-нибудь на ярмарке, в толпе, в трущобах человеческую правду, площадную правду! Тогда нас не будут изгонять из храмов или из тех мест, что заменят храмы, за буйство наших чувств, богатство формы, голые страсти, за искусство, которому плевать на все существующие условности, ибо единственная его цель – это человечество! Тогда от нас не потребуют, чтобы, видя страждущего, истекающего кровью человека, мы изображали рай, якобы открывающийся взору умирающего, или бога, или трианонские идиллии,{44} или блага Наполеоновского кодекса!
Сейчас Огюстен, слушая Теодора, напоминал человека, который прохаживается по галереям Лувра, преисполненный чувства глубочайшего уважения к живописи и ко всем этим голландским или итальянским мастерам, но с трудом отличает одну от другой все эти картины, одинаково блестящие от лака, в одинаково богатых тяжёлых рамах. Он не помнил «Успения Богородицы», даже имя Караваджо услышал впервые. Ему вдруг захотелось узнать о художнике побольше. И он сказал об этом своему спутнику.
А Жерико продолжал говорить в полумраке Пале-Ройяля, где все, что окружало их, было до карикатурности пошлым, и извлечь отсюда прекрасное не всякому дано. Огюстен видел заношенное до дыр платье, лицемерие, написанное на лицах, следы пороков и преступлений, наложивших свою печать на этих людей, видел разжиревшие от обжорства или иссохшие тела, приметы серенького существования во всем облике прохожих: отсутствие свежего воздуха в тесных жилищах, воды для ежедневных омовений, усталость, накопленную днями и неделями изнурительного труда, страшную цену каждой вещи. Он видел сложный сплав социальных условий, в силу коих смешались в одну кучу продажные подражатели свергнутой аристократии и солдаты, разочарованные эпопеей, от которой остались лишь раны да вот эти залоснившиеся мундиры; они были во дворце, принадлежащем принцам, из которых предпоследний голосовал за смертный приговор своему кузену королю, на том самом месте, где стояли когда-то конюшни Орлеанского дома, и каким-то ноевым ковчегом представала эта Деревянная галерея, тянувшаяся через сад от крыла Монпансье до крыла Валуа, где все смешалось в эту дождливую ночь: жалкий сброд, и полиция, и поруганная слава, и революция, и похоть, и нестройные мысли, рождённые этой сумасбродной ночью марта 18)5 года.
Жерико говорил о Караваджо и о его трудной жизни. О том, как этот художник, поднявшийся из низов, писал, приноравливаясь ко вкусам своего времени, и как Арпино, дававший ему работу, использовал его в качестве подмастерья, заставляя рисовать на картинах, которые подписывал своим именем, орнаменты и цветы. В Санта Мария делла Скала посреди хоров висит Богоматерь работы Арпино, и в ней есть все то, чего недоставало Богоматери Караваджо. Кто знает, не работал ли он, изгнанный впоследствии из храма, потихоньку на своего нанимателя? Но когда он писал для себя, он, который с гордостью именовал себя Naturalista[12]12
Натуралист (итал.)
[Закрыть] – новое в те времена слово, полное ярости и вызова, – он отрекался от венецианской сладости, какой проникнуты его первые картины; и, взяв от Джорджоне только его изумительные тени, он влюбился в контрасты и видел в них основной принцип искусства и самую плоть живописи.
– В восемьсот одиннадцатом году я копировал «Положение во гроб», – говорил Теодор, – и благодаря этому сумел проникнуть в душу Караваджо. Но не знаю даже, что больше восхищает меня в его уроках: закон ли противопоставлений или же самый выбор сюжетов. Все у него прямо противоположно тем женщинам, высший идеал коих – слой румян на щеках. Красота – это нечто тайное, а отнюдь не назойливое. Он писал убийства, ночные злодейства, пьянство, таверны, распутников на углу улицы, он не придумывал пышных одежд своим персонажам из народа, не превращал их в ангелов или в королев, и жизнь его была подобна его живописи, вихревая жизнь. На каждом шагу к этому вихрю примешивался вихрь опасности, потому что он изображал жизнь дна и сам вторгался в эту жизнь. Чего только о нем не наплели!
Кто знает, с какими шайками проводил он на самом деле свои ночи на земле, он, создавший ночи на полотне, из мрака которых торчат волчьи зубы его забубённых дружков, и свет ночных факелов кладёт блики на голое человеческое тело? Рим не сохранил ничего из этих проклятых картин, созданных его блудным сыном. Он покинул столицу Италии после того, как во время игры в мяч убил в приступе запальчивости одного из игроков: он не терпел плутовства. В Неаполе, где он встретил мальчика Рибейру,{45} своего ученика, царила в ту пору живопись Велизария Коренцо, грека, вдохновлявшего, по слухам, Арпино в дни его юности. Но ему пришлось уехать и из этого города, где господствовала мода на «красивость» и где даже Рибейра предал учителя ради «рафаэлизирования». Слишком черно, слишком черно, бедный мой Караваджо! Что ж, садись на корабль, который доставит тебя на остров, ибо художник там – чистая находка, до того осточертело островитянам зевать и глядеть на море, поджидая редкого паруса, да и то в кои веки. В удивительном поселился он краю… Представляю себе остров Мальту в шестнадцатом веке под владычеством странствующих рыцарей, осевших здесь, по соседству с испанцами и турками, – случайные властители народа, не особенно-то обожавшего своих господ, но все же предпочитавшего их оттоманским захватчикам. Ко времени приезда Караваджо на Мальту рыцари совсем истомились от безделья, ибо вот уже тридцать лет Турция не предпринимала вылазок. А народ ещё больше к ним остыл. Сначала рыцари привязались к изгнаннику и даже подарили ему несколько рабов-мусульман. Во время какой игры повздорил на сей раз Караваджо с тамплиером? Если, как утверждали, свет на его картинах подобен тюремному, то теперь он имел случай проверить это на личном опыте. А это не шутка – попасть в узилище на острове Мальта примерно в тысяча шестисотом году! Говоря), что Караваджо обладал недюжинной силой и был так же смугл кожей и чёрен волосами, как его картины. Каким образом попал он в Сицилию? Вряд ли ему могло там понравиться, и, насколько мне известно, в Сицилии нет и следа его живописи. Рим был слишком близок, и ни Палермо, ни Мессина, ни Сиракузы не могли его удержать. Но когда он высадился из фелюги на берег где-то около Порто-Эрколе, итальянская стража схватила его, правда по ошибке, приняв за кого-то другого. Снова он высокомерно встретил тюремный мрак. Когда же его наконец выпустили и он, полуголый, ринулся на берег, надеясь разыскать фелюгу, где оставалась вся его одежда и пожитки, лихорадка, косившая в те времена жителей Неаполитанского королевства, уже подкралась к своей жертве. На берегу не было ни капли тени, и одинокий, полураздетый человек стоял под палящими лучами беспощадно жгучего южного солнца, от которых никуда не скроешься… Пылая в лихорадке, не видя ниоткуда помощи, он упал на песок, и в горячечном бреду наконец-то ему открылся тот залитый светом мир, изображения которого требовали от него люди с тонким вкусом; умер он вскоре после того, как его подобрали…
Можно было подумать, что дождь нарочно льёт как из ведра.
Суматоха в Пале-Ройяле казалась особенно нелепой и подчёркнуто смешной хотя бы потому, что люди, вбегавшие под аркады и в галереи, были насквозь мокры, волосы прилипли ко лбу и щекам, платье измялось, и каждый переходил от страха перед завтрашним днём к надежде. Обрывки доносившихся до Теодора разговоров сливались в немыслимую смесь – какие-то воздушные замки и кошмары, – наступал день сведения счётов. Тут были те, кто не совсем ещё уверился, что уже пора менять шкуру, кто больше всего боялся, что не сумеет этого сделать. Были тут и охотники ловить рыбку в мутной воде, и люди, которые при всех случаях считали необходимым взять реванш, и мужчины под хмельком, и простой люд в том особо весёлом настроении, которое овладевает им, когда он видит вековечную и кровавую игру сильных мира сего и их взаимоистребление.
– Что вы все-таки собираетесь делать, господин Жерико? – спросил Огюстен. – Если король решит бежать, вы последуете за ним?
Вместе с порывами ветра в саду кружилась ночь и раскачивались висевшие под аркадами кинкеты. Завтра утром в Новые Афины отнесут «Офицера конных егерей» и «Раненого кирасира», которых как раз сейчас снимают со стены Салона. Когда перестанет дождь, Орас Верна, быть может, заглянет к приятелю, не скрывая ликования по поводу возвращения своего корсиканского кумира, но также и затем, чтобы послушать рассуждения Теодора о живописи. А там, в аллее, когда он пойдёт провожать Ораса, кто знает, не покажется ли в дверях греческого храма молодая креолка, просто выйдет подышать воздухом и увидит их.
Каролина…
– Нет, – ответил Теодор. – Людовик Восемнадцатый может отправляться, куда ему угодно. Я лично остаюсь.







