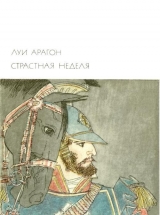
Текст книги "Страстная неделя"
Автор книги: Луи Арагон
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Возлюбленная князя Ваграмского, «безумие маршала Бертье», как называл её Наполеон, сильно изменилась с конца века, с той поры, когда Жак-Этьен познакомился с ней в Париже, – тогда её официального любовника, маршала Бертье, который устроил её супруга, господина Висконти, послом Цизальпинской республики,{63} не было в столице, ибо он участвовал в Египетском походе. К тому времени Макдональд уже вдовствовал в течение полутора лет после смерти своей первой жены, Мари-Констанс, и, возвратившись из Италии, ещё не совсем оправившийся после ранений, угрожавших чахоткой, питался по тогдашнему последнему слову медицинской науки одним салом да молоком. Поэтому лицо его приобрело, как говорится, интересную бледность, и он со своим вздёрнутым носом приглянулся госпоже Висконти, которая не могла и не желала довольствоваться письмами, шедшими из Египта, хотя Александр Бертье на полях своих лирических излияний набрасывал довольно-таки скабрёзные рисуночки. В её обществе Жак-Этьен скоро забыл все свои горести и неприятные приключения с генеральшей Леклерк, Полиной Бонапарт,{64} послужившие для него впоследствии причиной долгой немилости у императора. Хотя тогда Джузеппа достигла уже зрелого возраста, она вполне могла затмить блеском красоты девятнадцатилетнюю Полину Бонапарт. Господина Висконти как бы и не существовало вовсе, и особняк Тессе на набережной Вольтера, прекрасный и огромный особняк, роскошь которого меньше всего объяснялась дипломатической деятельностью посла Цизальпинской республики, предоставлял хозяину дома полный простор для всевозможных развлечений. Как ни был прекрасен особняк на улице Виль-д'Эвек, где госпожа Леклерк могла чувствовать себя совершенно свободной, благо сам генерал находился по делам службы в Англии, все же в её доме казалось по-мещански тесно: куда ни повернись, наткнёшься или на Бернонвиля, или на Моро – оба строили хозяйке куры. Это уж попахивало драмой: Моро с его республиканскими взглядами, с его вечной трубкой-носогрейкой и его претензиями – куда бы ещё ни шло, черт с ним совсем!
Другое дело Бернонвиль. которому Жак-Этьен был обязан буквально всем… Впрочем, не он ли, Бернонвиль, инспектор английской армии, как его называли, угнал в Англию супруга Полины?
Это давало ему известные права, и даже право лгать… Итак, госпожа Висконти позволяла себе кое-какие причуды. С тех пор прошло без малого шестнадцать лет, а такой срок неизбежно сказывается на внешности. С годами римская красота Джузеппы огрубела, и сейчас, в первых лучах зари, лицо её казалось болезненно бледным, особенно по сравнению с не тронутыми сединой иссиня-чёрными волосами, разделёнными на прямой пробор и спущенными на лоб двумя крупными волнами. Но в ней до сих пор чувствовалось то обаяние, под власть которого попал, и. видимо, навсегда, коротышка Бертье.
Джузеппа немножко присюсюкивала, успех её отчасти объяснялся округлостью шеи, ставшей ещё более пухлой от чуть заметного, еле начинавшего расти зоба. что так волнует многих мужчин, а художникам нравится именно из-за мягкости линий.
Несмотря на возраст – Джузеппе минуло уже пятьдесят четыре года, – на лице её не было морщин. Возможно, объяснялось это неестественной неподвижностью черт – единственный след маленькой катастрофы, перенесённой в прошлом году, не считая некоторой скованности движений левой руки. Врач утверждал, что она слишком сильно шнуруется и отсюда все беды – как вам это нравится!
Сняв свои длинные, насквозь промокшие перчатки, госпожа Висконти поднесла их к огню. Если бы она повиновалась лишь голосу собственного чувства, ни за что она не покинула бы Парижа. Но князь Ваграмский… Джузеппа никогда не называла Бертье иначе чем князь Ваграмский, разве что в интимной обстановке, когда она говорила ему просто Сандро… Итак, князь Ваграмский (поскольку, после того как он лишился княжества Невшательского, неудобно было именовать Бертье «светлейшим»), так вот, князь Ваграмский вихрем ворвался к себе на улицу Нев-де-Капюсин – было уже около десяти вечера – и не успел сразу заглянуть к ней, в её дом на бульваре, хотя это буквально в двух шагах, ведь требовалось ещё привести в порядок бумаги, уладить кое-какие личные дела. Надо сказать, он ещё во вторник отправил в Бамберг Марию-Елизавету с детьми: госпожа Висконти всегда говорила «Мария-Елизавета» и ни разу в жизни не назвала её ни княгиней Ваграмской, ни принцессой Баварской… о, вовсе не из ревности, боже сохрани!.. просто она не прочь была подчеркнуть свою близость и дружбу с племянницей баварского короля и молодой супругой своего старого любовника. Люди болтали по этому поводу невесть что, равно как и по поводу того, что жила она на бульваре Капуцинок, в особняке, непосредственно примыкавшем к дворцу маршала, и маршал пробирался к ней через маленькую калиточку в глубине сада. Ну и пусть себе болтают! Самому Наполеону не удалось разлучить их, хотя он женил пятидесятичетырехлетнего князя на девице тридцатью годами моложе его. Итак, Мария-Елизавета с детьми и гувернанткой отбыла во вторник и, если все обошлось благополучно, должно быть, уже добралась до места назначения. Надеюсь, вы понимаете, что он не мог оставить в Париже, как раз в тот момент, когда формировался Мелэнский лагерь, жену. которая тогда не то уже родила, не то должна была родить третьего ребёнка. Прелестнейшая девочка! Её, как и маму, зовут Елизаветой. Мальчику пять лет, старшей дочке – три. Так что все это более чем понятно. Детям будет гораздо лучше с дедушкой и бабушкой.
– Нам выпало пять свободных вечеров, целых пять вечеров вдвоём, как когда-то. Вы знаете, мы с Елизаветой очень-очень дружны. Конечно, втроём вполне можно играть в вист, и все же…
А тут пять долгих вечеров, за окном непогода, ветер свистит в ветвях, и мы, как старая супружеская пара, сидим рядом, спокойно, тихо. Я почти забыла своё горе.
Макдональд почтительно наклонил голову, как бы говоря:
«Знаю, знаю…» Немногим более года назад Джузеппа потеряла своего сына Луи, барона Сопранси, умершего от ран. полученных под Лейпцигом. Возможно, это было более важной причиной её болезни, нежели тугая шнуровка… но доктора не верят, что моральные страдания могут влиять на сердце.
– Если бы вы только знали, – говорила госпожа Висконти, – если бы вы только знали, какой год я прожила в своей квартире на бульваре Капуцинок… Ведь у меня прямо над головой помещалась холостяцкая квартирка Луи, вы, надеюсь, понимаете… Если бы вы только знали, какой это был мальчик. Да, да, вам он был известен как офицер безупречного поведения… И находятся же злые люди, которые смеют утверждать, будто его продвигал по службе князь Ваграмский, будто благодаря ему Луи получил генеральский чин!
– Так говорить может только тот, – ответил Макдональд, – кто не был в Аустерлицком деле и не видел, как барон захватил личного адъютанта царя! Или в Ольмюце в тысяча восемьсот девятом году, когда он доставил маршалу герцогу Беллюнскому семь знамён и взял более пяти тысяч пленных…
– Я и говорю, что люди злы… Правда, он обожал, прямо обожал князя, относился к нему как к родному отцу. Ведь он не знал господина Сопранси. Но его уголок там, у нас, на бульваре Капуцинок… Подумайте только, когда он был в России, лежал там раненый в восемьсот двенадцатом году, он писал мне о своей квартирке, о том, в каких она нуждается переделках, говорил о расположении комнат, о занавесях, распорядился насчёт нового драпировщика… потребовал, чтобы его книги переплели на английский манер, просил, чтобы обязательно сделали золотой обрез и на переплёты пустили мраморную блестящую бумагу. Ах, бедный мой друг, теперь я захожу в его пустую комнату, открываю машинально книгу… Вы знаете, у него была просто страсть к стереотипным изданиям… да, да… с золотым обрезом…
От генерала Гюло принесли на подпись бумаги.
– По-прежнему ничего нового?
– Ничего, господин маршал.
Макдональд повернулся к камину, пламя которого бросало на лицо его гостьи трагические отсветы.
– Стало быть, это Александр просил вас уехать?
– О нет. Он об этом даже не подумал. Просто взял и уехал, как всегда уезжал, когда дело касалось какой-нибудь войны, кампании, как уехал, скажем, в Россию с императ… – Она прикусила язычок, – …с Бонапартом… и один бог знает, что я пережила, что мы с Марией-Елизаветой пережили, когда у него начались приступы ревматизма… Вы-то знаете, что это за прелесть!
– Ничего не поделаешь, таков уж недуг нашей эпохи, – отозвался Макдональд, – король тоже им страдает. Но в его случае Березина здесь ни при чем. Хотя и мы с Александром не можем её винить, скорее уж это оставила по себе память Италия или Голландия. Впрочем. Александру разлука с вами всегда давалась нелегко, даже когда речь шла о походах. Помню, как бесновался Наполеон, когда пришлось упрашивать Бертье отправиться в Египет!
– Ну, тогда мы были моложе… Да и вы также, – заметила она и умолкла; потом снова заговорила: – Но на сей раз когда-то он вернётся? Что с ним будет? Между нами говоря, я насильно навязала ему свои бриллианты, все-таки легче будет устроиться, прожить. Конечно, он может укрыться в Баварии у родителей Марии-Елизаветы, если король… А вы верите, что король?..
Макдональд уклончиво пожал плечами. Однако этот жест был равносилен признанию. Госпожа Висконти воскликнула: «Ах, вот как?» – и задумалась. Но уже через мгновение её вновь подхватило потоком слов. Дело ведь шло о жизни, о целой жизни!.. Не о неделе, не о дне! О жизни! Оставить его одного после семнадцати лет, когда они так привыкли друг к другу… Да, да. семнадцать лет. Александр сказал ей вчера вечером: если даже он поедет в Бамберг, все равно долго там не пробудет, да и Мария-Елизавета тоже; она просто задохнётся в этой провинциальной Баварии! При первой же возможности они переберутся к себе в имение, или в Гро-Буа. или в Шамбор. Но пустят ли их туда? Как знать? А она, она сначала даже не подумала, даже представить себе не могла!
Покинуть бульвар Капуцинок! Но его величество отбывал в полночь. Что тут оставалось делать, как быть? Со всеми вещами, туалетами! Впрочем, она и не могла пуститься ночью в дорогу, где это видано! К тому же она принадлежит к числу тех натур, которым необходим сон, а она неспособна, буквально неспособна хоть на минуту забыться сном в карете. Поэтому она отпустила князя Ваграмского, навязав ему свою шкатулку с драгоценностями. Кроме того, целая карета с багажом отправилась к воротам дворца, чтобы занять своё место в королевском поезде, но, когда она осталась одна, без него, когда представила себе весь ход событий, будущее… тут она поняла, что не имеет права так поступить – оставить его одного, оставить их одних, особенно в подобных обстоятельствах… Вот поэтому-то она и поехала за князем, чтобы соединиться с ним, где бы он ни был: надо надеяться, что он пока ещё не добрался до Бамберга. Все это она решила ночью, решила вдруг, дождалась рассвета, а на рассвете ещё сильнее укрепилась в своём намерении. Но почему именно Лилль? Что за мерзкий город! Не мог же король очутиться там за один переезд! Где ночевал нынешней ночью двор?
Макдональда все это развеселило, однако он тут же поборол приступ неуместной весёлости. Двор! Пара герцогов. принц да тройка лакеев… ибо весь остальной королевский кортеж, надо полагать, застрял в дороге из-за отсутствия перекладных… и это вы называете двором?
– Затрудняюсь ответить на ват вопрос, сударыня, это зависит от многих причин: и от состояния дорог и от почтовых лошадей. Сначала король намеревался остановиться на ночлег в Амьене, но, возможно, по пути переменил решение. Мы не особенно-то уверены, должен вам сказать, в нашем префекте департамента Соммы, в господине Ламете… На вашем месте, сударыня, я спешно и любым путём отправился бы прямо в Лилль. Вы вернее всего обнаружите Александра именно в Лилле.
У госпожи Висконти была просьба к Жак-Этьену. Он, конечно, не откажет… В чем же дело? А дело в том, что в карете она оставила свою горничную и теперь просит, чтобы горничной разрешили пройти сюда. Хорошо, а где карета? Макдональд приоткрыл двери. И тотчас в коридоре послышался топот – это приезжие бросились к маршалу, ибо каждый желал поговорить с ним лично. Пришлось выйти, успокоить, образумить людей, оставив госпожу Висконти одну.
Но первым делом в успокоении нуждался он сам. Исчезновение штаба выводило его из себя, бесило. Ну хорошо. Мезон ему сообщил, что он догонит свои войска в Сен-Дени, поскольку герцог Беррийский заявил ему, что их повёрнут именно в этом направлении. Но что с другими, с теми, кого герцог Беррийский не успел повидать Мезона назначили главнокомандующим, а потом все начали командовать, выносить решения, передвигать войска, садиться в кареты и уезжать кому куда заблагорассудится! Мелэнская армия, бесспорно, должна отступить, прикрыть передвижение королевского поезда, но только тогда, когда ей это прикажут, черт побери! А когда ей это прикажут? Жак-Этьен отправился сначала в Вильжюив на поиски своего штаба, он сам туда его направил. И что же? В Вильжюиве в одиннадцать часов вечера не оказалось никого. Ну, никого – это уж слишком сильно сказано, там были генералы Аксо и Рюти, одни, в каком-то огромном доме, а рядом на лугу стояли три пушки, и тут же был расквартирован взвод сапёров, успевших напиться в соседнем кабачке до положения риз. Рюти он взял с собой в Сен-Дени, но и в Сен-Дени, как и в Вильжюиве, штаба не обнаружил. Там ждал его один только Гюло, прибывший с маршальскими пожитками и находившийся в таком же растерянном состоянии духа, что и Макдональд. Однако ж передавали, что где-то поблизости, в одном из реквизированных особняков, расположилась канцелярия чьего-то штаба, возглавляемая каким-то капитаном. Услышав об этом, Макдональд и направил своего адъютанта на разведку.
Адъютант возвратился как раз в тот момент, когда маршала разрывали на части беглецы, толпившиеся у входа в харчевню.
Особенно наседал тенор Опера-Комик, считавший, что он имеет право и все основания бояться возвращения императора, а также с полдюжины дам и старичков, одетых по моде, существовавшей в 1810 году в Хартуэлле или даже пятью годами раньше в Митаве: целые семьи сидели у подъезда прямо на своих узлах, хныкали ребятишки, какие-то молокососы вели речи о Людоеде, и слышно было, как в ответ им огрызаются офицеры на половинном содержании.
– Ну, что же вам сказал этот капитан? – спросил Жак-Этьен вошедшего адъютанта.
Адъютант не пожелал отвечать на такой вопрос в присутствии посторонних. Они прошли в кабинет.
– Творится чистое безумие, господин маршал, – начал он, – все эти генералы, полковники – фюйть!.. исчезли… как ветром их сдуло! Но успели все же… – он запнулся, заметив у камина незнакомую даму.
– Можете смело говорить в присутствии госпожи Висконти, – начал было Макдональд и вдруг увидел, что его гостья бессильно запрокинулась в кресле и длинные её перчатки, упав в огонь, уже стали тлеть. – Боже мой. что с вами, Джузеппа? – Он назвал её по имени, как в былые времена.
Джузеппа не слышала, она была без сознания. Маршал и адъютант бросились к ней, стали похлопывать её по ладоням, она застонала, открыла глаза, обвела комнату невидящим взглядом.
– Скорее лекаря! – скомандовал маршал, и адъютант опрометью кинулся выполнять приказание.
Было все-таки нелепо и совсем некстати, что в такую минуту в его импровизированном штабе могут увидеть женщину, потерявшую сознание. Он старался не думать, что дело может принять серьёзный оборот – не то чтобы он питал к госпоже Висконти или к Александру Бертье такие уж горячие чувства… но все-таки, все-таки, и, хотя люди, осведомлённые об их романе со всеми его перипетиями, насмешливо улыбаются, все-таки перед ним живое свидетельство многолетней верности, столь редкой во времена Империи… пусть у Джузеппы были мимолётные увлечения… пусть Александр женился на другой… по приказу императора. Не без душевного умиления вспомнил Макдональд расстроенное лицо Бертье, когда через две недели после кончины мужа Джузеппы, бывшего посла Цизальпинской республики, он скрепя сердце повиновался Наполеону и женился на Баварской принцессе… а любовь – ведь известно, что нынешние люди ни во что не ставят любовь, возможно потому, что утратили способность любить, – вечно в погоне за деньгами, вечно в делах… Зато они, солдаты Жеммапа, они умели во все вносить величие… А пока что у него на руках дама в обмороке и войска никак не подойдут! Оставаться и ждать их здесь? А где граф Артуа, где герцог Беррийский и Мармон… где-то они сейчас? Где сейчас король? Доктор прибыл с поразительной быстротой: должно быть, находился в том доме, где одна из фрейлин герцогини Орлеанской, направлявшейся в Лилль к своему брату, герцогу Орлеанскому, почувствовала вчера с наступлением вечера родовые схватки и была покинута на произвол судьбы. Доктор успокоил маршала Макдональда: у госпожи Висконти небольшой сердечный припадок, ничего серьёзного нет, во всяком случае, сейчас ничего серьёзного нет, и велел перенести больную в комнату на втором этаже.
– Пусть пойдут и разыщут её горничную. – приказал Макдональд, – она сидит в карете здесь, во дворе. – И, повернувшись к адъютанту, добавил: – О чем вы начали рассказывать? Нас прервали…
Адъютант зарделся. Госпожа Висконти показалась ему настоящей красавицей. Юноша обожал слегка перезрелых дам, глаза, обведённые глубокой синевой, кроме того, он слышал о великой любви маршала Бертье к итальянке, привезённой им в Париж, да и вообще он был по духу романтик. Этот обморок… эта прекрасная полная шея…
– Я рассказывал. Ах да, все генералы и полковники проследовали через город, вы только вообразите себе. господин маршал.
И все расписались в том, что проследовали, я сам видел их подписи, мне капитан показывал…
– Расписались в том. что проследовали? Что это вы за чушь порете? Не знаю, может быть, вид упавшей без чувств дамы всегда приводит вас в такое состояние, но, так или иначе, вы, на мой взгляд, крайне взбудоражены!
Адъютант подёргал себя за ус: вовсе не госпожа Висконти привела его в такое состояние, а благородный гнев. Весь Генеральный штаб вечером девятнадцатого числа, прежде чем исчезнуть в неизвестном направлении, в полном составе появился в канцелярии и потребовал своё жалованье и. что уже совсем невероятно, «деньги, полагающиеся штабным при начале кампании», да, да, именно так. Где они теперь? Должно быть, на дорогах, в каретах, удирают к границе или к морю, предварительно обеспечив себя тем, что принято называть «нервом» войны!
– Ладно, ладно, поручик, – прервал его Макдональд. – Прежде всего научитесь не осуждать старших по чину. В один прекрасный день этим господам придётся отчитаться в своих действиях. Перед кем? Это уж другое дело. Но не торчать же нам здесь до скончания века! Послушайтесь-ка моего совета, сначала доложите об этом генералу Гюло, а потом пойдите лягте, в соседней комнате есть кушетка… нынче ночью, любезный, вы совсем не спали, а нам предстоит трудный день. Я ещё посижу, пороюсь в бумагах, во всем этом хламе…
Но, оставшись в одиночестве, Макдональд вдруг почувствовал непомерную усталость. Вместе с рассветом, казалось, проснулся и его ревматизм. Руки и ноги затекли, по телу бегали неприятные мурашки. Он хотел было снять сапоги, но раздумал: если он разуется, тогда уж конец – сапоги больше не налезут. И что бы он ни говорил насчёт бумаг, глаза у него слипались сами собой.
Он подписал несколько приказов, присыпал свежие подписи песком и тут почувствовал, что его качает. Он дремал, клевал носом и вдруг, вздрогнув всем телом, просыпался, подписывал ещё одну бумагу. В этом было что-то унизительное. Он не желал сдаваться. Годы… Неожиданно для себя он с насмешкой подумал о генерале Бернонвиле. с которым это случалось весьма нередко.
Бернонвиль… Дюмурье… Лица постаревших генералов заслонили собой бумаги. Дюмурье изменил Конвенту.{65} И выдал Бернонвиля австрийцам. А Бернонвиль, наш дражайший Бернонвиль. в 1814 году предал императора… Быть может, возраст? Возможно.
Человек устаёт, пасует. Однако Пишегрю, как и Жомини, было во время этой грязной истории всего тридцать четыре года… А Моро – сорок, когда Дюмурье обвёл его вокруг пальца… Жомини был обыкновеннейшим интриганом и низким честолюбцем, он просто бесился, что в тридцать четыре года застрял в бригадных генералах!.. Эх, черт возьми! До чего же противно, когда тебя так качает!.. Бернонвиль в прошлом году рассудил правильно. Правда. несколько поспешил. Только и всего.
Едва лишь Макдональд забылся сном. как его разбудил Гюло.
Прибыл министр иностранных дел господин де Жокур. За все время пути от самого Парижа он только чуточку вздремнул в карете. Сказал он это в полной уверенности, что маршал успел поспать всласть. Ему пришлось предупреждать господ министров, что его величество просит их прибыть в Лилль. Потом объехать всех послов с той же целью – или приблизительно с той же, – но поди попробуй их найти! Он направил им соответствующий циркуляр, затем всю ночь проработал в министерстве вместе с двумя помощниками: один помогал писать бумаги, а другой помогал бумаги рвать. Так продолжалось до пяти часов, и на устройство личных дел он дал себе всего час… В шесть часов он покинул улицу Варенн… А сейчас семь: где же король?
Макдональд старался быть как можно любезнее. Жокур гут же отбыл.
После его отъезда маршал вышел на улицу, надеясь, что свежий утренний воздух вернёт ему обычную бодрость. Его буквально преследовали воспоминания о Дюмурье. Предатель?
Победитель при Вальми – предатель? Часто, говоря о Вальми, весь успех приписывают Келлерману, но командовал-то кто?
Макдональд вспомнил, как ответил на этот вопрос один из комиссаров Конвента: «Дюмурье… Келлерман… истинным победителем при Вальми был народ!» Народ! Скажут «народ» и считают, что этим все сказано! Слава богу. Жак-Этьен нагляделся на своём веку на народ, как он улепётывал– например, в Па-де-Безье, когда солдаты свернули на Лилль и убили своего генерала… «Народ! Не народ, а генералы выигрывают сражения. Народ! Небось, когда я принял командовании Пикарпийским полком, там, на дорогах Бельгии, народ повернул назад, распевая героические песни, столь модные тогда в Париже!» Сейчас, здесь, наяву, маршал путал даты, лица! Мыслью он бродил по равнине на севере страны, где началось возвышение лично для него: подполковник назавтра после Вальми, полковник после Жеммапа… Как раз в Жеммапе он впервые увидел девятнадцатилетнего юношу, волонтёра II года, покрытого пылью, грязью и кровью, – OF только что отбил у неприятеля знамя своего батальона, и звался он Никола Мезон… гот самый, ныне генерал, что встретил его сегодня ночью в Сен-Дени, не скрывая написанного на лице отчаяния… И кто же все-таки одержал победу при Жеммапе? Вот такой юнец Мезон или Дюмурье? Или герцог Шартрский. Победы забываются слишком быстро, достаточно одного Неервиндена, чтобы никто и не вспомнил больше ни о Вальми, ни о Жемаппе.{66} Командиру Пикардийского полка могло здорово нагореть, когда Дюмурье выдал комиссаров Конвент;' союзникам, а сам вместе с молодым герцогом Шартрским перешёл в стан врагов. Его. Макдональда, подозревали тогда в сообщничестве. Было эго в Лилле. Сколько же с тех пор прошло времени! Двадцать дна года. А теперь, в 1815 году, он тем же путём возвращается обратно. И ничего, что было прежде, уже не понимает: ни людей, ни порядков того времени. Интересно, что сказал бы он, если бы тогда создалось такое положение, как сегодня?
Во всяком случае, сегодня в городе Сен-Дени положение нетерпимое. Толкутся офицеры на половинном содержании, беглецы, какие-то зеваки. Эх, если бы он был в штатском костюме, как вчера, когда его вызвали к королю! Он возвратился в харчевню и едва только успел опуститься в кресло, как заснул в полном изнеможении.
* * *
Разноцветные домики на берегу канала, где течёт чёрная вода, крыши уступами, на окнах беленькие занавесочки с бахромой, мерный топот людей, несущих дрова в высоких корзинах. перекинутых за спину, а там, в вышине, среди облачной пыли. стая гаг, и вдалеке, за серым массивом пристани, скорее угадываешь, чем видишь, силуэт корабля с флагами на мачте.
Генеральша– госпожа Мезон, – ещё девочка, почти подросток. пребывающая в состоянии вечного удивления перед совершившимся с ней чудом: округлились маленькие грудки, налились и стали мелочно-белыми худенькие детские руки. и, когда она играет в серсо со своими кузинами Ван дер Мелён, нежные её ножки не знают усталости. И надо же было, чтобы мимо решётки, отделявшей их двор от улицы, прошли французские солдаты в лохмотьях, как оборванцы, – у кого была на перевязи рука, кто еле ковылял, волоча больную ногу, а некоторые падали от усталости прямо на дороге и у плеча по рубахе звёздочкой расплывалась кровь. Фламандские драгоценности запрятали под толстыми стопками простынь, сложенных на полках испанского шкафа, и соседи, пользуясь ночной мглой, перебрасывали друг другу через забор бумажки, привязав к ним камень, – крамольные или любовные письма. Мужчины там рыжие, женщины носят туго накрахмаленные косынки. Все, что составляло злобу и заботу дня, как-то сразу померкло, никто не открывал больше толстых книг, испещрённых столбцами цифр, никто не ждал больше прихода кораблей, как будто навсегда отхлынуло от берега море. Даже в церковь перестали ходить – все равно молитва не поможет. Господь бог отвратил от них взор свой, народ ропщет, приходится запирать двери: пришельцы оказались нечисты на руку.
Внезапно родной пейзаж исчезает, словно повернулись крылья мельницы, и тело уходит в гамак, или это поддался под его тяжестью стог сена – огромная пуховая подушка. Девочка с нежными беленькими ручками, округлой талией и тайнами просыпающейся женственности уже не одна. Когда она в полусне поворачивается в постели, она ощущает прижавшегося к ней вплотную огромного чёрного курносого дога. он влажно дышит, и она знает, что ей его не оттолкнуть, потому что это все равно «"осмысленно, – пёс весь тёплый, весь твёрдый, и лапы у него кожаные, такие же, как ошейник, который он снял. прежде чем лечь в постель: животное, зверь, и вот девочке уже мило теперь это странное соседство, она ищет пса в потёмках, идёт на ощупь, шепчет ласкательные клички, лишь бы понравиться ему. и чувствует смутное волнение… Где же ты? Где же ты?
– Тише, – говорит генерал, садясь на постели. Он в костюме Адама, сквозь щели ставен видно, что на улице уже совсем светло. Кто-то стучится в дверь… Слышен чей-то взволнованный голос… Что там такое? Может быть. это все ещё длится сонная грёза? Мезон поднимается, он шарит, чертыхаясь, и не находит ночные туфли, надевает рубашку, яростно дёргая запутавшимися в рукавах руками, опрокидывает по дороге стул.
– Ник, который час? – доносится голос из глубины алькова, но генерал, снова чертыхнувшись, не отвечает. Рейтузы… сапоги… В дверь снова стучат. Два или три раза. Пёс взлаивает:
– Могли бы. черт вас побери, и подождать!
Это денщик: он пришёл предупредить генерала, что явились офицеры и требуют немедленного свидания, не желают слушать никаких резонов. Если хозяин спит, пусть, говорят, его разбудят – словом, солдат, стоявший на карауле, заметив, что они в сильном возбуждении, да и вид их не предвещает ничего доброго, не решился преградить им путь, тем паче что их явилось не меньше десятка.
– Надеюсь, они все-таки разрешат мне ополоснуть лицо, – сердито пробурчал Мезон. Он подошёл к зеркалу, взглянул на себя: волосы всклокочены, рубашка распахнута на груди, и видна густая чёрная шерсть. Генерал оглядел свои ногти: – Скажи этим господам, сейчас иду…
В канцелярии, помещавшейся сразу при входе в дом, ожидали генерал-губернатора Парижа господа офицеры на половинном содержании. Они не желают без толку торчать во дворе казармы… По их развязным манерам сразу было видно, к чему клонится дело: один непочтительно уселся на подоконник, другой пристроился на углу стола, похлопывая хлыстиком по разбросанным бумагам, все – в маленьких шапочках, а один гусар даже с трубкой в зубах. Однако, повинуясь силе привычки, они поднялись с места, отдали честь.
– Чем могу служить, господа?
Тут были поручики, капитаны и, гляди ты, даже один майор…
И в самой разномастной форме – всех цветов радуги: у одного накинут на плечо ментик, подбитый мехом, другой в доломане, обшитом галуном и с оторванной серебряной пуговицей, третий в кавалерийской шинели… Зеленые, синие, жёлтые, красные… словно вывалившиеся из коробки аляповато размалёванные оловянные солдатики всех родов войск, все не очень чисто выбритые. у всех наглые физиономии. Первым заговорил майор. Он отрекомендовался: «Майор Латвии…»
Они пришли испросить – «ис-про-сить!» – у генерала господина Мезона согласия на то. чтобы был дан приказ по гарнизону взять направление на Париж, дабы упредить его императорское величество. Есть все основания опасаться, что в Париже начались беспорядки, коль скоро Бурбоны покинули столицу, и вот они порешили…
– Я отказываюсь вас понимать, вы забываетесь, господин майор…
Мезон поглядел в окно. Дождь прекратился, бледный мартовский свет лежал на крышах низких строений казармы. Весело поблёскивали черепицы. Генерал зажмурил глаза, ещё затуманенные сном. Его короткая речь, каждое слово которой казалось сухим отрывистым ударом бича. не имела ни малейшего успеха.
Один из капитанов выступил вперёд и, отстранив начавшего было говорить майора, чётко произнёс:
– Господин генерал, в прошлом году в Лилле…
Мезон взглянул на говорившего и сразу признал его:
– Ах, это вы, капитан Абсалон… вот где пришлось свидеться!
Стоя почти вплотную, они мерили друг друга взглядами. Для этих двух людей сейчас уже не существовало чинов. Капитан Абсалон был тогда одним из вожаков мятежа, а генерал Мезон, назначенный комендантом крепости Лилль, обратился к войскам с прокламацией, в которой признавал временное правительство.
– Господин генерал, в прошлом году в Лилле вы нам сказали…
Он, Мезон, сам знал, что говорил тогда в Лилле. Как бы ни перетолковывать его тогдашние слова, они имели один единственный смысл: солдатам и их командирам не пристало заниматься политикой. Армия есть армия: она выполняет приказы высшего начальства – и все. Гусар вытащил изо рта трубку и ядовито рассмеялся. Он был в чине поручика, гигант с детски наивной физиономией.
– Конечно, армия – это очень мило. – произнёс он грубовато-высокомерным тоном, – ну а Франция… вам. значит, на Францию наплевать, господин генерал?
Группа офицеров наседала на Мезона. Он уже чувствовал на своём лице их дыхание. Он был как затравленный гончими олень, но этот олень ещё мог довольно успешно действовать рогами. В эту минуту дверь распахнулась. Присутствующие оглянулись.







