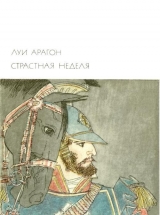
Текст книги "Страстная неделя"
Автор книги: Луи Арагон
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Его интерес к Ришелье подогревался не столько сходством их личных судеб, сколько сожалением о своём вице-королевском могуществе, столь мимолётном, что он едва успел вкусить от этих благ, и оставившем после себя чудовищную привычку швырять деньгами, увы. не поступавшими ныне из государственного кармана…
Бывшего губернатора Новороссии он застал как раз в ту минуту, когда ему перевязывали раны, натёртые золотыми монетами, по несчастной случайности выскользнувшими из кармашков пояса. Так как почти в то же самое время «хирург его величества, отец Элизе, прибыл в Бовэ и сразу же явился к герцогу Масса узнать, по какому маршруту проследовал королевский поезд с эскортом, префект города Бовэ радостно воскликнул: «Вот кстати-то!» – и передал первого камергера короля в искусные руки иезуита.
Святой отец постарался как можно быстрее закончить перевязку, чтобы продолжить путь в Абвиль, если только король действительно направился в Абвиль. В Бовэ отец Элизе расстался со своим возницей, с которого вдруг соскочил весь страх: Жасмин стал говорить громко, даже насмешливо и повернул свой кабриолет на Париж под тем предлогом, что-де там, в Париже, живёт его милая, – надо сказать, что за время пути он успел значительно облегчить кошелёк своего пассажира, то соглашавшегося на все, то впадавшего а гнев. За неимением экипажей преподобный отец выклянчил у господина Масса место в дилижансе, требовалось срочно вручить депешу, а телеграф бездействовал: Людовик XVIII дал, правда с запозданием, приказ разрушить сигнальную систему. На самом деле депеши сейчас пересылали с конными гонцами, а те доставляли их в Амьен, где телеграф ещё работал. Неутешительные то были вести: с минуты на минуту в Тюильри ждали Наполеона; Париж, по сути дела, находился в руках бонапартистов, господин де Лавалетт снова был назначен управляющим Почт и заместил на улице Жан-Жака Руссо графа Феррана.
Хотя ныне уже значительно померкло юное обаяние драгунскою офицера Арман-Эмманюэля Ришелье, состоявшего при особе королевы в Трианоне, хотя с годами он стал немного сутулиться, однако он и по сей день сохранил выправку молодого кавалериста, что было особенно заметно сейчас, когда он разделся для врачебного осмотра. Объяснялось это отчасти худобой, благодаря чему стан его оставался гибок, как в те времена, когда он вместе с принцем Шарлем де Линь и графом де Ланжерон участвовал под командованием Суворова в штурме крепости Измаил. Мармон был на целых восемь лет моложе Ришелье, но он вдруг почувствовал себя в его присутствии тяжёлым, обрюзгшим и даже немного позавидовал свежести этого лица, сохранившего под преждевременно побелевшими волосами смуглый румянец, – и свежесть эта, несомненно, объяснялась аскетической жизнью герцога, совсем уж удивительной для внука знаменитого в минувшем веке распутника, на которого он так сильно походил внешностью и так мало моральными качествами. Эмманюэль был одного роста с маршалом, но совсем иного телосложения: голова его казалась неестественно маленькой, возможно, по сравнению с широкой грудной клеткой, слишком длинной шеей и длиннющими ногами, в которых было что-то от балетного танцора. Ни капли жира, резкие бугры мускулов. Его густые волосы, отливавшие голубизной, до сих пор пышные и волнистые, свободно падали на лоб и виски, как в дни молодости, о которой они были единственным напоминанием, и это лишь усиливало общее впечатление моложавости: хотя нос герцога был излишне длинен, а рот излишне велик, что-то женственное чувствовалось в его чистом и смуглом, как у цыгана, лице с широким разлётом бровей над ярко блестевшими и очень тёмными глазами. Да, Мармон глядел на Ришелье так, словно видел в герцоге олицетворение того идеала, к которому тщетно стремился сам. с той нередко встречающейся у мужчин ревнивой и тайной завистью к представителям мужского чипа, резко отличающегося от их собственного. Но завис! ь эту питали ещё и иные. более глубокие причины, те, что порой лишают человека сна. жгут сердце… Эта поистине удивительная жизнь, долгая жизнь, полная приключений, войн, путешествий, почти что королевская власть в течение двенадцати лет на пространстве от Кавказа до Дуная, страшные дик. когда в Одессу – детище и творение герцога – пришла чума и он не знал ни часа покоя, а кругом лежали бескрайние степи… все это прошло, не оставив на герцоге Ришелье ни отметины, ни следа, тогда как Мармон в сорок один год, хотя и был ещё, по выражению дам, интересным мужчиной, чувствовал на своих плечах непомерный груз наполеоновских кампаний, беспощадное солнце Итлирии и солнце Испании, снега и ветры Германии и России. Прожитая жизнь наложила на него неизгладимый след усталости, сомнений, честолюбивых замыслов, гневных вспышек. И сожаление о том, что ему удалось лишь понюхать власти в Лейбахе, в Триесте.
Пока отец Элизе собирал своё имущество, свои баночки с мазями, сворачивал бинты и без умолку рассказывал о своих дорожных злоключениях между Понгуазом и Бовэ, Мармон вдруг заметил сидящего в углу молодого человека в форме мушкетёра, который поднялся со стула при появлении маршала. В первую минуту он не узнал в этом скромном гвардейском поручике генерал-майора Рошешуара, племянника Ришелье по жене, человека тоже не вполне обычной судьбы, подобно своему дяде бывшего офицером русской армии, которого по приказу царя назначили комендантом парижских укреплений в момент вторжения союзников в столицу Франции в 1814 году. Леону Рошешуару на вид казалось не больше двадцати семи лет, однако был он приземистым, жирноватым, с пухлой, несколько помятой физиономией под шапкой каштановых, мелко вьющихся волос. Он был управителем у Ришелье в Одессе и целых семь лет заведовал хозяйством герцога, так что тот решил даже сделать его наследником всех своих русских владений, но потом заменил в завещании его имя именем господина Стемпковского. Когда отец Элизе собрался уходить, Рошешуар встал и проводил его до дверей.
– Значит, действительно меня допекло, господин маршал, значит, действительно нужен был мне врач, если я согласился допустить до себя эту гнусную личность. Да ведь у него на физиономии прямо-таки написана вся похоть нашего смутного времени, усугублённая лицемерием сутаны. Не могу взять в толк, как это государь, безусловно сознающий необходимость восстановить во Франции не только Трон, но и Алтарь, как может он допустить, чтобы в самом ближайшем его окружении находился субъект, всем своим видом способствующий распространению атеистических идей. Ведь именно поэтому злые языки имею смелость утверждать, что их связывает какая-то тайна, а это уж прямая клевета и оскорбление его величества… Послушай-ка, голубчик Леон, если хочешь повидаться со своей кузиной, иди, не бойся, ты меня оставляешь в надёжных руках!
Слова эти, адресованные господину де Рошешуар, сопровождались вежливым жестом в сторону Мармона. Поручик чёрных мушкетёров отвесил поклон и пояснил Мармону, что маркиза де Крийон, урождённая Мортемар, только что прибыла в Бовэ, держа путь в замок своего свёкра, и он просит герцога Рагузского извинить его за то, что ему приходится уйти.
– Я и Монпеза с собой возьму… кузина питает к нему слабость.
Монпеза ни на шаг не отставал от Леона Рошешуара, который ещё накануне вторжения союзников в Париж взял его себе в адъютанты. В молодом генерале Рошешуаре как-то странно сочетались утончённая вежливость и дерзость. Говорили, что, когда братьям Рошешуар было одному семь, а другому восемь лет, их матушка, покидая Францию, оставила детей в Кане у владельцев банного заведения, которые использовали братьев Рошешуар в качестве мальчиков при банях. Что ж, оно и чувствуется.
Герцог проследил за ним взглядом. Потом, повернувшись к Мармону, сказал:
– Видите ли, господин маршал, обычно люди удивляются тому, что при Революции и Империи таланты проявляли себя в самом раннем возрасте. С экстазом говорят о юнцах, которых производили в генералы тут же. на полях сражений… Но ведь так было не только при Империи. Возьмите хотя бы графа Рошешуара: ему было двенадцать лет, я не оговорился, было ровно двенадцать лет, когда он уже служил офицером английской армии в Португалии, а в шестнадцать лет он пересёк всю Европу, направляясь ко мне в Одессу, где жил при мне его брат. Я видел его, девятнадцатилетнего, под огнём турок на одном из дунайских островов. В том же году он вместе со мной вошёл с боем в Анапу, черкесский город, объятый пламенем, где наши матросы и наши казаки в общей неразберихе стреляли друг в друга, и по его просьбе он возглавил карательную экспедицию против мелких кавказских князьков, которые непрерывно совершали набеги, грабили и опустошали курени Запорожской сечи. Подумайте только, ему не было и двадцати, когда он с той же целью пошёл на татарские аулы, руководил обысками и карательными отрядами, а люди его грабили и жгли сакли. И лишь немногим больше было Леону, когда я поручил ему объехать все села между Одессой и Москвой и выдать по двадцать пять ударов кнута каждому казаку в тех сотнях, что возили послания из Новороссии в Петербург его императорскому величеству и были повинны в пропаже многих бумаг. Вообразите себе, что этот страшный каратель, этот Михаил Архангел, имел детскую, даже девичью наружность, и в восемьсот одиннадцатом году графиня Нарышкина… вы, должно быть, знали её мужа во время пребывания союзников в Париже… так вот, графиня Нарышкина увезла его с собой в Бахчисарай, где он, переодевшись в женское платье, беспрепятственно посетил женский гарем, не смутив ничьего покоя, кроме своего собственного – столь велика была красота тамошних затворниц, не подозревавших о присутствии постороннего мужчины и в невинности душевной не скрывавших своих прелестей! Не буду говорить вам о том, какую роль сыграл он на Кубани во время кампании восемьсот одиннадцатого года, ни о его самоотверженном поведении в начале нашей борьбы с чумой, разразившейся в двенадцатом году в Одессе, откуда я его из осторожности удалил, и, поскольку Наполеон уже продвигался к Москве, я предпочёл подвергнуть его опасностям войны, нежели опасностям эпидемии… впрочем, тогда при мне уже состоял маленький Ваня Стемпковский, вполне заменивший уехавшего Леона и не менее преданный… Но, рассудите сами, неужели русская кампания была менее трудной для царских солдат, чем для французских армий? У вас у всех. даже самых верных слуг короля, есть определённая склонность признавать героизм только за французскими войсками. В рядах французов был один Рошешуар, а другой Рошешуар был в рядах русских, и оба служили адъютантами у двух императоров. Разве не одинаково страдали они от холода, от голода, разве не тем же опасностям подвергались? Подумайте только, что за Березиной Леон де Рошешуар, служивший в дивизии Ланжерона, преспокойно жил (имелся негласный сговор между двумя враждующими армиями, и французы, сжигавшие псе села и деревни, не тронули наполеоновской ставки, которую (югом занял Александр)… так вот, Леон жил в комнате, только что оставленной прежним постояльцем: там на дверях собственноручно написал мелом своё имя его кузен Казимир де Мортемар, тот самый, чьи пушки нынче ночью завязли в грязи неподалёку от Сен-Дени… Ах, мы ещё недостаточно задумывались над тем. что же, в сущности, так разделило французскую аристократию, почему родные и двоюродные братья очутились в двух враждебных лагерях! Сколько вам было лет, когда вас произвели в генералы? Рошешуару было двадцать шесть…
При этих словах Эмманюэль Ришелье сердито поморщился: в пылу разговора он совсем забыл о ссадинах на ногах и ягодицах и, неосторожно повернувшись на диване, почувствовал резкую боль. Мармон, никак не ожидавший такого половодья слов. а главное – того, что мысли герцога, чем больше он их развивал, тем больше походили на его собственные раздумья, машинально зажал между большим и указательным пальцами свою нижнюю губу, будто собирался оторвать её, и сказал:
– Видите ли, герцог… словом, я сам часто после вашего возвращения думал вот о чем: почему, в конце концов, по каким таким причинам – сегодня-то я могу задать вам этот вопрос, – почему вы не пожелали принять участие в деле примирения французов, чем как раз и занялись принцы по возвращении во Францию?..
– Принцы? – переспросил Ришелье, и в голосе его прозвучала еле замещая ироническая нотка, но он тут же добавил: – Это, друг мой, долгая история. Вы хорошо выспались? И армия не слишком требует вашего присутствия? В таком случае я, пожалуй, сумею вам объяснить…
И герцог Ришелье закурил трубку.
VII
ПОСЛЕДНИЕ ВЗДОХИ ЗИМЫ
Пока герцог Ришелье объясняет Мармону, почему получилось гак, что он стал чужим в своей собственной стране, и рассказывает ему о южной России, где прожил одиннадцать лет.
Шарль, барон Фавье, адъютант маршала, слит беспробудным сном на самом верхнем этаже префектуры, где ему поставили кровать: лежит он на животе, руки раскинул крестом, навалившись на матрац всей тяжестью своего гигантского тела, и снится ему Персия, где он вот этой рукой, что бессильно свисает сейчас с одеяла, усилием вот этих мышц, разбитых сейчас усталостью после переезда в восемнадцать лье без передышки, изготовлял для шаха пушки, самолично отливал их в какой то дыре, похожей на кузницу Вулкана, и под смежёнными веками своих выпуклых огромных глаз он видит себя, видит трех данных ему в подручные бритоголовых персиян, видит, как персидская армия, вторгшаяся в Грузию, стреляет из этих пушек по войскам, которыми командует Арман-Эмманюэль Ришелье, губернатор Новороссии…
Этот тридцатитрехлетний полковник ворочается на постели и стонет, потому что яркий свет заливает комнату, а задёрнуть занавеси он не успел. Губы ею прижаты к собственному плечу и бормочут чьё-то имя. Там, в Персии, под неумолимыми лучами солнца, обращающего все в пыль, в той стране, где в поэзии бьют фонтаны и щёлкают соловьи, он купил на Ширазском базаре юную черкешенку и теперь ощущает возле себя присутствие этой белокожей девочки со смоляно-серыми волосами, нс знающей ни одною знакомого Шарлю языка– ничего, кроме горючих слез.
Шарль научил её тогда лишь нескольким словам, необходимым для любовной игры. и в юных нежных устах они звучали с беспощадной точностью, что так w соответствовало, так противоречило сходству, до сих пор волнующему Шарля. – даже сейчас. когда он спит в Ковэ. – сходству, подмеченному им между дочерью Испании и дочерью Кавказа, разделёнными морем, и нс одним; и он называл тем сокровенным именем свою рабыню, ту, чю держал в своих объятиях– ту, что дарила ему наслаждения, называл сокровенным именем, которою она никак не могла понять: Мария Дьяволица.
Дождь снова припустил, он. как кисеёй, окутывает Бовэ тончайшей сеткой капель, которую подхватывает ветер и бросает о ставни. Насторожившийся город, кажется, ходит на цыпочках, и причина этому – противоречивые новости и новоприбывшие люди, забывшиеся неверным сном в этих домах, хозяева которых уступили гостям кто комнату, кто чулан. И серенький денек только изредка в разрывах облаков проглянет бледный солнечный луч – как-то удивительно не вяжется с этим нескончаемым шушуканьем жителей, которые движутся бесшумно, словно посетители кладбищ, между спящими среди бела дня постояльцами, чьё шумное дыхание слышишь за дверью собственной комнаты.
У парфюмерщика на Театральной улице хозяева, например, уступили свою постель гостю, гвардейцу королевского конвоя из роты князя Ваграмского. Ему не хватило места в префектуре, где остался вместе с герцогом Ришелье его старый друг – тот самый мальчик из полка Мортемара, что служил в английской армии в Португалии. Гвардейцу снится Португалия, о которой напомнила неожиданная встреча с вновь обретённым Рошешуаром – тогда Леон, подпоручик, в свои двенадцать лет выглядевший шестнадцатилетним, жил в казарме Валь-де-Фрейро и носил красный мундир с отворотами, чёрным бархатным воротником, белыми шерстяными галунами и серебряными пуговицами, войлочную красную каску с белой кокардой и с чёрной меховой опушкой в виде петушиного гребня. Тогда ему, Тустену, было столько же лет, сколько сейчас этому прежнему мальчику. И уже тогда, в двадцать семь лет, у Тустена за спиной была служба в армии Конде с её междоусобицами, соперничеством и изменами, унизительным обращением со стороны немецких принцев, было страшное соседство красных плащей, хорватов, сербов и далматинцев, этих авантюристов с богатырскими торсами, грабителей, которые живьём – да, живьём! – жгли французов, попавших в плен… а затем жизнь в изгнании вместе с дядей Вьоменилем, под чьим командованием он состоял в России Павла 1, тирана, пославшего их в Сибирь, на Ишим, в Петропавловскую крепость. Тамошние неоглядные степи, где кочевали татарские орды, казались ему первозданным хаосом… И вдруг снова возникает в памяти королевство празднеств и оперных спектаклей, эта Лузитания, считающая себя империей, где – в то время как на сцене Каталини поёт арию Клеопатры – португальские министры, если им надо обратиться к принцам или принцессам, сплошь увешанным сапфирами и бриллиантами, должны тут же, в ложе, при всей публике преклонять колена. И люстры на плафоне и на балюстрадах, бесчисленные, как бриллианты на обнажённых женских плечах, и музыкой пронизана вся эта жизнь, полная разбоев, убийств и нечистот, скапливающихся в тёмных улочках, где за мальчиком, несущим факел, шумной толпой идут дворянские сынки, направляясь в игорный дом или в кабаре, а там, над Тахо, над огромной и медлительной рекой, лениво текущей среди извилистых берегов, пробираются по лесистым горам войска с белыми кокардами, Мортемар, Кастри, августейший эмигрант…
Народ, чьи дочери так прекрасны, пляшет на сельских площадях, а парни выводят свои гортанные «модиньясы», не похожие ни на что на свете, ни на песню – плач, несущуюся по истоптанной неприятелем немецкой земле, ни на заунывную киргизскую музыку где-то на границах Азии, среди воя волков. В Лиссабоне прямо на улицы выбрасывают дохлых животных – кошек, лошадей, мулов, – и целая армия бродячих псов пожирает и рвёт их среди бела дня… псы, тысячи псов. набрасывающихся на облепленную мухами падаль, миллионы мух… Боже мой! Да прогоните, прогоните же скорее чёрный рой мух – они жужжат, лезут в лицо, касаются меня, пачкают меня своими ланками! И человек отчаянно машет руками, отбиваясь от мух, а псы, привлечённые его жестами, бросаются на него, скулят, рвут – его рвут на части тысячи псов… Виктор-Луи Тустен отбивается, отталкивает от себя тень, упирается руками в тень, с удивлением ощущая, что рука встречает лишь пустоту, и открывает глаза: что это за комната, откуда эта чужая постель, этот камин, этот комод, заставленный безделушками и застланный салфеточками, святой Иосиф на стене? На маленьком коврике у постели в этой бывшей мыловарне покоятся его собственные сапоги, которые, чтобы снять с ног. пришлось разрезать ножом вдоль всего голенища – ну и страшный вид у распотрошённых сапог! – и как же теперь маркиз де Тустен сможет шагать по дорогам великого разгрома монархии?
Весь город Бовэ полон несбывшихся снов, начавшихся с утра и разбросанных как попало по различным домам и переулкам; ибо напрасно было бы искать здесь стройный порядок в чем бы то ни было, коль скоро это уже более не полки, не роты, пришедшие сюда строем, а случайные их обломки, за которыми тянутся жалкие остатки королевской гвардии. Взять хотя бы всадников первого эскорта, уже давно идущих впереди других частей, – только такие крепкие, только такие закаленные люди могут проявить подобную выдержку, да и то потому, что большинство из них служили в армии Наполеона или в армии эмигрантов, научились держать себя в руках, переносить непомерную усталость, физические страдания и непогоду. Входят они в город разрозненными группами, некоторые – поодиночке. Никакой заранее данной диспозиции уже не существует, никто не подготовил им квартир, ничто для них не определено заранее: ни дома, ни сновидения. В меркнущем свете мартовского вечера уже подтягиваются повозки, кареты – от самых убогих до самых роскошных, с лакеями на запятках, нагруженных всем, что успели захватить в спешке перед отъездом из дому: одеждой, произведениями искусства, личным оружием, ящиками, куда затолкали первые попавшиеся под руку вещи, и теперь слуги не знают, где их хозяева – проехали ли они вперед и надо ли их догонять. Как может, например, кучер графа Этьен де Дюрфор, командира королевских кирасир, как может кучер, который осыпает отборнейшей, истинно кучерской бранью всех и вся, и в первую очередь себя самого за то, что дернул же его черт, болвана, уехать из Парижа с их улицы Анжу-Сент-Онорэ, и которому единственный повстречавшийся на окраине города кирасир, молодой де Виньи, буквально засыпающий на ходу, не способен дать хоть сколько-нибудь вразумительного ответа, как может кучер господина де Дюрфор обнаружить своего хозяина, ежели командир королевских кирасир с головой провалился в бездну сна на квартире графа Бельдербуша, бывшего префекта города Бовэ, незадачливого фабриканта ковров? Прибыв в город, Этьен, захвативший с собой племянника, Армана-Селеста де Дюрфор. поручика своей роты, случайно встретил собственного сына, подпоручика роты Ноайля. Во всеобщем беспорядке, при полном отсутствии какого-либо плана расквартирования войск сын графа де Дюрфор – все трое падали с ног – решил отвести их туда, где он сам квартировал в прошлом году, когда в Бовэ стояла рота князя Пуа. Однако господин де Бельдербуш, несколько озадаченный появлением целых трех Дюрфоров, не смог или не пожелал отвести им другого помещения, кроме той комнаты, что занимал прежде молодой граф, и примыкающую к ней маленькую каморку; не без усилия удалось втиснуть туда софу для Дюрфора старшего, а двух молодых людей уложили в одну кровать. Что происходит с Селестом? Кузен, лежа бок о бок с ним, слышит, как тот вздыхает, ворочается…. хотя Селеста сразу же поглотила бездна сна, похожего скорее на смерть… Уже раза два сквозь сон молодой граф слышал стоны, даже крики… Он приподнялся, с усилием вынырнув из забытья, стершего все представления: что это за комната, почему мы сюда попали и кто этот человек, лежащий рядом со мной под одеялом… потом снова свалился без сил на подушку, найдя всему какое-то свое объяснение, где реальность смешалась с сонной грезой. А он, Селест, он лежит рядом, он старается сбросить с себя кошмар, он отбивается от этого наваждения, которое с того декабря 1812 года сотни раз подкрадывалось к нему в ночи и норовило задушить. В какой-то глухой пристройке, примыкающей вплотную к стене фуражного склада, на заснеженном дворе дворник колет дрова; в этой пристройке с побеленными известкой стенами, где оконце заменяет причудливый узор ледяных игл, видит себя Селест среди вповалку лежащих тел, сжимающих его со всех сторон; он задыхается от смрада гниющих ран, кала и крови. На нескольких квадратных футах разместилось около сотни пленных французов, забранных при взятии Вильны, половина из них уже мертвы, другие – с отмороженными ногами – стонут в предсмертном бреду, страдая от холода и отсутствия воздуха; все они в лохмотьях, без плащей и курток, и лежат они, так тесно прижавшись друг к другу, что каждый слышит стук сердца соседа или уже угасающее его биение. По мертвым можно ходить, как по половицам… нет впереди надежды, нет оснований для надежды, и многие уже потеряли рассудок: целых три дня они не видели пищи… Вот тогда он, Селест, узнал и навсегда запомнил, что человек – то же животное, и сейчас он вновь переживает весь тогдашний ужас, ощущает совсем рядом дыхание других людей, прикосновение их кожи, их волос… Слюна, моча…
И внезапно, в довершение муки и отвращения, в этой адской геенне он узнает падающее на него тело, он отстраняется от него, отталкивает: ведь тот или задушит его, или сам погибнет от близости Селеста. Как?.. Это немыслимо, и, однако же, это он…
«Оливье!» Тот, другой, действительно не может повернуться, но Селест чувствует, как он ёжится, старается отодвинуться, насколько позволят это унизительное соприкосновение тел, рук, ног. «Оливье!» Тот не отвечает. «Нет, не могу же я обмануться, мой друг, мой брат, ведь я учил тебя ездить верхом и владеть шпагой, тебя, мой мальчик, мой Оливье… Почему ты не узнаешь меня, я ведь Селест… Ты что, оглох, потерял рассудок, Оливье, мой Оливье?» А тот: «Я вас не знаю, я вовсе не ваш Оливье… меня зовут Симон Ришар, я капитан Симон Ришар…» Чудовищный диалог – диалог в аду. Стало быть, у меня уже помутился рассудок, это лишь обман чувств, но нет, это все-таки он, это Оливье… «Меня зовут Симон Ришар…» – «Да брось ты. даже вот с этой грубой щетиной на лице. и пусть даже время проложило в углу рта эту горькую складку, исчертило лоб морщинами…
Ты – Оливье! Не отрекайся так упорно, особенно сейчас, в эти трудные для нас часы, неужели ты можешь думать, что я тебе поверю? Посмотри, вот здесь, на обнажённой твоей руке, виден шрам, ведь это я. я сам оцарапал тебя шпагой, когда мы играли с тобой, а было тебе тогда одиннадцать лет… Посмотри, сквозь разодранную рубаху видна у тебя под левым соском родинка, твоя примета… Оливье…» Он глядит на меня глазами Оливье, но глядит враждебно, у него еле хватает сил отрицательно покачать головой, нас все теснее прижимают друг к другу, мои губы у самого его уха… «Бесполезно, Оливье, лгать мне, твоя ложь ничему не поможет, ведь я-то знаю…» Боже мой, боже мой, в этом аду, в этом аду… Или, может быть, у меня просто бред?
Десять лет, десять лет назад он исчез, его считали погибшим… ведь мог же он пасть где-нибудь в бою, а потом тело бросили в реку, и он исчез, как рубашка без хозяйской метки… после той трагедии… «Оливье! Значит, ты жив?» – «Меня зовут Симон Ришар». Он не может или не хочет говорить ничего, кроме этих четырех слов. В этой жуткой лачуге, в снегах России… Капитан Симон Ришар. Да брось ты! Селест вспоминает драму, разыгравшуюся одиннадцать лет назад. Оливье обладал всем, о чем может только мечтать человек: он носил одно из наиболее прославленных имён старинной Франции, был сыном богатого человека, получившего при императорском дворе титул церемониймейстера, и сам в двадцать пять лет. осыпанный почестями, был назначен супрефектом; потом его отозвали ко двору, дав неожиданно высокую должность, и он приехал в столицу вместе с двумя детьми и женой, красивейшей женщиной в мире, его кузиной, которую он любил ещё с детства. Здесь-то и крылась беда. В этом могильном рву под Вильной, куда заживо брошены люди, Селесту чудятся огромные глаза графини, бархатный взгляд Бланш… Вдруг анонимное письмо. Оливье узнал. В их супрефектуре стоял гарнизон, и Бланш. которая смертельно скучала в провинциальной глуши, изменила мужу с офицером, изменила с этим безмозглым херувимом! С этим ветрогоном Тони де Рейзе…
Оливье мог убить его, убить её. Он предпочёл исчезнуть. Десять лет прошло с тех пор. Никто не знал, где он. И вот ты здесь, сейчас, когда мы умираем. «Оливье, не лги мне хоть в последнюю минуту… Слушай меня: у тебя двое детей, Оливье… Она, послушай, Оливье, она ведёт самую достойную жизнь, поверь мне, она одна, живёт при императрице Жозефине в Мальмезоне, она одинока и несчастна… она тебя любит, у тебя же дети». Он не слушает. Лежит у меня на руках – неподвижно, как срубленный ствол. Он не может отодвинуться. Не может гневно махнуть рукой, потому что даже для выражения ненависти здесь нет места. «Я капитан Ришар… Симон Ришар…» В глазах у меня мутится. Мерзкий запах множества тел. Все это только дурной сон. Я уже не вижу его, только слышу, как он твердит: «Я капитан Ришар…»
В казарме, куда пришёл справиться о хозяине кучер, никто не мог ему членораздельно ответить, в Бовэ ли граф де Дюрфор или нет. Никто не знает ни того– где он, ни того, что в эту минуту он проснулся, рывком поднялся на своей софе, оглядывая незнакомое помещение, с удивлением прислушался к стонам, доносящимся из соседней комнаты… Кто стонет – его сын или Селест?..
Кто бы это ни был, но, видно, спится ему несладко. Что грезится Селесту? Пленник из-под Вильны кричит в темноте. «Слышишь?» – спрашивает госпожа де Бельдербуш своего супруга.
«Слышу», – мрачно бурчит тот в ответ, ибо его самого гложет мысль о крахе предприятия, о застое в ковровом производстве… сорок рабочих с семьями голодают с 1814 года… Ковровую мануфактуру пришлось закрыть. И виновники несчастья – вот эти самые ультра-роялисты, которые проходят через город, как шайка беглецов, а ты ещё изволь устраивать их на ночлег. Кто знает, возможно, с возвращением Наполеона… Конечно, в его годы уже поздно претендовать на пост префекта, но, может быть, хоть дела-то поправятся…
В мансарде над бакалейной лавочкой госпожи Дюран на улице Сен-Мартен красный пуховик соскользнул на пол, в комнатушке уже темно – она выходит на север, – а Теодор, лежа на новых простынях, которые приготовила Дениза для господина де Пра, так далеко ушел за рубеж сознания, что уж и сам не знает, был ли или только пригрезился ему весь этот долгий день. Простыни жесткие, как картон, грубые и желтоватые, еще не приобретшие той мягкости, что дается частой стиркой, мирным сном супругов, беспокойным метанием людей одиноких. Простыни, которые, как бы ни ворочался человек во сне, сохраняют форму его тела и образуют складки, впивающиеся, как лезвие ножа, и оставляющие на коже синие полосы и лиловатые пятна. Видит ли сны или не видит снов этот голый верзила – он натягивает на себя простыню и поудобнее устраивается в ямке матраца, продавленного прежними постояльцами. Что означает это нетерпеливое подергивание ног, почему это он вдруг свертывается калачиком и потом резко поворачивается на спину? На лице, во всей фигуре спящего человека порой можно подглядеть выражение муки, боли, которую, вероятно, не до конца изгоняет бодрствующее сознание, а только пытается скрыть, и, когда цепенеет воля, боль эта всплывает наружу, как медуза на гребень морской волны. Что видят эти закрытые глаза, что бормочут эти уста, над которыми сейчас не властна мысль? Нет сомнения, что все эти жесты вписываются в некий пейзаж, который нам не дано видеть: вот этим движением плеча спящий старается уклониться от встречного всадника в лесу или на дороге, а может быть, он сейчас в тюрьме или в храме… Когда это человеческое существо, замурованное в могильном рву снов, когда этот трепещущий жизнью труп выскользнет из-под пены простынь, когда комнатушка повернется вокруг собственной оси и станет тем, что она есть в действительности, заняв законное свое место над бакалейной лавчонкой в ряду других домов города Бовэ, – тогда спящий будет зваться Теодором и узнает, что шорохи эти производил он сам, но сейчас ни одно имя, даже его собственное, ни одно человеческое слово не способно вырвать его из глубин беззвучного диалога, идущего во мраке, где вдруг возникло что-то незнакомое, дрожью отдающееся во всем теле. Он яростно упирается во что-то одной ногой, сует под подушку руку, как бы ища там защиты, рот у него открыт и, быть может, вовсе не затем, чтобы жадно глотнуть воздух, с трудом проходящий сквозь набрякшую глотку, сквозь судорожно опадающие ноздри, а потому, что его увлекает на дно вышедшей из берегов реки какая-нибудь Ундина, или, быть может, это мавры врываются в ущелье, а он не успевает крикнуть, или же он громко вызывает из преисподней какую-нибудь Эвридику,{72} чье покрывало еще веет над болотом. Свет так слаб, что ничего нельзя прочесть в рисунке вен, сетью оплетающих руку, которая лежит на простыне; и это не умозрительный образ, не метафора в подражание античным героям, а человек из плоти и крови, со своими собственными отметинами на коже, не по возрасту густо поросшей волосами, отчего смуглая грудь кажется рыжевато-пегой, – живой человек, чьи мускулы сокращаются неравномерно, ибо в данную минуту им не сообщает необходимой гармонии труд или целеустремленный жест, более того, они судорожно сокращены или расслаблены по неуловимым причинам, неуловимым для нас, поскольку игра их под молодой гладкой кожей, увлажненной испариной, скрыта от нас, так же как скрыт неожиданный всплеск рыбы под затянутой ряскою поверхностью пруда. Быть может, сейчас он сам – тот Олоферн, которого он хотел написать попавшим в тенета уличной Юдифи… быть может, этот сон наяву просто подсказан Теодору не библейской темой, а обычной хроникой происшествий, и вовсе ему не рассказали эту историю, а все это было с ним самим, была какая-то забытая встреча, и та женщина, отнюдь не об убийстве думала она в номере гостиницы, куда им подали обед, к которому оба так и не притронулись, а просто он в последнюю минуту, когда на ней ничего не осталось, кроме плаща темных рассыпавшихся волос и белых чулок с голубыми подвязками, вдруг почувствовал, что не в силах желать эту совершенную красоту, приевшуюся сразу, как всякое совершенство… Вы только взгляните на руку, судорожно царапающую простыни: поверьте мне, сейчас он стащит скатерть, и все упадет на пол – стаканы, серебро, яблоки покатятся по комнате, и станет особенно заметной тусклая прозелень винограда…







