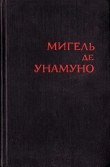Текст книги "Испанский театр. Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Хуан Руис де Аларкон, Педро Кальдерон, Агустин Морето"
Автор книги: Лопе Феликс Карпио де Вега
Соавторы: Педро Кальдерон,Тирсо Молина,Агустин Морето,Хуан Руис де Аларко́н-и-Мендо́са
Жанры:
Драматургия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
ИСПАНСКИЙ ТЕАТР
ЛОПЕ ДЕ ВЕГА
ТИРСО ДЕ МОЛИНА
ХУАН РУИС ДЕ АЛАРКОН
ПЕДРО КАЛЬДЕРОН
АГУСТИН МОРЕТО
Перевод с испанского
Составление, вступительная статья и примечания Н. Томашевского
Н. Томашевский ИСПАНСКИЙ ТЕАТР ЗОЛОТОГО ВЕКА
На родине Хуана Руиса де Аларкона, в центральной Мексике, между Морелией и Толукой, есть поразительное по красоте место. Называется оно «Тысяча вершин». Издали вершины эти сливаются в однообразную гряду. И лишь попав туда, обнаруживаешь, как не похожа одна вершина на другую по своей форме, цвету, растительности. Нечто подобное происходит с испанской комедией Золотого века. На удалении трех веков стираются индивидуальные приметы, расплываются контуры фигур. Не потому ли на позднейших портретах Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Хуан Руис де Аларкон, Педро Кальдерон и Агустин Морето так походят друг на друга, что сливаются в один общий условный портрет? Не потому ли в иных переводах персонажи их пьес говорят на удивление одним языком? Не потому ли, наконец, все эти Дьего, Исавели, Тристаны выбегают на сцену современных театров в костюмах одного покроя, фехтуют, «целуют ноги», обмахиваются веерами, паясничают и бренчат на гитаре? Между тем кто бы усомнился даже по альбомам со скверными репродукциями, что Эль Греко вовсе не походит на Веласкеса, а Мурильо на того и другого?
Время сыграло с драматургами Золотого века злую шутку. В восприятии рядового читателя или зрителя их комедии сливаются в нечто однообразное, могущее без труда сойти за сочинение под коллективным псевдонимом «Лопе де Вега». А ведь Золотой век испанской комедии – это но только почти сто лет торжества беспримерной по оригинальности национальной драматургии, но и эволюции этой драматургии, общие стилевые черты которой никак не скрадывают мощной творческой индивидуальности ее создателей и приверженцев.
Как всякая художественная система, испанская драматургия Золотого века имела свое начало и свой конец. Возникнув в 80-е годы XVI века, она узнала годы расцвета (шестисотые годы – тридцатые годы XVII в.) и годы одряхления. К концу своего существования (пятидесятые – семидесятые годы) она выродилась в манеру. С момента, когда окончательно исчезла культурно-историческая подоплека, вызвавшая ее к жизни (40-е гг.), она, в сущности, была уже обречена.
А такой подоплекой явилась двойственность культуры зрелого западноевропейского Возрождения и ее испанская национальная подоснова.
* * *
Еще в конце первой четверти XVI века почти одновременно создаются произведения, весьма наглядно характеризующие двойственность культуры Возрождения: «Книга о придворном» Бальдесаре Кастильоне и «Комедия о придворном» Пьетро Аретино. Сидя в Толедо, где он проживал в качестве папского посла при Карле V, Кастильоне не без меланхолии отделывает свой трактат. В нем он рисует облик «универсального человека» (uomo universale), идеального дворянина, человека, наделенного всеми возможными добродетелями: беззаветно храброго воина, изящного собеседника, человека умеренного в своих потребностях, благожелательного, неподкупно честного и прямого, целомудренного в любви, эрудита, ценителя муз. Словом, Кастильоне создал воображаемый персонаж, некую абстракцию, в которой лишь очень смутно проступали конкретные признаки реального человека. Картина «uomo universale» несколько напоминает переданный Стендалем исторический анекдот, согласно которому некий довольно талантливый художник, позаимствовав для своего полотна у многих великих мастеров – у кого голову, у кого позу, принес свой труд Микеланджело, интересуясь его мнением. «Все это прекрасно, – сказал Микеланджело, – но что станется с вашей картиной в день Страшного суда, когда каждому будут возвращены все части его тела?» Кастильоне еще не предвидел дня Страшного суда. Зато его предвидел другой итальянец, который рыскал в это время по Риму и, так сказать, «на площади» наблюдал то, что Кастильоне видел в залах самых блистательных дворов Европы, начиная от Урбинского дворца Гвидубальдо де Монтефельтро и кончая дворцами римского папы и императора Карла V. Пророчествуя о неминуемом сожжении Рима, этого «нового Вавилона», Пьетро Аретино создал другой, гораздо более реалистический портрет «идеального дворянина». «Главное, что должен уметь такой придворный, – утверждал Аретино, – это быть азартным игроком, завистником, развратником, еретиком, льстецом, злоязычником и сквернословом, неблагодарным, невеждой, ослом; он должен уметь заговаривать зубы, изображать нимфу и быть по необходимости то мужиком, то бабой». На первый взгляд может показаться, что мы имеем дело с простой полемикой между двумя авторами, которые, ко всему прочему, изрядно недолюбливали друг друга лично. На самом дело все обстоит значительно сложнее. Речь идет о двух резко противопоставленных общественных и литературных сознаниях, отражающих двойственность культуры века.
С конца XV века в мире происходят колоссальные изменения. На родине Возрождения, в Италии, усиливается процесс рефеодализации, укрепляются, становясь наследственными, личные тирании, загнивает папство и католическая церковь, развивается ересь, надвигается реформа. Вслед за великими географическими открытиями идет завоевание гигантских территорий за океаном, в Азии и Африке. В ряде стран складывается прочная буржуазия, приходит в упадок потомственное дворянство, наблюдается тенденция к созданию крупных абсолютистских государств-наций. Но, странным образом, в уютные залы княжеских дворцов, где Кастильоне собирал разговоры изящных дам и кавалеров, эти бурные события времени, кажется, даже не проникали. Там все еще витал рыцарский дух. Купол церкви Санта Мария Маджоре в Риме украшается золотом, содранным солдатами Кортеса с ацтекских храмов в Мексике, но собеседники Кастильоне предпочитают вспоминать не о современных кондотьерах, а о рыцарях Круглого стола. Со всем тем рыцарский дух был уже не выражением каких-то общих идеалов, религиозных или патриотических. Он служил лишь «личному украшению», служил основой кодекса «истинного дворянина». Книга Кастильоне стала настольной для всех европейских дворов, не нося ничего специфически итальянского, испанского или французского. «Универсальный человек», воспетый Кастильоне, является не литературной трансформацией действительности, но целостным преодолением этой действительности. Конструкция «универсального человека» покоится на незыблемых категориях. Реальное содержание этого человека служит иллюзии.
Но Кастильоне (подобно великому своему современнику, Ариосто) – лишь одна сторона культуры XVI века; свидетельство того, что рядом с реальностью фактов существовала автономная реальность искусства и стилизованной жизни.
Понятно, что в такой системе декоративное чувство господствовало над всеми другими инстинктами и потребностями духовной и реальной жизни. Это автономный, замкнутый мир. В условиях малой доступности культуры для широких слоев населения влияние этого замкнутого искусственного мира на узкий круг тогдашних грамотеев было огромно. Идеал благородного человека еще и в XVII веке в значительной степени схож с идеалом, начертанным в «Книге о придворном» Кастильоне. Его мы легко отыщем в испанской драме того же Лоне де Вега.
Наряду с этим автономным и искусственным миром с его вымышленным образцом «совершенной» личности существует другой мир, реальный. В этом мире личность изымается из героизированной идеальной жизни. Она вписывается в коллективное социальное бытие, обнаруживает беспокойство, нередко анархический бунт, авантюризм. Герою противопоставляется антигерой, странствующему рыцарю – странствующая куртизанка, изящному придворному – плут и пройдоха. В мир такого сорта и вводит нас своей «Комедией о придворном» Пьетро Аретино.
В области теории древний спор Аристотель – Платон продолжался. Если учено-гуманистический период Возрождения выдвинул на первый план теорию незыблемого образца, канона красоты, то зрелое Возрождение – теорию подражания природе. Понятно, что пересмотру должны были подвергнуться взгляды как на искусство в широком смысле слова, его задачи и методы, так и на самое место художника, его назначение. Теория подражания природе оказалась перспективнее. Она была воспринята передовыми художниками Возрождения, благодаря ей были сделаны решающие художественные открытия, надолго определившие дальнейшее развитие искусства.
Тот же Аретино писал: «Гомер, сочиняя Улисса, плевать хотел на науки (поэзия, согласно воззрениям педантов, относилась к науке, что прямо вытекало из бытовавшего взгляда на поэзию как на свод определенных правил и предписаний. – Н. Т.), но зато знал обычаи и людей. А потому и я пытаюсь изобразить природу людей с живописностью, с коею достойный восхищения Тициан выписывал то или другое лицо». Себя же Аретино скромно аттестовал «секретарем природы, диктующей, что́ надобно писать». На обвинения ученых педантов, утверждавших, что-де Аретино «богат дарами природы и выклянчивает милостыню у искусства», он отвечал: «…не ясно ли, что дикорастущий салат куда вкуснее парникового?»
Утверждение природы как единственного источника и образца для подражания имело важнейшее значение для пересмотра роли художника. Из ученого педанта он превращался в творца, единственного и неповторимого, как сама природа. Роль творческой индивидуальности неизмеримо возрастала.
В теории подражания природе заложены уже зерна будущего искусства. Не случайно один из лучших знатоков позднего Возрождения мог сказать об Аретино: «Когда он утверждает первородность личности художника, он близок к романтикам, к их субъективизму, когда провозглашает примат объективной природы – к реалистам».
Роли художника уже не только в искусстве, но и в обществе отводилось такое значение, что в условиях кризиса эпохи Возрождения, когда искали разнообразных выходов из создавшегося положения, был указан и такой: подменить право сильного (абсолютного государя) правом гения (художника). В кружке «художественного триумвирата» в Венеции (Аретино – Тициан – Сансовино) была разработана целая, если так можно выразиться, «теория артистократии». «Артистократия» призвана была урегулировать мир духовным своим воздействием. Если отвлечься от утопичности самой идеи «артистократии», то одно все же остается несомненным: именно тогда получил распространение современный взгляд на роль художника как воспитателя и преобразователя общества. Творчество было признано огромной духовной силой, конкурирующей с политикой, религией, философией. Не обошлось в тогдашних условиях и без появления множества «кондотьеров пера». Вот уж поистине время, когда перо было «приравнено к шпаге»! (Уподобление, введенное в поэзию в конце XVI века.)
Стало быть, к моменту складывания испанской национальной драматической системы в культуре Возрождения прояснилось следующее: все большее и большее распространение получала теория подражании природе, неизмеримо выросла роль индивидуальности художника, возросло его влияние в обществе, расширилась тематика, преимущественно связанная с современным бытием и национальным прошлым, обострился интерес к проблемам родного языка и национальной поэтической формы.
* * *
В истории западноевропейского театра первую попытку всерьез реформировать драматургию предприняли итальянские комедиографы. Именно они (Макиавелли, Биббиена, Аретино), вооруженные теорией подражания природе и ненавистью к педантам, поняли бесплодность наивной попытки своих предшественников «обвенчать белую розу с черной жабою», то есть напялить греко-римские комедийные одежды на своего современника. Им было совершенно ясно, что античная кладовая исчерпала себя. Теренций и Плавт могли оставаться примером понимания нужд своего времени, но не источником и незыблемым образцом. Источником стала действительность и отечественная новеллистика. Оттуда черпались фабулы, персонажи, языковые формулы, оказавшие влияние и на структуру комедий. Казалось бы, комедиография решительно обратилась к действительности и национальным традициям, обещая новую эру в драматургии и театре.
Однако подлинного переворота не произошло. Нашлись в большом количестве подражатели, но реформа не была углублена. Несмотря на громадный историко-литературный и историко-театральный интерес, итальянская свободная литературная комедия не стала началом живучей театральной традиции. В сущности, начав с оппозиции «неоаристотелевскому» ученому классицизму, отталкиваясь от жизни, а не от «литературы», она, вопреки намерениям ее зачинателей, осталась при «пиковом интересе». Парадоксальным образом ее потребителем оказался тот самый «придворный», который зачитывался книгой Бальдесаре Кастильоне. За пределы пышных дворцовых спектаклей (порой в декорациях таких художников, как Рафаэль) комедия не вышла. Сам папа до слез смеялся над непристойными проказами героев и охотно выслушивал забавные тирады против распущенности двора и курии. По существу, комедия была беззлобной, несмотря на сатирические стрелы. Она не выносила сора из избы. Можно было смеяться. Никаких «обобщений» высокопоставленные зрители из нее не делали. В комедии усматривали лишь занятную литературно-полемическую направленность. Личные обиды в счет не шли. Лучший знаток нравов того времени Стендаль рассказывает: «Мессер Бьяджо, церемониймейстер Павла III, сопровождавший его при осмотре наполовину оконченного «Страшного суда» Микеланджело, сказал его святейшеству, что такое произведение было бы более уместно в трактире, чем в папской капелле. Едва папа удалился, как Микеланджело по памяти написал портрет мессера Бьяджо и поместил его в аду в образе Миноса. Грудь ему, как мы видели, обвил несколько раз ужасный змеиный хвост. В ответ на настойчивые жалобы церемониймейстера Павел III сказал в точности следующее:
– Вы знаете, мессер Бьяджо, что я получил от бога полноту власти на небе и на земле; но в аду я не имею никакой силы; поэтому так уж и оставайтесь».
Конечно, не все кончалось так идиллически. Порой за сатирические стрелы литераторам и художникам приходилось расплачиваться тяжелыми увечьями, но в целом это не рассматривалось как зловредное желание «все ниспровергнуть власти». Осмеянию подвергались не социальные и религиозные основы общества, а либо конкретные личности, либо частные явления, либо персонифицированные абстракции («ученый педант», «хвастливый воин», «сводня» и т. д.), то есть своего рода «бытовые маски». Следует учитывать и то обстоятельство, что уверенность потребителя комедий в своей правоте и силе была столь неколеблмой, что никакая насмешка не смущала его покоя. Другое дело, что тог же самый высокопоставленный потребитель, едва историческая почва зашаталась под ногами, поспешил включить многие, еще недавно смешившие его комедии в списки запрещенных книг. Но это уже задним числом, в минуту, когда у страха глаза велики.
Таким образом, в Италии талантливо начатая реалистическая комедия, не найдя должной аудитории, превратилась в пустое развлекательное действо, формализовалась и заняла низшее место в жанровой иерархии победившего академического классицизма.
В чем-то схожим путем шло развитие испанского театра. Как и в Италии, кризис и двойственность культуры Возрождения ощущались в Испании явственно. Как и в Италии, видимость и действительность не только обнажились, но и стали источником комического и сатирического в литературе. Достаточно напомнить в этой связи знаменитейший плутовской роман «Ласарильо из Тормеса». Мытарства этого «первого плута» в мировой литературе начинаются в год катастрофы при Джербе (1511), когда могущественные силы испанцев терпят поражение от мусульман, и кончаются в год триумфального возвращения императора Карла V в Толедо после разгрома войск «христианнейшего» французского короля Франциска I при Павии. Это последнее обстоятельство резко дисгармонирует с мнимым благополучием Ласаро и его полным моральным падением. Быть побитым неверными и избить своих, правоверных (Испания). Всю жизнь мучиться из-за корки хлеба и под конец жизни есть сытно, торгуя телом жены (Ласаро).
Но при определенном сходстве ситуаций, в которых развивались литературы Италии и Испании, между ними существовали и серьезнейшие различия. Во времена Карла V и Филиппа II Испания представляла собой не конгломерат разрозненных тираний, а централизованную абсолютистскую монархию, которая находилась в зените военного и политического могущества (хотя и с признаками загнивания, которые так верно подметил анонимный автор «Ласарильо из Тормеса»). Мало того, в области внутренней политики монархия успешно вела борьбу с феодальным своеволием и, в сущности, с ним покончила. Феодалы превращались в послушных высокопоставленных администраторов. В борьбе с феодальным своеволием монархия находила поддержку в народе. Пожалуй, это был единственный пункт, где интересы монархии и народа еще совпадали. В народной памяти были свежи отголоски недавно завершившейся многовековой героической борьбы с мавританскими завоевателями (реконкисты). Горожане ощущали себя по-прежнему свободными гражданами и вместе с сельскими общинами пытались бороться за свои права и вольности (фуэросы). Словом, положение осложнялось (или облегчалось!) тем, что категория людей, потребителей культуры, была куда более многочисленной и неизмеримо более активной, чем в Италии. Очень прочны были традиции народной поэзии. Романсы (лиро-эпические песни героического, повествовательного, любовного и бытового содержания) были чрезвычайно распространены – от сельских и рыбачьих домишек до королевского дворца и от метрополии до обеих Индий, африканских берегов и других самых отдаленных земель, куда судьбе было угодно забросить испанцев.
Понятно, что в этих условиях почва для формирования национального театра была несколько иная. Литературный театр (средневековые площадные формы – не в счет) появился, собственно, в XVI веке. В его распространении в Испании особо выдающуюся роль сыграл Торрес Наарро. Из Неаполя, где он жил некоторое время под покровительством известной поэтессы классицистского направления Виттории Калонна, он вывез основные театральные свои впечатления. Его собственные пьесы мало отличались от итальянских ученых комедий, построенных по всем правилам драматического искусства, как его понимали гуманисты (пять актов, прологи, эталон – античность). В том же итальянизированном духе продолжали работать и другие драматурги, не исключая и замечательнейшего из них Лопе де Руэда. Однако учено-гуманистический, в основном, итальянизироваиный театр пустить прочных корней на испанской почве не успел. С появлением в 70–80-х годах XVI века значительного количества профессиональных актерских трупп, выступавших перед городскими аудиториями, возникла потребность в драматургии не ученого толка. Зритель требовал репертуара, понятного ему по духу и культурному цензу. В качестве компромисса с народным зрителем появляются сочинения, в которых, при сохранности формы ученой драмы итальянско-классицистского образца, используются сюжеты, хорошо знакомые испанскому зрителю по традиционным романсам. Таковы, например, сочиненные Хуаном де ла Куэва «Комедия о смерти короля Санчо и вызов Саморе» или «Комедия об освобождении Испании Бернардо дель Карпьо». У Хуана де ла Куэва, этого, по справедливости, «крестного отца» новой испанской драматургии, уже появляется смешение трагического и комического, использование стихотворных размеров народной поэзии.
Борьба за свободный от произвольно установленных правил и доступный народному зрителю театр не была легкой. Сторонники охранительных позиций из среды придворных гуманистов не гнушались писать меморандумы на высочайшее имя с просьбой запретить «порчу вкусов и нравов». Вопрос стоял так: «Театр для избранных или театр для всех?»
* * *
Испанцы создали театр «для всех». Его создание и утверждение в правах справедливо связывается с именем Лопе де Вега (Лопе Фелис де Вега Карпьо, 1562–1635). Именно его титаническая фигура стоит у начала оригинальной испанской драмы. Новое драматическое искусство и Лопе де Вега почти синонимы. В своих панегириках на смерть Лопе де Вега итальянские поэты недаром называли его «Колумбом поэтических Индий». Он сумел сделать то, чего не сделали его итальянские предшественники. Из двойственности культуры Возрождения, примирив, так сказать, Кастильоне и Аретино, Лопе де Вега сумел извлечь новый, полный жизненной силы аффект. Он суммировал идеал и реальность, подражание природе и следование высоким образцам. Потому-то, по справедливому замечанию одного ученого, в творчестве Лопе де Вега, даже в наиболее народных его произведениях, «никогда не отсутствуют черты ученой ренессансной культуры».
«Колумбу поэтических Индий», «Чуду природы», «Океану поэзии», как восторженно именовали Лопе его благодарные соотечественники, принадлежит поистине необозримое количество произведений. Но подсчетам лорда Голланда, одного из первых серьезных биографов Лопе де Вега, из-под пера Лопе вышло около двадцати миллионов стихотворных строк, но считая внушительного количества прозы и писем. Этого хватило бы на целое поколение писателей. Шутка сказать, за неполных семьдесят три года жизни Лопе создал целую литературу! Если считать, что начал он профессионально писать с двенадцати лет, то, следовательно, на протяжении шестидесяти лет работы он должен был в среднем создавать по 34 000 стихотворных строк в год или чуть менее ста строк ежедневно. При этом Лопе де Вега отнюдь не был ни графоманом, ни кабинетным червем. Событий в его жизни хватило бы на добрый десяток увлекательных авантюрных жизнеописаний. Он знал годы нищеты и безвестности, взлеты беспримерной славы, разочарование в друзьях, искреннюю преданность, самую пылкую любовь и жестокие измены, дуэли, похищения, тюрьмы, участие в военных походах, раскаянья и новые прегрешения. Имя его еще при жизни было окутано легендами. Тем удивительнее кажется его плодовитость.
Как в количественном, так и в качественном отношении (вовсе не сбрасывая со счетов эпические поэмы, сонеты, прекрасные романсы и прозу) наиболее интересную часть наследия Лопе для последующих времен составляет все же его драматургия. До нас дошли 474 пьесы из общего числа 1500 (или по другим сведениям – 1800–2200), им написанных. Известны также названия еще 260 пьес, безусловно принадлежащих его перу. Многое из дошедшего носит следы всевозможных «доработок», изменений, вставок, сделанных как издателями, так и актерами.
Для приведения в порядок этого гигантского наследства потребовались усилия многих поколений ученых. Но и теперь еще невозможно утверждать, что существует действительно научное, надежно прокомментированное издание всех его драматических произведений. И в хронологии и в текстах белых пятен сколько угодно.
Не многим лучше обстоит дело и с биографией Лопе. До 70-х годов прошлого века, пожалуй, единственным источником служила посмертная биография-панегирик, сочиненный учеником, другом и горячим почитателем великого драматурга Хуаном Пересом де Монтальваном. Биографию эту можно было бы назвать «агиографической», уж настолько иконописным предстает из нее Лопе. Монтальван не жалел красок, чтобы изобразить благостность, аскетизм и глубочайшую религиозность своего учителя. Публикация в 70-х годах XIX века писем Лопе де Вега к его покровителю герцогу де Сесса внесла существенные поправки в монтальвановское «житие». Дальнейшие разыскания и тщательный анализ художественных произведений Лопе, содержавших автобиографические признания, помогли ученым восстановить более правдоподобный его облик.
Лопе де Вега родился в Мадриде 25 ноября 1562 года в семье золотошвея Фелиса де Вега. Одиннадцати лет он был отдан в иезуитскую школу, где обучался риторике, латинскому и греческому языкам. С 1576 по 1578 годы Лоне учился в университете Алкала де Энарес. Затем следуют годы службы секретарем у вельможи, ссылки (за скандальную связь с актрисой Осорьо), военной службы, работы для театральных трупп, опять секретарской работы, возвращения в Мадрид, беспросветной нужды, брака по расчету и снова нужды. Подкрадывается старость, а с ней – новые беды. Погибает в кораблекрушении единственный сын. Дочь похищена придворным повесой. 27 августа 1635 года Лопе де Вега умирает, и его смерть превращается во всенародный траур.
За свою бурную и на редкость неустроенную жизнь Лопе де Вега испытал много. Несчастных дней он видел несравненно больше, чем счастливых. Только редкостное жизнелюбие и фанатическая преданность искусству позволили ему, наперекор невзгодам, создать новую «театральную империю» и стать, по выражению Сервантеса, ее «самодержцем».
Империя создавалась с трудом и не сразу. Лопе опирался на опыт предшественников, искал, импровизировал. Первые решения бывали нередко компромиссными, привычное литературное сознание сталкивалось с живым ощущением. Мало было являться сторонником традиционной народной поэзии, культивировать романсы и исповедовать платоновские идеи о природе. «Привнесение» их в драматургию механически еще не решало дела. Были, например, случаи, когда некоторые современники Лопе дюжинами вводили романсы в текст пьесы, но от этого сам принцип классицистской драматургии не менялся. Или брались сюжеты из отечественных преданий и романсов, знакомых широкой публике, а античные котурны и самый дух оставался прежним, «ученым». Становилось все очевиднее, что обновление может быть лишь целостным, от построения сюжета до языковых и стихотворных средств. Надо было подвергнуть коренному пересмотру как цели, так и средства драматического искусства. К концу XVI века Лопе практически уже доказал преимущество и историческую правоту своей реформы, но с теоретическим ее обоснованием не спешил. Отчасти, может быть, не желая «дразнить гусей» – ученых теоретиков, отчасти – за недосугом. Он предпочитал отшучиваться и делать свое дело. Но то, что уже к тому времени смысл новой школы был им точно сформулирован, – сомнению не подлежит.
На фронтисписе издания 1602 года своих «Рифм» Лопе де Вега помещает девиз: «Добродетель и Благородство, Искусство и Природа». Этот девиз проницательно расшифровал замечательный испанский филолог Рамон Менендес Пидаль: «Природа выше искусства, благородство выше добродетели, так как благородство есть природное душевное величие. Добродетель же достигается усилием воли, это есть верность моральным предписаниям». В этом девизе, пусть несколько загадочно-афористичном, «Лопе де Вега, – продолжает Менендес Пидаль, – выразил тесную взаимосвязь между тем, что есть в жизни, и тем, что есть в литературе: моральные предписания порой могут быть попраны властью любви (Лопе де Вега делал в царстве воли исключение для любви. – Н. Т.), и тогда добродетель может найти убежище в природном благородстве души; строгие правила искусства могут и должны быть нарушены в драматургии, для того чтобы она была в состоянии достичь самых высоких вершин поэзии, чего требует от драматурга великая мать-природа».
«Новое руководство к сочинению комедий в наше время», которое Лопе де Вега написал через семь лет после этого девиза, как раз и посвящено обоснованию новых принципов. Суть его сводится к нескольким основным положениям. Прежде всего надо отказаться от преклонения перед авторитетом Аристотеля. Аристотель был прав для своего времени. Применять выведенные им законы сегодня – нелепо. Законодателем должен быть простой люд (то есть основной зритель). Необходимы новые законы, соответствующие важнейшему из них: доставлять наслаждение читателю, зрителю. К слову сказать, через много лет другой гениальный драматург, Мольер, почти дословно воспроизведет слова Лопе де Вега. В «Критике «Урока женам» Мольер скажет: «На мой взгляд, самое важное правило – нравиться. Пьеса, которая достигла этой цели, – хорошая пьеса. Вся публика не может ошибаться… ибо если пьесы, написанные по всем правилам, никому не нравятся, а нравятся именно такие, которые написаны не по правилам, значит, эти правила неладно составлены». Замечательно, что и величайший трагик Расин тоже с полным сочувствием повторяет эти слова! Значит, время приспело, но первым их произносит Лопе де Вега.
Останавливаясь на пресловутых трех единствах, законе, выведенном учеными теоретиками Возрождения из Аристотеля, Лопе оставляет как безусловное только одно: единство действия. Несколько забегая вперед, заметим, что сам Лопе и, особенно, его ученики и последователи довели этот закон до такого абсолюта, что он порой превращался в обузу не меньшую, чем единства места и времени у классицистов. Что касается двух других единств, то тут испанские драматурги действительно поступали с полной свободой. Хотя во многих комедиях единство места, в сущности, сохранялось, что вызывалось частично техникой сцены, частично – чрезмерным соблюдением единства действия, то есть предельным его концентрированием (пример – «Дама-невидимка» Кальдерона). Вообще надо сказать, что как во времена Лопе де Вега, так и в полемике романтиков с классицистами вопрос о «законе трех единств» приобретал чуть ли не первостепенное значение в теоретических спорах, но практически с ним считались только исходя из конкретных нужд того или другого произведения (неудачные образцы «полемической» драматургии, вроде «Кромвеля» В. Гюго, в данном случае принимать в расчет не следует).
Говорит в своем «Руководстве» Лопе и о принципиальном смешении комического и трагического. Как в жизни – так и в литературе. Ратуя за смешение, Лопе, таким образом, задним числом обосновывает уже сложившийся и утвердившийся в правах тот вид драматического сочинения, который получил название «комедии». Дело в том, что Лопе и его соратники все свои трехактиые стихотворные пьесы называли «комедиями», независимо от их содержания. В эпоху молодого Лопе термин «комедия» имел боевое, полемическое значение. Им обозначались пьесы, построенные на принципиальном смешении трагического и комического во имя большего жизненного правдоподобия. Такое понимание «комедии» пионерами национальной школы было резко противопоставлено чисто формальному пониманию «комедии» как специфического жанра (противоположному трагедии) приверженцами учено-классицистской системы, основанной на поэтике Аристотели и практике римского театра Сенеки и Теренция. Сторонникам обновления театра в Испании было ясно, что новое содержание, требования многочисленных зрителей из народа, желавших видеть на сцене жизнь в ее хитросплетениях, вызывали потребность в каких-то новых драматургических формах, которые с большей гибкостью могли бы выразить это новое содержание. Появились некоторые виды драматических сочинений, промежуточных между комедией и трагедией в классицистском понимании. Возмущенные хранители ученых традиций называли эти новые виды «чудовищным гермафродитом», а подшучивавший над их возмущением Лопе де Вега – более изящным и классичным словом «минотавр».