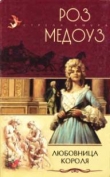Текст книги "Бабл-гам"
Автор книги: Лолита Пий
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
– Ой, какие мы хитрые, бестолочь несчастная. Снялись в жалкой полнометражке и уже воображаем себя рок-звездой. Копейки не дам за твою будущую карьеру. Валери Каприски, тебе это что-то говорит?
– Кто такая Валери Каприски?
– Да оставь ты в покое эту алкоголичку, – вмешивается Мирко, – пусть хлебает свое винище и заткнется, заколебала уже!
– Ты прав, – отвечает Дерек.
– Ты уволен, – говорю я со стоном.
– Никто не уволен, – говорит Дерек.
– Манон, телефон, – влезает Эмма, – это «Пари-Матч», они хотели бы задать вам несколько вопросов.
– Да пусть купят последнюю «Эль» и перепишут статью! Или «Вог», или «Гала», или португальский GQ, или «Инрок», или «Роллинг Стоунз», или «Эсквайр», или «Вэнити Фэйр»! Только пусть катятся к черту!
– Манон, кончай динамить «Пари-Матч». Ответь «Пари-Матч». Пожалуйста.
– Они поместили фото, где у меня складка жира! Что ты на это скажешь, а? Это недопустимо, я этого не собираюсь допускать и не допущу!
– Манон, ты возьмешь трубку и ответишь «Пари-Матч» на их вопросы, но если ты хоть раз произнесешь слова «искусственный член», полетишь в Штаты чартером.
– Неет! Мне осточертели вопросы! Удачно ли прошли съемки? Сработались ли вы со своими коллегами? Что вы чувствовали, снимаясь у Каренина? Близка ли вам ваша героиня? Ты знаешь, сколько раз я это повторяла, а, знаешь?
– Будьте добры, уберите свои когти с моей руки, мадам, я за рулем, и мне несколько неудобно переключать скорости.
– Нахал! Ты уволен!
– Никто не уволен, – повторяет Дерек, – и кончай царапать Жоржа, он за рулем.
– Дерек, эту полоумную надо посадить под замок и выпороть кнутом.
– Спасибо, Мирко, сейчас пока не стоит.
– Что такое кнут?
– Это русская плетка, которой наказывали преступников, – отвечает Дерек, он всегда готов услужить, если вам нужна справка.
– Ах ты, мерзавец! – говорю я и выливаю свой бокал на белый костюм Мирко.
– Дрянь, – рычит он, – я бы тебе показал, что почем, если б ты не трахала босса искусственным членом…
– Мирко, ты уволен, – говорит Дерек.
– Никто не уволен, – возражаю я, – Мирко прав.
– Мирко попросту хочется тебя убить.
– Манон, «Резервуар Продакшн» на проводе!
– Срать я хотела на «Резервуар Продакшн», пусть валят на хер!
– Манон Д. хочет на вас срать, месье, так что можете валить на хер, – добросовестно передает Эмма.
Я вырываю у нее телефон:
– Здравствуйте, это Манон Д., извините за нелюбезность моей пресс-атташе, она очень тяжело переносит перемену пола.
– Да что ж она опять несет, – стонет Дерек, – я больше не могу, Эмма.
– Нет, ну это уж чересчур, – заводится Эмма, – за пятнадцать лет работы насмотрелась я на мерзавок, но чтоб такая…
– Кнут, говорю вам! Нужен кнут.
– Ладно, кончайте, вы оба, эта женщина, быть может, однажды будет вынашивать моих детей, так что выбирайте выражения.
– Да, да, – продолжаю я, – еще две недели назад ее звали Роберто и она крутила великую любовь с воздушным гимнастом… Именно, с великим классиком сверкающего трико… Это надо было видеть, Эмма на «харлее», с баками…
Эмма на ходу выпрыгивает из машины.
– Ну вот и готово, больше эта идиотка никого грузить не будет, – говорю я и швыряю трубку прямо в морду стажеру, и в эту секунду мы тормозим перед особняком Каренина, опоздав ровно на пятьдесят три минуты.
И тут же началась эта чертова пресс-конференция, у меня даже не было времени глотнуть кофе, Дерек, Каренин и Эдриан демонстрировали профессионализм высшей пробы, а я – революционную болтологию, Дерек готов был меня задушить, я платила ему взаимностью. На вопрос: «Это ваша первая роль в кино, вам посчастливилось работать с Карениным, сознаете ли вы, как вам повезло?» – ответила: «Это моя первая роль в кино, и я ожидала чего-то большего, чем торчать круглыми сутками на грязной съемочной площадке и выслушивать оскорбления от старого придурка, чья голубая мечта – превратиться после смерти в скрипичный ключ», – на вопрос: «Что вы думаете о Чехове?» – я ответила: «Ничего, кроме того, что он уже помер и больше не будет долбать нам мозги своими пьесами», на вопрос: «Близка ли вам ваша героиня?» – я ответила: «Между мной и Ниной три большие разницы: во-первых, я не актриса-неудачница, иначе бы меня тут не было. Во-вторых, денег у меня куры не клюют. В-третьих, я мою голову». На вопрос, хорошие ли сложились у меня отношения со съемочной группой, я ответила, что гримерша меня била, тут Каренин встал и покинул пресс-конференцию, хватаясь за сердце, и пока все почтенное собрание усердно фотографировало его, в бешенстве выходящего из зала, и меня, в припадке буйного ликования, я схватила микрофон и проорала: «Не забудьте упомянуть, что я алкоголичка, что снималась я бухая, не забудьте упомянуть, что этот психопат Каренин за два месяца расколотил двести четырнадцать мегафонов, что продюсер каждый вечер отправлялся в Рим в бордель, а главное, главное, не забудьте написать, что этот фильм – говно, такого хренового фильма вы еще не видели и не увидите, самое большое говно, какое только выходило в прокат, а главное, а главное, не забудьте все свалить отсюда на хер, журналюги поганые!»
Потом меня вывели, и всех, кто был в зале, тоже, и эта пресс-конференция кончилась, и пока Мирко волок меня на выход, я смеялась без остановки, смеялась так громко, что кругом могли подумать, будто я ору, могли подумать, будто я реву, впрочем, на глазах у меня стояли слезы, и даже не стояли, а лились, целый фонтан слез, так я хохотала, а моя икота звучала как рыдания, это было так смешно, так смешно, что Дереку пришлось дать мне пощечину, чтобы я прекратила, но я и после этого не смогла прекратить, все мое тело смеялось, и я растянулась на земле, руки и ноги ходили ходуном, меня трясло, трясло, я уже даже не знала, почему смеюсь, даже не знала, что продолжаю смеяться, Дерек держал меня за руки, Мирко за ноги, и я слышала, как кто-то, наверно Жорж, вызывал скорую, и там, где я упала, на земле была кровь, и у меня перехватило дыхание, а потом – пустота.
Глава 12
Сбой
ДЕРЕК. Это был на редкость некрасивый мир. Я больше не выходил из дому. Я был почти как Майкл Джексон.
Я еще вовсю бунтовал, еще не вышел из взвинченного постподросткового возраста. Я был почти как Эминем.
Я запирался наверху, в своей башне из слоновой кости. Почти как проклятый поэт.
В том мире природные запасы красоты были исчерпаны. Мы проживали последние остатки. Сам я читал только тех, кто уже умер, слушал только тех, кто уже умер или умирал. Некоторые из них считали себя вполне здоровыми и не знали, что умирают. Потому что в конечном счете существовали лишь благодаря взгляду других. А другие предпочитали смотреть телевизор. А не авторское кино.
В этом мире миллионы сравнительно нормальных людей, то есть довольно уродливых и скорее глупых, как полагается по норме, требовали права демонстрировать свое уродство и глупость миллионам других уродов и глупцов, которые с удовольствием глядели на своих пафосных ближних, не зная, что перед ними не экран, а зеркало. Мы готовы платить за зеркало два раза в месяц, а чтобы не слишком туго затягивать пояса, возьмем ссуду, чтобы выплатить кредит, а может, и новую ссуду, чтобы погасить первую. А потом, когда судебные исполнители прижмут нам хвост, окажемся по ту сторону зеркала и будем разоблачать.
Разоблачение – болезнь эпохи, одна из многих. Мы будем разоблачать общество, потому что, в конце концов, недопустимо, чтобы это общество, виновное практически во всех нынешних бедах, требовало вернуть то, что дало взаймы. Чтобы оно обирало семьи честных тружеников, со всеми их спиногрызами на горбу, чтобы ОНО ВОРОВАЛО У НИХ ДОМАШНЕЕ КИНО! У, это общество!
Похоже, некоторые сознательно чистят зубы не чаще, чем раз или два в месяц. Другие узнают невероятные метафизические истины из уст домашних животных. Их собаки и кошки разговаривают с ними, но вам, месье ведущий, они ничего не скажут, они вас не знают, они пугаются всего этого шума, камер, публики, вот только что в уборной Жучка так разговорилась, что рассказала гримерше, какой ужас она пережила в тот день, когда ее мать подстрелил какой-то охотник на зеленом нормандском лугу. Прочтите ее книгу, она написала ее еще совсем щенком, это что-то вроде психоанализа того печального события… Нет-нет, она не сама печатала ее на ноутбуке с 13-дюймовым дисплеем, она продиктовала ее мне, ведь мы общаемся телепатически…
Ведущий задает вопросы с самым серьезным видом. С одной стороны, он работает на аудиторию, с другой – он на этих полоумных собаку съел, сколько он таких перевидал. Он вырежет свой дикий хохот при монтаже. Он мерзкий тип, но, строго говоря, он на стороне победителей, ему палец в рот не клади. Вопрос стоит так: зачем кончать самоубийством в мире, где больнее всего ранит взгляд?
В этом мире самоубийства случались каждый день.
Люди шли рассказать, как их изнасиловали, обнажить грудь, искромсанную бессовестным пластическим хирургом, шли продавать свой товар. Лиц никто не скрывал, это вышло из моды. Им хотелось переделать грудь, чтобы стать чуть больше похожими на мелкую дешевку из клипа, и их насиловали, потому что они были слишком похожи на мелкую дешевку из клипа. Телевидение ли создавало дурака или дурак создавал телевидение? Каждый мог протестировать свое семейное счастье за завтраком и свое невежество за обедом. Восьмилетние девочки хотели быть секси. Другие, чтобы на них обратили внимание, не нашли ничего лучшего, как требовать права носить хиджаб в лицее. В итоге в школах просто-напросто запретили носить хиджаб, и еще стринги.
У всех как будто была проблема, проблема, скажем так, идентичности.
Молодежь была в осадке, и всё вокруг – отстой. Работать – отстой. Носить брюки до талии – отстой, нужно волочить ноги и выставлять напоказ исподнее. Ходить в школу – отстой. К тому же школа – скучища, а преподы – придурки. При первой возможности молодежь шла на демонстрации против Министерства просвещения, они плохо представляли себе, зачем эта демонстрация и чего они хотят добиться, но шли. Естественно, для родительского авторитета настали тяжелые дни, родаки были воплощением отстоя. И когда два бедных отсталых существа, родители юнца, пытались донести до потомства глас разума (разумно = отстой), то бишь прочувствованное увещевание на тему будущего, сложного положения на рынке труда юноши без аттестата со штанами между колен и несколько размягченными излишком марихуаны мозгами, юнец из-под бейсболки с Че Геварой (он не знал, кто, собственно, такой Че Гевара, но Че Гевара – это круто) рявкал нечто вроде «Отвянь, достал» и запирался у себя в комнате, потому что начиналась «Фабрика звезд».
В начале XXI века случилось пришествие новой утопии, утопии «И ты тоже так можешь», явившейся побочным продуктом теории меритократии, утверждающей, что только достоинствами человека обусловлены его шансы на успех в мире, где все имеют возможность ходить в школу и все имеют обязанность платить налоги и пр. Из всего этого утопия «Ты тоже так можешь» взяла на вооружение только идею о равных шансах для каждого, зато отключила идею достоинств. Маленькое упущение. В любом случае юнец ходить в школу не хотел. И тем более не собирался платить налоги.
Он, юнец, тоже так мог, но что он хотел мочь?
Он хотел петь.
В те годы воротилам музыкального бизнеса уже какое-то время не давал покоя лукавый вопрос: «Зачем работать на износ, чтобы иметь успех, когда можно с тем же успехом вырабатывать дерьмо?»
Музыка была искусством, великолепным искусством, самым непосредственным, самым доступным.
Искусство было сложным, оно требовало таланта и инвестиций. Искусство было отчаянным, безумным поиском. Оно подразумевало страдание, ярость, ненависть. Подразумевало художника, это проклятое племя. В прошлом веке художники ломали мебель в гостиничных номерах и кончали с собой по неясным причинам. В позапрошлом калечили себя. Вечно лезли, куда не просят, например, в политику. Употребляли наркотики. Художники были шилом в жопе. С этим ничего нельзя было поделать: именно то, что делало их художниками, делало их и шилом в жопе.
Их надлежало терпеть, выносить, обхаживать, они нуждались в лести, в ободрении, вечно пребывали «в сомнениях», после трех ничтожных удач у них больше ничего не получалось, от них сбегали жены, их приходилось ловить и т. д. и т. п. Ладно б еще они были надежным вложением: раскрутился, так раз и навсегда, стал кассовым, так навечно! Но художник мало того что был шилом в жопе, он был еще и неровным. Случается, что гений меркнет, а когда гений меркнет, публика его отвергает. Публика отвергает, не понимает, вопит, выражает разочарование, бойкотирует его диски и в конце концов бросается на диски соседа.
Публику нельзя безнаказанно приучать к качеству. Когда качество снижается, публика сваливает. И непонятый гений отыгрывается на мебели гостиничного номера, а она, между прочим, стоит денег, и все псу под хвост. К тому же гения еще надо найти. Гении стадами по улице не ходят, особенно сейчас. И к достоинствам гения, или, скажем так, таланта, никак не относится способность всех примирять. Вокруг него всегда критика, споры, даже отторжение.
Искусство было для отдельного человека, дерьмо – для всех.
И тогда, со всеобщего согласия, решили повсеместно перейти к производству дерьма. Первым делом договорились обойтись без авторов: авторы всех задолбали, они одержимы навязчивой идеей нести какой-то месседж, который всем по фигу. Производство разбили на сектора: ты сочиняешь музыку, ты пишешь текст, ты поешь, а ты танцуешь, и первый, кто попытается выйти за флажки, вылетает за дверь. В парижских офисах, похожих на заводы, сочинители, похожие на чиновников, писали песни, не похожие ни на что.
Паролем служила пошлость. Паролем служило убожество. Паролем служила одинаковость. Пусть ничто не выбивается за рамки. Пусть никто не высовывается. Пусть певицы с голосом все будут страшные и тупые, пусть девицы из клипов все будут страшные и тупые. Уж их-то искать не нужно, таких на улицах тринадцать на дюжину. Пусть певцы будут похожи на певиц и будут тупые. И вообще пусть все будут тупые, это упрощает отношения между людьми. Получилось восхитительно никакое дерьмо. Оно без труда выполнило свою задачу – отупели сразу три поколения потребителей. Сильнее всего пострадали девочки от шести до двенадцати лет, потом подростки обоего пола, потом сентиментальные молодые женщины с ограниченными умственными способностями. Это было хорошо, но мало.
Пресса ворчала, ворчала интеллигенция, люди со вкусом, которые еще не окончательно вывелись. Они создавали лишний шум и не покупали диски.
Вывод напрашивался сам собой: все познается в сравнении. Сравнение решено было уничтожить. Не с чем сравнивать, нечего и познавать. А если нечего познавать, наступает единодушие.
С рынка убрали классическую музыку. Классическая музыка была немодной, герметичной, занудной. Стойки с дисками опустошили. Запасы на складах пустили под каток. Консерватории сожгли. Пианистов расстреляли. Предложили выкупить на вес золота собрания дисков у частных лиц, частные лица принесли диски. Их тоже пустили под каток.
Потом настала очередь рока, джаза и оригиналов кинолент.
Потом, уничтожив оригиналы кинолент, решили уничтожить фильмы вообще. Кино было искусством: это была фабрика по производству шил в жопе. Оно волновало людей, а некоторые фильмы, случалось, имели пакостное свойство снова подбрасывать некоторые идеи, в частности, идею прекрасного, в умы, с трудом поддающиеся отуплению. К счастью, кино по части финансирования зависело от телевидения, а телевидение было за нас. Телевидение послало к черту кино с его оравой мозгоедов. Вместо фильмов в кинозалах стали крутить клипы, рекламу, дебильные комедии и выпуски реалити-шоу. Со стоек магазинов убрали DVD. Запасы пустили под каток. Расстреляли актеров, не желавших переквалифицироваться в тупых певцов. Расстреляли режиссеров, не желавших снимать дебильные комедии. Предложили выкупить на вес золота собрания кассет и DVD у частных лиц. Частные лица принесли свои собрания. Их тоже пустили под каток.
Музеи закрыли.
Книги оставили в покое: их уже давным-давно никто не читал.
На этом сделали большие-пребольшие бабки. И даже больше, чем просто бабки: примирили всех. Нет фильмов со сценами насилия – нет насилия. Нет грустных песен – нет грусти. Нет рок-н-ролла – нет наркотиков. Вместо этого молодежь теперь хотела петь. Это было так мило. Целому поколению подарили призвание. Мы оказались почти пророками. Мир был доволен, он даже бросил курить.
Тут-то подростки и решили, что школа не нужна. Они вышли на улицы. Они, блин, хотели петь. Ведь если эти страхолюдные и тупые певицы могут петь ахинею и набивать себе карманы, да к тому же выступать по телевидению, то почему не могут они? Они, черт возьми, хотели петь, как все. И принялись петь. Они пели на улице, с микрофоном в руке и колонкой на плече, пели как можно громче, чтобы заглушить пение соседа. К ним присоединились проститутки, потом визажистки, парикмахерши, официантки, продавщицы, секретарши, цветочницы и журналистки из женских журналов. Они все тоже хотели петь. Потом настал черед автомехаников, рабочих, бакалейщиков, адвокатов, рестораторов, глав предприятий, футболистов, врачей, тореро, барменов, фармацевтов, почтальонов, фермеров, а главное, безработных. Они, блин, тоже хотели петь. Они пели на улицах, с микрофоном в руке и колонкой на плече, стараясь петь громче соседа. Микрофоны были в свободной продаже. Обзавестись ими не составляло труда. Их запретили продавать. Население этого так не оставило. Возник настоящий черный рынок микрофонов. Между соперничающими бандами вспыхивали сражения за монополию на торговлю микрофонами. Больше на улицах никто не пел: чтобы заставить друг друга замолчать, демонстранты пускали в ход кулаки, и не только кулаки, но и колонки, демонстранты лупили друг друга колонками. Уже были убитые. Пошла массовая резня, мир впал в остервенение. Он слишком отупел от дебильных комедий, клипов, дерьмовой попсы и прочих разновидностей дерьма. Дерьмо давало легкие ощущения. «Когда мир кормят легкими ощущениями, ничего хорошего не получается, ему нужны сильные ощущения», – простонал перед смертью один из демонстрантов, забитый колонками. Позднее выяснилось, что этот человек был лидером мелкой протестной группировки, которая жила на свалках и занималась грабежом складов, куда свозили последние оставшиеся экземпляры запрещенных дисков и фильмов, а потом переводила их в сжатый формат и распространяла из-под полы. Революционеры двинулись маршем к студии одного из государственных радиоканалов и взяли ее штурмом. За несколько минут, пока их не усмирили, а затем и не расстреляли компетентные органы, они успели перехватить эфир и запустить целиком «Симфонию № 6» Людвига ван Бетховена. И весь мир, слушая радио, плакал, сам не зная почему. Да и было отчего плакать: жрать совершенно нечего, потому что фермеры поют, транспорт не ходит, потому что водители поют, магазины закрыты, потому что торговцы поют. Грипп стал смертельной болезнью, потому что лечить его было некому. Деньги обесценились. Натуральный обмен стал невозможен, потому что нечего менять. Насилие расцвело с удвоенной силой: речь шла уже не о песнях, речь шла о выживании. На улицах, преданных огню и мечу, вскоре некому стало петь. Телевидение и радио, последние бастионы цивилизации, прекратили передачи: мир нашел свой конец в потрескивании пустого экрана.
Глава 13
А если все это
МАНОН. «Проснитесь же! Просыпайтесь!» Голова у меня чугунная, как с перепою, в глазах туман, вижу все как сквозь воду, я в своем номере в «Рице», время, скорее всего, около полудня, и с виду все более или менее нормально – и то, что я поздно проснулась, и что у меня похмелье, и что мне хочется разгромить все вокруг, как всегда, когда я просыпаюсь поздно и с похмелья, – короче, с виду все более или менее нормально, если бы не этот тип в ливрее, что трясет меня, словно куклу, и еще орет, как будто не знает, что я и не за такое по головке не поглажу.
– Эй, просыпайтесь! Эй! Вы меня слышите, мадемуазель?
– А ну убери свои грязные лапы, ублюдок, тебе кто разрешил войти? Я сплю!
– Кто вамразрешил войти?
– Не поняла?
– Да-да, кто вам разрешил сюда войти? Что это значит? Здесь все-таки гостиница, а не проходной двор!
– Да ну? Кроме шуток? Смешно, могу поклясться, что видела у входа вывеску «Проходной двор».
– Вы… вывеску? Вы видели вывеску…?
– Вот именно, вывеску, придурок. А теперь отвали и дай мне поспать.
– Но, мадемуазель…
– Что еще? Не бойся, я не стану жаловаться на твое излишнее рвение директору, не хочу иметь на совести еще одного уволенного отца семейства. Так что пошел вон.
– Мадемуазель, мне очень жаль… Здесь, наверно, недоразумение. Ровно в пятнадцать часов сюда прибывает Джордж Клуни со своей подружкой, топ-моделью, чье имя я не могу вам сообщить. Вы находитесь в ихномере. Вам нечего здесь делать. Горничная сказала мне, что вы здесь. Мне поручено вас выпроводить. А если вы будете сопротивляться…
– Да ну? Это еще что за чушь? Если королева английская – топ-модель, то я и есть королева английская.
– Мне поручено… применить силу.
– Что? Если это шутка, то очень дурного толка.
– Сожалею, мадемуазель.
– Вы знаете, кто я такая?
– Сожалею, не имею чести…
– Где Дерек?
– Где… кто? Не понимаю, о ком вы говорите.
– Дерек Делано, кретин. Отвернись. Отвернись!
Я ищу пеньюар, который всегда бросаю, скомкав, в ногах кровати. Его там нет.
– Как тебя зовут? – спрашиваю.
– Эрнест.
– Эрнест, принеси пеньюар из ванной, хорошо?
– Да, мадам, без проблем, вы оденетесь и уйдете, правда?
Это явно скверная шутка идиота Дерека, он уже не знает, что и придумать, чтобы наша совместная жизнь не погрязла в рутине, а этот бедный невинный коридорный абсолютно не в курсе, судя по его растерянной и сокрушенной физиономии. Он в самом деле принимает меня за какую-то жалкую проститутку без определенного места жительства, еще немного, и предложит пожить у него, пока я не получу социальное жилье и работу.
– Держите, мадам.
Я запахиваю пеньюар и направляюсь к платяному шкафу.
– Посмотрите, в своем я номере или нет. В этом шкафу вся моя одежда.
Я открываю шкаф, и он пуст, словно VIII округ в праздничный день, ни единого платья, ни единой туфли, а из соседнего отделения куда-то улетучились еще и костюмы Дерека. В шкафу ничего, только вешалки с клеймом «Рица», позвякивая, качаются в пустоте.
– Ладно, Эрнест, пошли в ванную.
– Там тоже ничего нет, мадам, я только что из ванной.
– Мои кремы «Ла Прери»! – восклицаю я и бегу в ванную, и там тоже больше ничего нет, ни моих кремов «Ла Прери», ни набора косметики «Харви-Николс», которой я никогда не пользовалась, ни бритвы Дерека, ни расчески, ни щетки, ни даже моего фена, ни большой косметички, ничего, даже ни единого волоска в джакузи, ни единого пятнышка на зеркале, ни запаха недавнего душа, все пусто, пусто и голо, как в обычной гостиничной ванной. И я кидаюсь вон, вне себя, и прочесываю все комнаты в номере, а этот кретин ходит за мной по пятам, и все комнаты так же пусты, как и ванная: исчез и музыкальный центр В&О,и киноэкран, и DVD, и лазерные диски, и громадные колонки, и партитуры на рояле, и фотографии Дерека, и мои фотографии, и афиша фильма за стеклом у входа, и зарядники от мобильных телефонов в розетках у кровати, впрочем, и сами телефоны тоже, и весь хлам, скопившийся за полтора года совместной жизни, судорожных покупок, переездов туда-сюда, успокаивающего затоваривания. «Здесь никто не живет, – говорю я себе, – здесь-никто-не-живет», и хватаюсь за последнюю надежду – сейф, набираю комбинацию цифр, говоря себе, что внутри будет лежать письмо от Дерека, быть может, сообщение о разрыве, о самоубийстве или просто объяснение: «Ну что, купилась? Приезжай ко мне в «Пенинсулу» в Гонконг, у отеля тебя ждет машина, тут наличка на чаевые, прикройся, по ночам в самолете холодно», но надеюсь я недолго, не больше двадцати секунд – столько мне требуется, чтобы три раза подряд набрать комбинацию цифр, и в тот момент, когда сейф блокируется, я понимаю, что если у меня не получается его открыть, то не потому, что я слишком нервничаю или механизм сломался, нет, если не получается его открыть, то просто потому, что я не знаюнужной комбинации, и, в последний раз окинув взглядом пустынную комнату, огорченное лицо гарсона, запертый сейф, я чувствую, что у меня кружится голова, словно под моими босыми ногами разверзлась пропасть в этом номере «Рица», который явно не мой номер, который, быть может, не был моим никогда.
– Мадемуазель, а теперь надо уходить, вот, возьмите свои вещи.
В глазах у меня все плывет, как при приступе гипогликемии, я ощупью беру лоскут красного шелка, который он протягивает мне, протираю глаза и подношу этот предмет к свету. С первого взгляда ясно, что это платье весьма сомнительного покроя и качества, быть может, «Унгаро», одна из старых моделей «Унгаро», такое старомодное, что его могла носить Мишель Пфайффер в «Лице со шрамом», только вот «Лицо со шрамом» – фильм начала 80-х.
– И вот еще сапоги…
На сапоги я не хочу даже смотреть, я на грани срыва.
– Мадемуазель, не плачьте, мы сделаем все, чтобы вам помочь…
Я плачу.
– Эрнест… вы же все-таки… не хотите… чтобы я это надела?
– Вам нужно спуститься вниз, мадемуазель, а из ваших вещей здесь только и есть что это платье, эти сапоги и эта связка ключей.
– Лучше я спущусь в халате, если вы не против. А? Лучше мне в халате выйти на улицу, лучше мне вообще голой идти на улицу искать Дерека, чем надеть эту старую тряпку. Что подумают мои фанаты, а? Вы не можете со мной так поступить. Отдайте мне мою одежду, мои драгоценности, мои часы и мои кремы «Ла Прери». Почините этот сейф. Дайте мне позвонить Дереку. Умоляю, дайте позвонить Дереку. Не знаю, почему он со мной так поступает. Я ничего плохого не сделала. Правда, я немного переутомилась в последнее время, но все пройдет, я опять стану милой и послушной, как только этот прессинг немного спадет… Мы поедем отдохнуть, на Берег. Немного отдохнуть, нам это будет полезно. У нас там очень красивый дом, обязательно приезжайте отдохнуть, вместе с семьей. Вы такой милый. Вы здесь совершенно ни при чем. Это Дерек. Во всем виноват Дерек. Мы поедем отдохнуть на Берег, там очень красивый вид, красивый бассейн. Будем кататься на яхте. Вы когда-нибудь плавали на «Риве», а? Вот увидите, она очень красивая, очень удобная. Все очень красиво. Мы живем как в сказке, вот увидите. Хотите, можем уехать сегодня после обеда? Рейсы каждый час. Это в часе лёта отсюда. Можно даже лететь частным рейсом, если предупредить их сейчас. Только дайте мне принять душ, переодеться и собрать вещи…
– Наденьте это, мадемуазель, уже час дня.
А если все это…
– Отвернитесь, пожалуйста, Эрнест.
Он отворачивается, и я натягиваю платье и сапоги. Потом иду за ним – с таким чувством, словно иду на эшафот, во рту металлический привкус – и чувствую, что в моем правом сапоге что-то есть, и в тот момент, когда за мной закрывается дверь номера, я сую туда руку и хватаю купюру в пятьсот евро – я умею узнавать их на ощупь, мы с Дереком часто играли в «сколько денег у меня в руке» с завязанными глазами, – я вытаскиваю всю пачку из сапога, там двадцать штук: десять тысяч евро. Опять Дерек. И тут я вспоминаю и это платье, его мне одолжила Сисси, и «Павильон» на Елисейских Полях, и «Суперзвезд», и зависть Сисси, и этот закрытый просмотр, где были все звезды, где был Дерек, где все началось. На мне было это платье, и там был еще этот тип, вместе с Леонардо, который назвал меня Леди в Красном и заставил пить до посинения, я впервые в жизни напилась, и комната кружилась, и я потеряла Сисси в толпе, и слава богу, Дерек отвез меня в этот номер, в наш номер, которого я никогда не покидала и который покидаю сейчас. В том же платье. В тех же ободранных сапогах. И со всем тем, что в них находится. Ключами, неизвестно от чего, и пачкой сиреневых купюр с соседними серийными номерами. Я выхожу из лифта и ищу хотя бы одно знакомое лицо: на ресепшне одни незнакомцы с враждебными лицами. Я направляюсь к ним:
– Здравствуйте, Люсьена можно видеть?
Сзади Эрнест не сводит с меня жалостливого взгляда.
– Он из какого номера? – спрашивает тип почти нагло.
– Он консьерж, – отвечаю я, сжимая кулаки.
– Я консьерж, мадам.
– Что вы мне рассказываете, – говорю я, – я здесь живу полтора года, и вы не консьерж этого отеля. Где Люсьен?
– Здесь нет никакого Люсьена, мадам, и я бы вас попросил сохранять спокойствие.
– Хорошо, – отвечаю я, – тогда я бы хотела видеть директора.
– Директор занят, мадам, чего вы желаете?
– Чего я желаю, чего я желаю…
Я на пределе, я чувствую, как мои ногти впиваются в ладони, у меня болит челюсть, так я сжимаю зубы, мне хочется плакать, я думаю: меня преследуют, преследуют ожесточенно, это заговор, сейчас задушу этого мерзавца, у меня нервный срыв.
– Похоже, вы получили, чего хотели, не правда ли, мадам? – роняет мерзавец, поглядывая на пачку денег, которую я нервно мну в руках последние несколько минут, собственно, с тех пор, как вышла из лифта, и я вдруг вижу, что все эти люди вокруг глядят на меня свысока, с отвращением, с презрением, без того проблеска любопытства и восхищения, какой я научилась улавливать в глазах всех, кто меня узнавал. Но в холле «Рица» в эту минуту меня никто, никто не знает, а в зеркале напротив отражается девица в красном платье, сжимающая в руках разлетающиеся бумажки и как две капли воды похожая на последнюю шлюху.
– Эрнест вас проводит.
– Нет, – кричу я, – довольно, с меня хватит, сию же минуту кончайте эту шутку, скажите мне правду, прошу вас, скотина вы этакая, скажите мне правду, где Дерек, я хочу Дерека!
– Дерек! – ору я, отвернувшись. – Дерек! Где ты? Покажись, ты, негодяй, прекрати этот кошмар! Дерек!
Я куда-то бреду по холлу «Рица», зову: «Дерек! Дерек!», и мой замогильный голос гулким диссонансом отдается в этом устланном коврами, чопорном холле, где, наверное, уже сто лет никто громко не говорил, я открываю все двери, останавливаю проходящих и гляжу им в лицо, я почти бегу, но на самом деле бегу на месте, потому что, по сути, не знаю, куда иду, и оступаюсь на ковре, и хватаюсь за колонну, мои купюры падают и разлетаются по полу, а мне плевать, я ищу Дерека, Дерек знает правду. Я знаю, он где-то прячется, может, в этом баре, может, в «Хемингуэе», или в длинном коридоре, на террасе, в простом однокомнатном номере, чтобы замести следы, снаружи за колонной, переодевшись в шофера, и когда я его найду, начнет веселиться, как всегда, когда я ловлю его на подвохе, и скажет мне: «Ну что, цыпочка, неплохая оркестровка для моей мизансцены?» – и не знаю, то ли я рассмеюсь с облегчением, то ли убью его. Меня ловят у входа в ресторан. Мерзавец с ресепшна хватает меня за руку выше локтя: