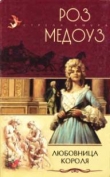Текст книги "Бабл-гам"
Автор книги: Лолита Пий
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
Глава 9
Воспоминания
МАНОН. Вначале я не хотела верить. Еще недавно, совсем недавно, вот-вот, всего каких-то несколько минут назад я подавала кофе вTrying So Hard всяким ничтожествам и смотрела на них с восхищением. Я жила на чердаке в богом обиженном IX округе. И для меня это была красивая жизнь.
Сегодня ровно девять месяцев, как мне исполнился двадцать один год. Я отмечала день рождения с отцом, в задней комнате забегаловки на Конечной, что в департаменте Эро, и пила скверную шипучку из высокого пластикового фужера.
Это не воспоминания, все это вспоминается с трудом, словно никогда и не было; это словно застарелый кошмар, а недавно я вдруг проснулась, я встаю, накидываю пеньюар, зову горничную, машинально открываю газеты Дерека, за кофе разглядываю Вандомскую площадь, или Парк-авеню, или Средиземное море, и моя прежняя жизнь вдруг ярко, до боли, возникает во мне, когда я наливаю ванну, обрывками, картинками, вспышками. И еще смутная уверенность, что здесь я лишь временно, и тоска.
Мой рост 1 м72 см, вес 46 кг, объем груди 88 см, талии 62 см, бедер 88 см, волосы каштановые, глаза синие. Так написано на обороте моей композитки, но я знаю, что роста во мне чуть меньше, а веса на два килограмма больше, фотографировала меня Инез ван Ламсвеерде и ее миленький маленький ассистент, как две капли воды похожий на Гийома Кане, в Нью-Йорке, когда мы с Дереком туда ездим, мы всегда спим в «Пьере», а вся моя одежда от Дольче и Габбаны.
На обороте большой портрет – я с надутыми губами, они меня заретушировали от и до. На моем лице ни единой тени, будто я вчера родилась. И, думаю, я родилась как раз в тот день.
Если приглядеться поближе, видно отражение объектива в моих глазах, такое пятнышко света.
Это была моя первая обложка, обложка итальянского «Вог».
Потом было множество других, и рекламные кампании – машин, косметики, парфюма, цифрового фотоаппарата, соляриев, имбирной кока-колы, джинсов,« Вюиттона».
Я выучила все свои ракурсы и профили, и экзотические имена топ-моделей, и пышные, устрашающие имена звездных фотографов, звучащие как названия песенRadiohead, я знаю, что все мы страдаем анорексией и что, как везде, все спят со всеми, а потом всё отрицают. Я подписалась на «Эль», «Вог» и «Нюмеро», сбросила десять кило, питаясь исключительно жидкими средствами для подавления аппетита, и с тех пор сижу на спазмолитиках. Похоже, это были амфетамины. Я помню мощеные, с травой между плитками, дворы перед белыми студиями, пахнущими краской. На заре солнце сверкало здесь с немыслимой силой сквозь витражный потолок, я выпила тысячи чашек кофе в пеньюаре, грубя гримершам, которые в свою очередь грубили мне, жаловалась на плохое самочувствие из-за смены часовых поясов и хамство фотографов, принимала с тяжким вздохом множество лекарств, говорила, что гримерша – отличное ремесло и что если бы я была недостаточно красива для модели, то, наверное, стала бы гримершей, потом меня спрашивали, готова ли я, и я валилась на пол, прилипала спиной к стене, истерзанная вентиляторами, щелчками и вспышками, и ждала, когда все это кончится. Я не могла обходиться без зеркал и седативов. Мне обесцветили волосы, перекрашивая из каштана в платину, а из платины в фиолетовый цвет, в них меняли удлинители и накладки, у меня челка по четным дням и локоны по нечетным, веки – сплошная рана из-за накладных ресниц, и обмороки из-за диеты, иногда мне скотчем оттягивали виски, чтобы удлинить разрез глаз, меня мазали маслом с ног до головы, даже во рту, я лазила по деревьям на шпильках, утягивалась в корсет до удушья, я плавала в лужах грязи, бежала по обочине шоссе в Лос-Анджелесе, часами, в разгар августовской жары, а асфальт плавился и прилипал к босым ногам, я прошагала километры по пляжу, когда на улице не было и пятнадцати градусов, в купальнике, улыбаясь ледяной воде, я вывихивала себе руки, ноги, все тело, меня разрывали на части, дробили, четвертовали – чтобы я превратилась в мечту фотографа.
Из «Вэнити» мне перезвонили сами. Однажды, ранней весной, я была в Портофино, или в Порто-Черво, или в Марбелье, а быть может, в Сен-Тропе. Просто я помню, что было шесть часов вечера, в окне море, шум волн, оранжевое солнце устремляется к горизонту, помню нежное прикосновение пеньюара к моей просоленной коже, вкус« беллини». С Дереком мы были вместе всего десять дней, я не решалась даже подписать счет в отеле. Мой старенький телефон зазвонил. Мы оба подскочили, мне звонили в первый раз за десять дней. Дерек отложил книжку, эссе какого-то американца о мотиве предательства у Скорсезе, и посмотрел на меня странно – как будто с сожалением.
– Алло?
– Вы Манон?
– Да!
– Здравствуйте, это говорят из агентства «Вэнити».
– …
– Я не помешала?
– Нет…
– Гм… Не могли бы вы в ближайший понедельник приехать на пробы?
– Кто вам поручил мне позвонить? Жорж?
– Нет, мадемуазель, Жорж у нас больше не работает. У агентства теперь другой владелец.
– Правда? И давно?
Смущенное покашливание.
– Со вчерашнего дня.
– А как вы узнали мой телефон?
– Я же говорю, нам вас рекомендовали.
– Но кто?
– В понедельник, в одиннадцать, в агентстве?
– Кто вам меня рекомендовал? Не понимаю, кто мог вам меня рекомендовать?
– В понедельник, в одиннадцать?
– Да. Да, в понедельник, в одиннадцать. Но ответьте. Кто вам сказал… кто вам меня рекомендовал?
– Конечно… человек, который желает вам добра.
И повесила трубку. Я обернулась к Дереку, он уставился на мой телефон, который я уронила на пол.
– Дерек? У меня в понедельник пробы, в« Вэнити».
– Честное слово, надо… надо мне купить тебе новый мобильник.
– Звонила какая-то странная девица.
– Потому что этот – что-то невозможное.
– Я его подобрала под банкеткой, в ресторане.
– Кто бы сомневался, цыпочка.
– Думаешь, я стану моделью?
Дерек не отвечает, отводит глаза. Молчит до тех пор, пока молчание не становится настолько тягостным, что ему ничего не остается, как его прервать.
– Сколько гостиничных счетов можно будет подписать, – произнес он, сопровождая свои слова жестом.
– Тебе плевать?
– Мартин Скорсезе смотрел больше двадцати тысяч фильмов, представляешь?
Я замолчала.
В следующий понедельник я отправилась в «Вэнити», прошла пробы, и все обращались со мной почтительно и даже как будто с опаской. Потом все покатилось очень быстро, я еще композитку не получила, а уже снялась в ролике и в двух рекламных кампаниях. Мы только и делали, что путешествовали, по работе Дерека или в отпуск Дерека, Дереку без конца требовался отпуск, и куда бы я ни приезжала, там всякий раз находился кто-то, кто хотел бы со мной работать. За несколько недель мой график оказался расписан на год вперед, а все города мира покрылись моими портретами в три четверти. Я стала изрядно выпивать, чтобы выдержать этот ритм. Меня узнавали на улице. Сначала это меня трогало. Потом начало утомлять. Сейчас я от этого просто заболеваю. А Дереку все равно. Ему вообще все все равно. Однако он очень заботился обо мне. Давал мои контракты на визу своим адвокатам, а потом у меня появились свои адвокаты. Давал мне советы, пока я не научилась обходиться без его советов. Советы он давал примерно такие: «В конце концов ты сыграешь в ящик, как все, но никогда не забывай, что на тебя смотрят». Не знаю почему, но он запрещал мне общаться с другими моделями. Он питал какое-то странное отвращение к моделям, и я спрашивала, какого черта он тогда делает со мной. Он не отвечал. Мне нельзя было даже разговаривать с другими девушками. И с моделями-мужчинами тоже. Он ездил со мной на съемки каждый раз, когда позволяло время, стоял под дверью в своем вечном черном плаще, с поднятым воротником – из-за вентиляторов, – руки в карманах, и ему явно до смерти хотелось сбежать. И все-таки он стоял, в своей дурацкой кепочке, натянутой на уши. В то время он беспрерывно слушалThe Gathering и мог говорить о них часами, «ах, какое чередование то мучительной, то возвышенной печали». Просто больной. Я говорила ему, что постоянно ходить с плеером в ушах антиобщественно. Он отвечал, что это позволяет ему не слышать адского количества глупостей, что он предпочитает иметь дело с реальностью преображенной и в любом случае умеет читать по губам, «цыпочка». Я намекала, чтобы он себе его куда-нибудь вживил, будет не так явно. Он отвечал, что ему уже приходила такая мысль, но, к счастью, есть еще вещи, которые он не может купить. Я спросила, неужели это так дорого. Он усмехнулся: нет, цыпочка, просто такое не делают. А потом пробормотал что-то касательно своей самоубийцы. Жюли, с которой он провел такие потрясающие минуты, они сидели рядом, оба в наушниках, обмениваясь музыкальными поцелуями. Кажется, именно тогда я начала его ненавидеть. В последний раз, когда мы были в Нью-Йорке, я прогнала его из своей постели, но его это не слишком взволновало. Я все спрашивала себя, на кой черт я ему нужна, я с ума сходила. И еще я спрашивала себя, почему, дьявол его побери, почему, если я нужна ему как дырка в голове, он не может хоть на минуту оставить меня одну. Он ездил со мной на все деловые встречи, на все съемки, я требовала, чтобы его выставили вон, но никто не хотел выставлять его вон. Он ездил со мной по магазинам, а когда ему действительно надоедало, или когда надо было идти работать боссом – Дерек, боссом! – или когда он уезжал кататься верхом на свой конный завод в Нормандии, он подсылал Мирко или шофера, и этот кретин Мирко с утра до вечера ходил за мной хвостом, и включал в своей тачке русские песни, и орал «Калинкакалинка-калинкамая», и хлопал в ладоши, и убавлял звук разве что затем, чтобы доставать меня историями о первых «боях без правил», когда он был молодой и сильный, и еще не было запрещенных приемов, и можно было бить даже по яйцам и в спину, и о том, как однажды он сожрал ухо у борца сумо, откусил, прожевал, проглотил, переварил, стоит ли удивляться, что от этого каннибала в роли телохранителя у меня ехала крыша.
А потом, в один прекрасный день, моя букерша вдруг сбежала. Мы сидели у нее в офисе, она рассказывала про новый фильм Каренина, экранизацию пьесы Чехова – я понятия не имела, кто такой этот Чехов, – в главной мужской роли он видел Эдриана Броуди, в общем, высокоинтеллектуальный проект, что-то вроде «театра в театре», и режиссер думал обо мне с тех пор, как появилась эта реклама имбирной кока-колы – первый порноролик, его так и не пустили в прокат, – тридцать секунд знойного секса с Вернером при лунном свете, на земле, а кругом непролазная глушь, русская тундра, и гениальный слоган: «Имбирная кола: чего вы жаждете?» Скандал. Соблазн. Каренин любит скандалы. В общем, так говорила букерша, и поскольку он любит скандалы, соблазны и тех, через кого они приходят, он писал сценарий по пьесе с моей фотографией на рабочем столе компьютера, и тут у меня навернулись слезы, потому что хоть я и стала девкой, настоящей девкой, испорченной и одержимой звездной болезнью, кино было моей главной мечтой, действительно единственной моей мечтой, и вот она скоро осуществится, и я по-настоящему расплакалась от счастья, и она расплакалась тоже, и сказала, что больше не может, что это уж слишком, это выше ее сил, и выскочила из офиса. Я была в недоумении, и Дерек тоже. Я сказала, что не понимаю, что на нее нашло. Дерек ответил, что она, наверно, сама тоже хочет сниматься в кино, но, на ее беду, эта сфера более или менее закрыта для толстух, а может, она беременна. Назавтра она уволилась, я получила роль, и мною занималась уже другая букерша. По голосу я узнала ту девицу, что звонила мне полгода назад и приглашала в «Вэнити» на пробы. Но я, видимо, обозналась, потому что, по ее словам, это была не она. Да и вообще я не понимала кучу вещей, иногда мне казалось, что я сошла с ума или у меня шизофрения, и Дерек отправил меня к своему психиатру, а тот прописал мне антидепрессанты и снотворное, настоятельно посоветовав не мешать их с алкоголем или кокаином. А потом были съемки фильма« Чайка». Мою героиню звали Нина, и она хотела стать актрисой. Съемки шли в одних и тех же декорациях, на одной площадке, где-то в недрах студий« Чинечитта». Гениальный декоратор по имени Чарли – о нем все говорили, но никто никогда не видел – воссоздал русскую усадьбу конца XIX века. Когда Дерек в первый раз увидел декорации, он прослезился. Продюсировал фильм он сам. Съемочная группа была небольшая, и по-французски не говорил никто, кроме Дерека и Эдриана Броуди, а с ним Каренин запретил мне общаться во время перерывов, чтобы не выходить из роли. В принципе, разговаривать нам было особо не о чем. Каренин был законченный псих. Из тех вечно терзающихся звездных режиссеров, что смотрят на актера как на вещь и моделируют ему душу и тело кувалдой. Я полтора месяца не мыла голову. Носила дырявые туфли. «Чехов был бы доволен», – постоянно твердил Каренин. Эдриана он называл не иначе как Константин, и вся группа тоже называла его Константин, по имени персонажа. Но меня называли Манон, и мне хотелось верить, что это привилегия.
Каренин сам натаскивал меня в английском; что же до роли, то мне не давали ни секунды передышки. Я должна была« быть» своей героиней, и вся группа получила приказ изводить меня, оскорблять, притеснять, максимально усиливая тот надрыв, что уже существовал во мне и позволял «вживаться в роль» перед камерой; а меня от слова «вживаться» тошнило. Каренин осыпал меня русской бранью. Он крушил все на площадке. А чтобы успокоиться, слушал ноктюрны Шопена, говорил, что если бы он был музыкальным произведением, то хотел бы стать ноктюрном ми минор опус72 № 1. Больной на всю голову.
Дерек переводил ругательства и комментировал поломки имущества:
– Сейчас он назвал тебя грязной безмозглой проституткой. А сейчас он швырнул мегафон на пол.
– Спасибо, не слепая.
Дерек был иного мнения относительно опуса 72, он говорил, что предпочел бы стать ноктюрном ми минор опус 48 № 1, и оба пускались в бесконечные споры, а я, стоило Каренину отвернуться, удирала с площадки и отправлялась промочить горло со своей парикмахершей в баре ее гостиницы, она могла связать пару слов по-французски, но после нескольких рюмок это было в любом случае абсолютно неважно, водка – язык интернациональный. Каждую ночь я жаловалась Дереку на дурное обращение Каренина, а Дерек отвечал: «Ты хотела быть актрисой? Ты хотела быть актрисой? Ты хотела быть актрисой?» Мы не могли уснуть. Через две недели у меня были такие круги под глазами, что я попросила разрешения играть в темных очках. Естественно, мне не разрешили. Даже пописать толком не давали. Гримерше велели подчеркнуть синяки под глазами и сделать щеки еще более впалыми. Я была похожа на самый настоящий труп. Дерек ездил в Рим, по девочкам, и возвращался. Я закатывала ему сцену, он все отрицал, утверждал, будто ездил, чтобы посетить Сикстинскую капеллу. Ночевали мы в« Поста Веккья», и контраст между шикарным отелем и грязной съемочной площадкой становился нестерпимым. По вечерам я сидела на террасе, выступающей в море, одна, убрав свои мерзкие волосы под косынку от Пуччи, полумертвая, совершенно одуревшая от« беллини», и слушала, как у меня под ногами волны разбиваются об опоры и откатываются назад, все смотрели на меня и шептались, и тогда я говорила себе, что моя жизнь не лишена поэзии, и если бы Дерек был другим, я, наверное, была бы счастлива. Я любила вставать в шесть утра и проглатывать завтрак, зная, что набираюсь сил для любимого дела – игры, любила камеру, сумятицу съемочной площадки, любила даже повторять по двадцать раз одну и ту же сцену, здесь мне было лучше, чем на Конечной, и хоть я не выносила Каренина, но знала, что он – из числа величайших, и слава не за горами.
Я удвоила дозу антидепрессантов.
А потом эти бесконечные съемки взяли и кончились, так же внезапно, как кончается сам фильм. Эдриан из-за меня застрелился, и на том все. Мы собрали пожитки, я взяла на память хлопушку, и Дерек смеялся надо мной.
На время, пока шел монтаж, мы вернулись в Нью-Йорк. Потом отправились в Токио. Потом в Стамбул. Потом в Дубай. Потом в Лондон. Потом в Монако, отдохнуть – отдохнуть от чего? – а потом были эти четыре дня в Сен-Тропе, просто конец света. Еще в Монако я поняла, что у меня, что называется, депрессия и депрессия эта скоро станет просто-напросто нормальным моим состоянием: внутри у меня было на удивление пусто. Я с нетерпением ждала промоушна и выхода фильма. Единственное, что позволяло мне держаться, была мысль о моем искусстве, о том, чтобы показать свою работу всем, хватит с меня быть всего лишь топ-моделью, мне хотелось сказать:« Смотрите, я еще и актриса». Я изменила Дереку с аргентинцем из команды по поло. И в тот же вечер сообщила ему. Он отреагировал вяло:
– Да? И почему?
– Не знаю… может, потому, что мне очень понравился его «мурсьелаго».
– Пфф, – фыркнул он, – напрокат взял!
А потом рассказал мне историю того быка, Мурсьелаго, такого красивого и храброго, что тореро так и не решился добить его, и я сказала:
– Зачем ты мне рассказываешь эту тупую историю, на черта мне сдался твой бык, отстань от меня со своими дурацкими анекдотами, достал уже!
И он ответил, очень спокойно:
– Быть может, ты и есть этот бык, цыпочка.
И на всех наших обедах никто не говорил по-французски. В Монако мне было до смерти скучно, я бродила по коридорам «Отель де Пари» в жесточайшей тоске. Мне часто случалось завтракать в одиночестве, и чтобы меня поняли, приходилось по три раза повторять заказ, так тихо я говорила. Я проводила долгие-долгие дни у гостиничного бассейна, подсчитывая чужие состояния, из репродукторов неслись звуки танго, и мне казалось, что они улетают за горизонт, а я все лежу, как приклеенная, в своем шезлонге. Я загорела так, что больше не могла загореть. Все разглядывали мои часы и бриллианты. Меня вообще все разглядывали. В один прекрасный день я сбежала. Меня нашли в бутике «Шанель», я забилась в примерочную кабинку. Назавтра об этом писали все газеты. Дерек разбудил меня, швырнув их мне в физиономию и повторяя почти гневно: «Достоинство, цыпочка, ты хоть знаешь, что значит достоинство?»
Я сказала ему, что у меня депрессия, Дерек заявил, что я капризничаю. Мне казалось, что мои лекарства фальсифицированные. Дерек заявил, что у меня паранойя. Он без конца висел на телефоне, а когда я приходила, вешал трубку. Жизнь была отнюдь не веселая. Мы часто ходили на вечеринки и везде встречали одних и тех же людей. Нас много фотографировали. Через неделю снимки появлялись в журналах. Я пила почти наравне с Дереком. Теперь мы не выносили друг друга. Я решила постричься и покраситься в платиновую блондинку. Сделала татуировку вокруг губ. Сделала инъекцию коллагена. Пресс-атташе меня обругала. Я ее уволила. Я постоянно сидела на диете. У меня появился русско-итальянский акцент. Я говорила, что это мимикрия. На самом деле мне просто хотелось выпендриться. Я не выносила никого и ничего. Заставляла закрыть бутик, мерила все подряд, проливала кофе на продавщиц и уходила, ничего не купив. У меня было слишком много одежды. Когда кончался сезон, я все выбрасывала. Все, с кем мы встречались, были либо красавцы, либо богачи, либо знаменитости, а иногда и то, и другое, и третье, но все они были пафосные. Я боялась пафоса, как заразы. У меня не было друзей. Мир слишком мал, в этом мы с Дереком были согласны. Дерек в халате отеля «Риц». Дерек в халате «Отель де Пари». Дерек в халате «Пеликано». Дерек в халате «Принца Савойского». Дерек в халате «Сан-Режис». Дерек в халате «Делано» обнаруживает, что он смешон. Дерек в халате «Шато де ла Мессардьер». Дерек в халате «Дорчестера», Дерек в халате «Хилтона» в аэропорту Дубая (несколько затянувшийся транзит), Дерек в халате «Шато Мармон» и еще Дерек в халате, расшитом его инициалами, в своем особняке в Сен-Тропе. Ослепительно красивый, во рту сигара, брови нахмурены, и вечно у него есть причина дойти до ручки. Иногда я спрашивала себя, почему так его ненавижу. Может, потому, что ненавидела сама себя. А может, еще и потому, что он делал все, чтобы я его ненавидела. Но у меня в любом случае оставалось слишком мало сил, чтобы ненавидеть его так, как хотелось.
Просто мне все надоело.
Мы вернулись в Париж – запускать промоушн.
Глава 10
Summertime [23]23
Летняя пора (англ.).Так называется колыбельная из оперы Джорджа Гершвина «Порги и Бесс».
[Закрыть]
ДЕРЕК. Семь вечера, я сижу на веранде совсем один и без всего, без книги, без компании, даже без телефона, смотрю прямо на усталое солнце, сквозь очки оно видится оранжево-желтым, почти охряным, цвета «Кафе «Багдад», и его отражение в бескрайнем, сколько хватает глаз, море, которое, по-моему, нельзя не назвать сверкающим, хоть это и клише, создает странное впечатление, мне кажется, что оно покачивается в ритме старой пластинки Дженис Джоплин, только что найденной в шкафу в комнате матери, и я совершенно уверен, наверное, потому, что слегка одурел от всего сразу (вина, травки, нескольких порошков теместы): все, что я вижу, и естьэта музыка – и розы, и мимозы, и все эти качающиеся головки цветов, чьих названий я не знаю, и забытый в бассейне светящийся матрас, отданный на волю мистраля, и гермесовское полотенце, что взлетает в воздух и исчезает вдали, и скалы, почерневшие под ударами волн, и особенно сами волны, дым от моей сигары, моя длинная тень на белой стене, и горизонт, горизонт, горизонт – и, сильнее стойкого убеждения, что вокруг меня скверный клип, сильнее, чем этот вид, переполняющий меня восторгом, восторгом с ноткой горечи, потому что в нем не хватает человеческого присутствия, сильнее, чем эта музыка из прошлого, – тень матери, прекрасная, чуть размытая, словно на любительской кинопленке, в очках Wayfarerи купальнике Missoni, она нетерпеливым жестом убирает под тюрбан выбившиеся пряди волос, балансируя на этих самых скалах, и зовет меня, чтобы я вылез из лодки, зовет: «Дерек, Дерек», – зовет, потому что пора домой. И лишь когда солнце опускается наконец за холм напротив, чары рассеиваются, все из охряного становится серо-голубым, я снимаю ненужные больше темные очки и обнаруживаю, что плачу.
Мимо проходит Манон и видит меня. Приостанавливается на долю секунды, она видела мое лицо, слезы, и как я скорей опять надеваю темные очки, и как я отвожу глаза. Тоже отворачивается и идет дальше.
Она тоже в темных очках, хотя уже темнеет. Теперь она платиновая блондинка, с короткими волосами, чуть ниже скул. От нее остались кожа да кости. Губы настолько пухлые, как будто ее избили. В плеере последняя песня Шэгги под названием «Шлюхи», она ее закольцевала. Вкус у нее всегда был отстойный. Идет медленно, вихляя бедрами, как грошовая потаскуха. По шаткой походке я понимаю, что она только что блевала. А еще я знаю, что нашли бы у нее в крови, если б взяли анализ. Знаю, что она ненавидит себя. Знаю, что меня ненавидит тоже. Тем лучше, моя совесть спокойна.
В нереальном освещении этого клипа она похожа на мертвого идола.
Она скрывается в пул-хаусе, и я догоняю ее, чтобы трахнуть.
С каждым днем она становилась все больше похожа на Жюли, а мне становилось все неуютнее. Жюли была аристократка – точеное лицо, звонкий голос, идеальная прическа даже в море. Манон как была другой породы, так и останется. Ее сходство с Жюли было странным и пугающим, она походила на Жюли, облитую кислотой, ссохшуюся, деградировавшую, словно ее вырвали из позолоченной тюрьмы и избили до полусмерти. Она походила на ту развалину, в которую, наверно, превратилась бы Жюли, если б осталась в живых. И я был в панике, я уже говорил себе: слава богу, что ее нет в живых. Я говорил это себе, когда просыпался первым и видел Манон, растянувшуюся на животе поперек кровати, Манон, чья утраченная невинность возвращалась к ней во сне, разливалась по ее лицу, пока она, в свой черед, не просыпалась, не приходила в себя и не замыкалась, заметив мой взгляд, и не кидалась в ванную малевать свою блядскую боевую раскраску, я говорил это себе, когда разглядывал ее первые фотографии, пухлые щеки, кольца каштановых волос, благодарный вид, я говорил это себе еще четыре дня назад, по дороге сюда, но сегодня уже не знаю, что и думать, и чувствую, что дошел до ручки.
Мы уехали из Монако после бредовой бессонной ночи, когда мы ничего не делали, только кружили по комнате, куря сигарету за сигаретой, глотая стилнокс за стилноксом, не понимая, откуда навалилась эта тоска, а главное, не говоря ни слова, «25-й час» на DVD заело, он то включался, то выключался опять, неизвестно почему, от этой музыки можно было сдохнуть, мы заказывали что попало в рум-сервисе, чай, коктейли, яичницу с трюфелями, сигареты с ментолом, а когда приносили заказ, нам уже ничего не хотелось, и мы все отправляли обратно на кухню и через пять минут заказывали снова. Мы пробовали сыграть в триктрак, но Манон постоянно пыталась жульничать, пробовали смотреть кино, но нам постоянно звонили и приглашали на официальные и неофициальные обеды, в казино, в «Джиммиз». Боно, звавшему посидеть в «Сасс», я ответил, что сегодня вечером хочу только одного – чтобы мне дали спокойно подохнуть, а Манон, выхватив телефон, заорала, что ей нечего надеть, и бросила трубку. По-моему, больше всего ее волновала последняя обложка, английский GQ, она считала, что там не хватает ретуши, говорила, что из-за кругов под глазами, накрашенных бровей и торчащих скул выглядит как готичка-лесбиянка и постоянно твердила: «Ты видел, какая у меня рожа в GQ? Ты видел, какая у меня рожа в GQ?», «Небось сейчас вся Англия надо мной стебется: я похожа на Кайли Миноуг без макияжа, а не на Викторию Бекхэм до пластической операции и не на Лару Флинн Бойл в «Вэнити Фэйр» на прошлой неделе!» – а я, отметив про себя, что в следующий раз надо выбрать фото получше, отвечал: «Да, но Кайли, Виктория и Лара не мои подружки», – что привело ее в крайнее раздражение (все, что я говорил, приводило ее в крайнее раздражение), и она крикнула: «Я не хочу быть просто чьей-то подружкой!» – на что я возразил: «Нет, ты не права, цыпочка, я знаю кучу девиц, которые очень бы хотели быть моейподружкой», – а когда она повернулась ко мне, вся ощетинившаяся, готовая вцепиться когтями мне в лицо, добавил: «И весьма недурных!» – к счастью, в этот момент в комнату влетела громадная оса-мутант и начала разгуливать по опухшей физиономии Эдварда Нортона, и этот «отвлекающий маневр», так это зовется на военном жаргоне, спас меня от жестокой смерти, Манон втянула когти, подпрыгнула и начала метаться как полоумная с воплем: «Убей ее, убей ее, убей эту мерзость», – что я доблестно и совершил при помощи преступного GQ, и когда опасность миновала, Манон бросилась мне в объятия, шепча еле слышно: «Ее больше нет?» – и я показал ей GQс трупом осы, прямо между бровей готички-лесбиянки, и она расплакалась, всхлипывая: «Большего я и не заслуживаю!» – и тут мы оба с облегчением обнаружили, что встает солнце.
Мы уехали очень быстро и очень грязные, потому что в душ идти не хотелось, с собой мы взяли только альбомы The Gathering, Counting Crowsи Нины Симон, но в конечном счете слушали по кругу одну-единственную песню, «Donʼt Let Me Be Misunderstood», потому что хоть и не спали уже несколько дней, от этой музыки, и рассветного солнца, которое с головокружительной быстротой поднималось над узкой прибрежной дорогой, и запаха кофе, и ветра в волосах нам казалось, будто мы заново родились, и я смотрел на Манон в джинсах, в простом белом топе, заляпанном кофе, с развевающимися волосами, в огромных темных очках кинозвезды, на ее босые ноги на ветровом стекле, слушал, как она распевает во все горло и смеется, слыша, как я подтягиваю припев, и тут я четко увидел, прекрасно сознавая, что это полная галлюцинация, рожденная стилноксом, прогрессирующим распадом моего мозга или просто-напросто усталостью, увидел, как лицо Жюли, непорочное и безмятежное, печальное, как прощание, поднимается надо мной и лопается как мыльный пузырь, и в ту же минуту Манон прижала мою руку к рулю, чтобы я обратил внимание на какое-то облако, похожее на нее, и сощурилась, сдвинув брови, и спросила: «Когда мы приедем?» – а потом зевнула и положила голову мне на плечо, и я сказал себе: «Блин, до чего же я счастлив».
Мы приехали в Сен-Тропе, где родители оставили мне этот дом, в котором я столько времени провел с матерью. Отец ни разу не возвращался туда после ее смерти, покуда не женился на этой шлюхе Анке, которая не мыслила себе конца июля нигде, кроме как в Сен-Тропе, и нигде, кроме как в моем доме, потому что у нее была морская болезнь, она ненавидела« Библос», а других четырехзвездных отелей люкс в Сен-Тропе не было. Тогда отец снова открыл дом, расчехлил мебель, снял со стены портрет матери и отдал на растерзание ее комнату. Анка, со свойственным ей прекрасным вкусом, деликатностью и скромностью, непременно пожелала «сменить декор», и дом утратил безумный стиль шестидесятых и стал страшно пошлым, с совершенно невыносимым кричащим налетом интерьерных журналов: этой женщине непременно нужна была белая кожа, розовый мрамор и джакузи во всех комнатах, и колонны, и башенки, она заставила содрать ярко-синюю мозаику со дна бассейна и перекрасить его в модно-бирюзовый цвет, снесла старую каменную стену над бассейном, на которой моя мать столько лет разводила цветы, расширила бассейн, соединив его с морем, выкосила под корень розарий ради вертолетной площадки, и в доме моего детства, такогоdolce vita, [24]24
Сладкая жизнь ( итал.).
[Закрыть] такогоriviera, [25]25
Ривьера (фр.).
[Закрыть] такого«Tender is the night», [26]26
«Ночь нежна» (англ.),роман Ф. С. Фицджеральда.
[Закрыть] прелести стало не больше, чем в калифорнийской старухе после лифтинга.
В то время мне было четырнадцать, при одном упоминании матери у меня кружилась голова, и я возненавидел эту женщину, к которой прежде испытывал лишь смутную антипатию и, от случая к случаю, презрение. Я спросил ее:
– Скажи, цыпочка, зачем ты ездишь в Лас-Вегас, любоваться архитектурными красотами?
– Нет, – возразила она, – чтобы ходить в казино и спускать там бабки твоего старикана-папаши.
– О, а когда ты сгребаешь фишки, то думаешь о своем прошлом грошовой проститутки и говоришь себе, что гордишься пройденным путем?
– Дерек, – усмехнулась она, – почему ты никогда не называешь меня мамой?
– Потому что… ты всего лишь неудавшаяся Ивана Трамп.
– Гаденыш, я тебя оставлю без наследства!
– Думаю, ты не совсем точно представляешь себе смысл понятия «единственный сын».
– А думаешь, твой отец сумеет представить себе смысл понятия «единственный сын на героине»?
– Я никогда не кололся, и ты это прекрасно знаешь.
– Важно не то, что я знаю, важно, что я ему скажу… А потом, ты этим и кончишь, Дерек, поверь, ты этим и кончишь…