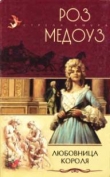Текст книги "Бабл-гам"
Автор книги: Лолита Пий
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц)
– Простите, пожалуйста… у вас еще кормят ланчем?
Еще один человек, точь-в-точь похожий на предыдущего, приоткрывает дверь и задает сакраментальный вопрос.
– НЕТ! – рявкают оба так синхронно, что мне даже завидно.
– А вы что, так посидите или будете настаивать?
Тон повышается.
– Пожалуй, я буду настаивать.
– Лаллаби, рюмку коньяку и горячего шоколаду для неприятного господина.
– Коньяка не осталось.
– То есть как не осталось коньяка?
– Альбер, ты только что последний допил!
– А меня зовут Дерек, и бог с ним, с коньяком, сойдет и бурбон.
– Слышала, Лаллаби?
– И один бурбон! – орет она в пространство, к некоторому моему беспокойству, потому что за стойкой, я уверен, кроме нее, никого нет.
– Спасибо, Альбер, – говорю я.
Он тут же разворачивается на сто восемьдесят градусов и мерит меня взглядом с головы до ног, его трясет.
– Откуда вы знаете, как меня зовут?
– Вы что, издеваетесь?
– Я не позволю разговаривать со мной в таком тоне, – произносит он, вне себя, и тут же заходится истерическим смехом.
– Сударь, вы недооцениваете моего расположения к вам, поймите, вы упоительным образом напоминаете мне персонажа, который постоянно встречается в творчестве одного великого немецкого писателя, высланного в Соединенные Штаты и скончавшегося в 1994 году, и по этой причине я питаю к вам совершенно искренний интерес, пусть даже вам он кажется нескромным.
– Вот вам ваш бурбон!
Лаллаби ставит его на стол с такой силой, что приятно посмотреть.
– Ваше здоровье, – говорю я, залпом опрокидывая стакан. – Не предлагаю вам пропустить со мной стаканчик, вы только что уже вылакали весь коньяк.
– Месье прав, Альбер, ты слишком много выпил, пора тебе остановиться, а то смотри у меня…
– Умолкни, Лаллаби, мы с месье сами разберемся.
Он угрожающе нависает надо мной, руки в боки, голос суровый, глаза сощурены, и могу поклясться – меня это, впрочем, пугает, все ли у меня в порядке со зрительным нервом или с психикой, а может, и с тем и с другим (если учесть, сколько я вливаю в себя последние годы, я в любом случае полутруп), – он стал выше ростом.
Он хватает меня за шиворот, мимоходом разорив сложную вязаную конструкцию кашемира, которым я, сказать по правде, не слишком дорожу с тех пор, как узнал, что выбирала его не сама Жюли, а ее шофер, посланный в последнюю минуту в «Бергдорф» накануне моего двадцатипятилетия, и меня посещает горькая мысль о Жюли и ее эгоцентризме, а сжатый кулак Альбера тем временем зависает над моей головой, готовый обрушиться на нее в кратчайшие сроки – через долю секунды или через несколько минут, если удастся поторговаться.
– Вы не в моем вкусе, – рычит он.
– Вы тоже, – безнадежно отзываюсь я, по-моему, Альбер слишком самонадеян, – мой к вам интерес… литературного порядка.
– Литературного?
Пальцы его разжимаются, и я вижу, что он в смятении – не поймет, что ли, какое отношение имеет литература, как-никак искусство, к человеку, с виду довольно-таки далекому от эстетических запросов? Во всяком случае, мой богатый бойцовский опыт подсказывает, что он колеблется, это обнадеживает.
– У вас еще кормят ланчем?
Это вторгается третий придурок, – я уже знаю, что не схлопочу по морде, – и мы, все трое, в бешенстве оттого, что нам помешали, разворачиваемся и кричим в один голос:
– НЕТ!
Спустя несколько минут Альбер, как положено, сидит напротив меня, а Лаллаби, в свой черед, чувствует себя лишней.
– Когда люди слишком избалованы жизнью, у них не бывает друзей…
Говорю, естественно, я.
– Человеку могут простить многое, кроме одного: если ему дано все, о чем другие могут только мечтать.
– Надо же, а я-то думал, ты ко мне пристаешь.
– Видишь ли, Альбер, слишком много всего всё убивает, понимаешь?
– Наговорил тут всякого про нескромный интерес, любой бы на моем месте тебя так понял.
– Большинство смертных сводят счастье к трем-четырем понятиям – то есть к здоровью, красоте, богатству, успеху и т. д.
– Еще немножко виски?
– А ведь можно прекраснейшим образом быть уродом, бедняком, неудачником, и при этом быть счастливым, пока этого не сознаешь, и заметь, «пока этого не сознаешь» я произношу курсивом.
– Чего?
– Одиночество, Альбер, одиночество и скука, и сознание одиночества и скуки.
– Ах, одиночество! Одии-ноо-чест-вооо у меня в штанах сидит!
– Все остальное – только способ отвлечься!
– Ладно, кончай вилять, малыш, ты чего мне сказать-то хочешь?
– Я несчастлив.
– Нет, это невозможно! Почему! Почему!
– Возможно, – говорю я и только потом соображаю, что он обращается к пустой бутылке.
– Но кто дал мне право жаловаться?
– Подожди, малыш, повтори-ка!
Он подносит ладонь к правому уху, наклоняет голову, будто не расслышал, потом трижды кивает в пустоту, и я точно знаю: ему чудятся голоса.
– Эй, малыш, повтори-ка, я тут недослышал.
– Кто дал мне право жаловаться? – ору я, сложив руки рупором.
– Все ясно, – произносит он, потом выражение лица у него абсолютно меняется, он опять становится самим собой, и на сей раз я точно знаю: у него что-то вроде раздвоения личности. – Ты сухарь.
– Не понял?
– Ты самый настоящий сухарь. А теперь кончай хныкать.
Я несколько ошарашен этим наездом, но потом до меня доходит: Альбер, с его проницательностью, чуткостью к оттенкам, исключительно глубоким знанием тончайших человеческих чувств, наверняка понял, что сколько-нибудь длительные отношения между нами невозможны по одной простой причине – мы слишком разные; разный возраст, разные поколения, разные интересы, разная среда, разное семейное положение (Альбер тридцать лет как женат, в придачу супруги владеют общим имуществом, а я один, и это надолго). А значит, любая мутная дружба, возникающая вокруг бутылки, должна вместе с бутылкой и кончаться. Дело шло к вечеру, и я, испытывая почти болезненное желание соединить свою судьбу с судьбой Лаллаби и Альбера, такой предсказуемой, надежной, коллективной, все-таки машинально встал, накинул плащ, распрощался – к счастью, в кармане нашлось несколько купюр, не бог весть что, но хоть не стыдно дать на чай, – и вышел из бара; и могу поклясться – правда, мозги и чувства у меня расстроены, видимо, сильнее, чем я думал, – что слышал крик «Снято!» и аплодисменты, меня это несколько встревожило, но я решил не обращать внимания и вернулся в отель еще более одурелым и одиноким, чем уходил.
Глава 3
Кто кого, Париж!
МАНОН. Я смылась сегодня утром, без оглядки. Не спала всю ночь. Вещей с собой не брала. В старом чемоданчике только смена белья, какая-то пыльная книжонка, пачка сигарет и визитка Жоржа. Первый автобус шел в половине седьмого, чуть дальше по дороге, к северу от Конечной. Я боялась опоздать, удрала еще затемно, и на заре была уже далеко. Пришла на остановку раньше времени, и пока ждала автобуса, еще раз пересчитала деньги. Небо на востоке окрасилось сиренево-розовым, и я поняла, что день будет ясный. Я ни о чем не жалела – ни об отце, ни о своей комнате, ни о деревенском тихом рассвете. Ничего у меня на Конечной не осталось.
Я села в автобус, заплатила за билет. Судя по лицу шофера в зеркале заднего вида, шорты у меня, пожалуй, были коротковаты, а розовые очки – слегка розовее, чем надо. Я сказала ему: «Держите себя в руках, все-таки полседьмого утра», – и уселась в глубине салона. Кроме меня, пассажиров в автобусе не было. Я смотрела, как проплывают за окном поля, и считала мачты электропередач: с каждой мачтой увеличивалось расстояние между Конечной и мной.
В Монпелье я пересела на поезд. На вокзале мне попалась девушка моего возраста, попрошайка. Через плечо платок с младенцем, голые руки исполосованы шрамами. Я спросила, зачем ей деньги, она ответила: «Пожрать». Я дала ей десять евро. Она ринулась прочь, не сказав спасибо, и, поворачиваясь, задела меня головой младенца, голова отвалилась и упала на землю, она была пластмассовая. Девица скрылась в здании вокзала. Я купила себе сэндвич и газеты в дорогу, потом села в вагон, но читать не могла. Передо мной стояло лицо отца, когда он показал мне деньги. В ушах так и звучали его слова: «Три тысячи евро, конечно, не густо, но они тут, они твои. Подумай хорошенько, что будешь с ними делать, а когда решишь, я тебе их отдам. Хорошенько подумай, деньги невелики, но для девочки в двадцать один год это много». Так и звучало: «Бедная моя девочка, жизнь у тебя со мной не слишком-то веселая, но теперь ты сможешь немножко развлечься, с днем рождения, и поцелуй папу, скажи ему спасибо». А главное, я так и видела, как в полночь он стоит в дверях своей комнаты, старый, замученный, довольный и в то же время смущенный своим подарком, и говорит мне: «До завтра». Как бы не так. Денежки лежали над баром, я сразу нашла. Теперь они лежат в старой кожаной сумке, а старая кожаная сумка зажата между ног.
Чтобы отогнать мысль о том, какое лицо будет у отца, когда он обнаружит свой пустой тайник и мою пустую постель, я включила плеер, слушала Фокси Браун. От каждой выкуренной сигареты во рту оставался вкус бессонной ночи, и я достала жвачку. Через стекло припекало солнце, я считала станции, снова и снова перечитывая адрес и телефон на визитке Жоржа. Я выучила их наизусть. Я уже звонила в агентство, ответила какая-то девица: «Вэнити Моделс», здравствуйте. И я повесила трубку, потому что время еще не пришло, но с каждой минутой это время приближалось, и в конце концов я уснула, не выпуская визитку из рук.
Поезд прибыл ровно в четырнадцать часов. В четырнадцать с чем-то я спрыгнула на перрон вокзала Аустерлиц, в четырнадцать с чем-то я наконец была в Париже.
– Ну, кто кого! – вслух проговорила я, подхватив пожитки, и кто-то передо мной обернулся:
– Простите?
Я выплюнула жвачку и сказала:
– Да не вы, а Париж!
Воздух на вокзальной площади был дымчато-серый, пронизанный лучами солнца, мальчишки ругались с матерями, тащившими их домой, а те ругались с мужьями, потерявшими парковочный талон, а те ругались с охранником парковки, сказка про белого бычка.
Таксисты курили и лопали сэндвичи на солнцепеке, в своих огромных «рэй-бэнах» все они как две капли воды походили на калифорнийских копов из серии «Б», значит, это и были типичные парижские таксисты. Я вошла в первую попавшуюся телефонную будку и набрала номер Жоржа. Стайка юных бездельников воззрилась на меня с неодобрением. На стеклах кабины красовались граффити: «Душа без гроша ищет ковбоя при башлях, уколоться и забыться». Я чуть не поскользнулась на пивной банке. Трубку снял Жорж.
– Алло!
– Жорж, – сказала я, – это Манон.
В трубке повисло молчание.
– Как дела, все хорошо? – спросил Жорж.
– Я в Париже. Только что приехала.
– А?
– Мы можем встретиться?
– Э-э, прости… Какая Манон?
– Манон, двадцать лет, метр семьдесят два, то есть метр семьдесят, сорок восемь кило.
Жорж молчит.
– Брюнетка. Глаза голубые.
Жорж молчит.
– Которая так до сих пор и не знает, что такое это чертово спа.
Жорж молчит.
– Которая пьет просто колу, не лайт.
И тут, о чудо:
– Ах, Манон! Как дела, Манон? Ты все-таки приехала?
– Все-таки.
– У тебя тут родня?
– Нет.
– Где ты ночуешь?
– Не знаю.
– И чем собираешься заняться?
– Буду жокеем. Цветочницей. Наемной убийцей. Моделью.
– Тебя можно пригласить на ланч?
– Вроде бы да.
Жорж назначил мне встречу на три часа, в Trying So Hard,где-то на площади Альма. Я повесила трубку и вышла из будки. Спросила у стайки молодежи, как туда проехать, и стайка молодежи ответила:
– И чем это ты там в будке занималась?
– Кто это теперь звонит из будки!
– Да ладно вам, садись в метро, там по прямой.
– Шлюха будочная!
В метро я сперва заблудилась, но какой-то кукольник в бандане объяснил, до какой станции ехать, – за два евро и разрешение похлопать меня пониже спины.
Я добралась до Trying So Hardс двадцатиминутным опозданием и таким чувством, будто пересекла пару галактик. И еще с надеждой, что мой чемодан сойдет за дамскую сумочку. Жорж поджидал меня, листая журнал под названием «Эсквайр», с прошлого раза он загорел еще сильнее. Я застыла столбом у террасы ресторана. Он встал, протянул мне руку и усадил напротив.
– Симпатичные шорты, – сказал он.
– Что читаешь? – спросила я.
– Не читаю, а присматриваю.
– А? – не поняла я.
Он показал журнал:
– Гляди, вот эта ничего, прямо как моя дочь.
– Может, это она и есть?
– Ты шутишь, надеюсь, моей дочери ретушь не нужна.
– Что-что?
– Как доехала? Ты на чем?
– На поезде.
– Это твои вещи? – спросил он, указывая на мою сумку.
– Ну да.
– Ты надолго?
– Насовсем.
– Где жить будешь?
– Где скажете.
– Э, ты потише, предложения здесь делаю я.
– По телевизору говорили, что жилье для моделей предоставляют агентства.
– Для этого надо быть моделью. Встань-ка.
Я встала.
– Повернись.
Я сделала полный оборот.
– А вы что уставились? У нас чисто профессиональная встреча, – рявкнул он на типа за соседним столиком.
– Так как? – спросила я.
– Угу, угу, неплохо. Вина хочешь?
– Нет, спасибо.
Он налил мне стакан вина:
– Выпей!
Я выпила и заказала салат, есть почти не хотелось.
– Почему ты хочешь быть моделью?
– Хочу сниматься в кино.
– И ты туда же? Как только вам всем не надоест! Слушай, я ведь не продюсер, спать надо не со мной!
– А если я не хочу с вами спать?
– Еще и это? Тогда какого черта ты тут делаешь?
– …
– Слушай внимательно, девочка моя. Ты просто прелесть, ты лучше всех, поверь, я много чего насмотрелся. Просто мне пятьдесят, на мне агентство, и соцобеспечение не по моей части. В этом подлом мире ничто не дается даром, и чтобы попасть ко мне, придется мне дать. И даже после этого я могу тебе сказать, что твои труды пропали даром. Алло?
Пока он говорил по телефону, я прикончила бутылку.
– Дорогая? Что случилось? Что? Нет, Сибиль, положи нож. Положи нож на место. Сибиль, дорогая, ты же знаешь, у тебя не выйдет, а потом у тебя будут некрасивые шрамы на запястьях. Шрамы – это очень некрасиво. Сибиль, черт возьми, сейчас три часа дня, что на тебя нашло? У папы деловая встреча. Знаешь, дорогая, а вот это называется шантаж, ты даже не знаешь, как резать, вдоль или поперек. И пожалуйста, не пытайся меня учить, как кончать с собой. Между прочим, я десять лет был женат на твоей маме. Окей, окей, сейчас приеду. Никуда не уходи, сиди тихо. Я еду. Вот именно, тогда сначала ты сможешь убить меня. Еду. Пока.
Он нажал отбой, и мне было его искренне жаль.
– Что, бутылка пустая? – сказал он, схватил мой стакан, выпил залпом и добавил: – Мне надо бежать, небольшие семейные проблемы. Подумай о том, что я тебе сказал, и перезвони. Окей? Ты само совершенство, ничего не меняй. Особенно шорты, ладно? До скорого.
Он бросил деньги на стол и выбежал на улицу. Какой-то хмырь в костюме подошел к столику забрать деньги.
– Стойте! Вам официантки нужны? – сказала я.
И он взял меня на работу, потому что я была подружкой Жоржа и потому что носила симпатичные шорты. Славный чел этот менеджер, я его так и называла – «Славный чел». Не просто дал мне работу, а еще и подыскал квартирку, через какого-то своего друга, «спеца по недвижимости». Друг сдавал однокомнатные квартиры по ценам вне всякой конкуренции. Двести евро в месяц – совсем недорого, даже для меня. Мебель тоже была вне конкуренции. Я жила в IX округе, в мансарде. Мне нравились балки на потолке и вид из окна. Сортир на лестнице нравился меньше. И отсутствие горячей воды. И электрические конфорки, которые включались через раз. Дом был старый и величественный. Недалеко от ресторана. Меня будил рассвет. И незаметно жизнь вошла в будничную колею. От парижской комнаты до Trying So Hard– каждый день метро: «Сен-Лазар», «Миромениль», «Сен-Филипп-дю-Руль», а когда я выныриваю из станции «Альма-Марсо» – вечный саксофонист, играющий «Жизнь в розовом свете», витрины магазина «Шанель», о котором постоянно твердила мама, одни и те же часы работы, одни и те же посетители, одни и те же блюда и, время от времени, любезности старшей официантки: «Манон, дамочка за шестнадцатым ждет свое красное целых полчаса, шевели задницей, дура!» Иногда после работы я шла в кино, листала какой-нибудь журнал на террасе кафе на Елисейских Полях, искоса бросая взгляд на туристов, взгляд парижанки. Когда чаевых было много, покупала себе пару туфель или чуть-чуть косметики. Копила на телевизор. Однажды пила кофе еще с одной подавальщицей из Trying,но она оказалась слегка свихнутая: считала себя реинкарнацией императрицы Сисси и думала, что это откроет ей дорогу в кино. На том все и кончилось, а жаль, приятно поговорить хоть с кем-нибудь. Добрый десяток раз у меня на улице просили номер телефона, а когда я отвечала, что живу без телефона, меня обзывали. Глупости, конечно, но я плакала. К счастью, однажды я нашла под банкеткой чей-то телефон и купила симку. Теперь всегда хожу с мобильником у уха и болтаю все, что придет в голову, как будто на том конце кто-то есть.
Меня чуть не уволили за то, что я отбилась на кухне от приставаний Славного чела, я дала ему новое имя, «Скот», и немедленно перестала носить шорты. В любом случае близилась осень, и я слегка пощипала свои скудные сокровища – надо было купить одежду потеплее.
Мне нравилась моя улица в IX округе, маленькая улочка, пересекавшая улицу Амстердам. Кругом ослепительные неоновые вывески и оглушительный шум, по воскресеньям все открыто, по ночам тоже. На моей улице была булочная, бакалея, прачечная, китайская кулинария, бистро, дешевая гостиница и книжная лавка. По вечерам, если была не моя смена, я заходила купить что-нибудь на ужин, потом забрать белье, взять сигарет на ночь, а потом выбрать себе книжку.
Букинист выглядел как самый настоящий букинист: всклокоченный старикан в очках, пыльный, как его лавка. Когда я зашла в первый раз, то спросила какой-нибудь любовный роман вроде тех, что обычно читала на Конечной, но он сказал, что ни за что не продаст мне эту гадость, эту розовую водичку. Посоветовал несколько книжек, я купила три, остальные он подарил. Так я открыла для себя Хемингуэя, Карсон Маккаллерс, «Графа Монте-Кристо» и детективы Дэшила Хэммета – все вперемешку. Потом я опять приходила в лавку, мы несколько минут обсуждали книги, он объяснял все, чего я не поняла. Он говорил, что мне надо всему учиться заново, и иногда здорово психовал, но когда заводился по поводу какой-нибудь книги или писателя, я знала: он рад, что я здесь и слушаю его. Как-то я вышла из лавки уже затемно, оставив Гуго наедине с его романом, который он переписывал уже много лет и который не брал ни один издатель; я взяла «Грозовой перевал», он сказал, что это история любви, после которой мне и смотреть не захочется на розовые романы, и я спешила домой, потому что несла под мышкой то, что поможет мне забыть облезлые стены, растрескавшийся потолок и собственное одиночество.
Стояла очень теплая ночь, последний подарок лета, скоро в городе окончательно поселится октябрь и первые заморозки. В открытое окно ко мне на чердак доносился волнами уличный шум, и я отложила книгу: она показалась мне бесцветной и пошлой по сравнению с жизнью, бурлившей внизу. Я встала, облокотилась на подоконник и, с трудом подавляя дрожь внизу живота, любовалась ночным заревом Парижа. В тот вечер город бурлил как никогда: длинные фиолетовые тени вихрем кружились в свете фонарей, отовсюду слышались удаляющиеся шаги и взрывы хохота, рокот автомобилей нарастал, потом затихал вдали, мне казалось, что это ветер и он уносит с собой все, кроме меня, а я, застыв у окна, представляла себе праздник, на который меня не пригласили. Меня не позвали, облили презрением, наказали, исключили. На Конечной и то было легче. На Конечной мне казалось, что жизнь где-то в другом месте. Теперь я сама в этом другом месте, а жизнь по-прежнему течет мимо.
Жизнь… Настоящая жизнь, та, что бурлит за невыразительными, чересчур накрашенными лицами женщин, каждый день заказывающих мне обед, за белыми каменными фасадами авеню Монтень, та, чьей печатью отмечены черты старлеток с журнальных обложек, жизнь богемная, праздничная, жизнь, где есть путешествия, встречи, длинные платья и бриллианты, икра и шампанское, где поздно ложатся и живут по ночам, где ездят слишком быстро и умирают слишком рано. Все это я представляла себе очень смутно, по тому, что читала в газетах, смотрела по телику, по тому, на что за три недели успела насмотреться в Trying So Hard, и на все это накладывалась бесконечная работа моего воображения, желавшего непременно верить во что-то «лучшее», и я, не вполне понимая, куда, собственно, иду, шла и шла вперед, потому что всеми силами, всей душой впечатлительной и обделенной провинциалки надеялась, что в один прекрасный день завоюю эту жизнь.