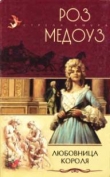Текст книги "Бабл-гам"
Автор книги: Лолита Пий
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
– Да? Почему ты так считаешь?
– Ты будешь торчком, бедный мальчик, будешь депрессивным торчком, и еще кое-что похуже будешь делать, вот увидишь…
– Да, и почему же, почему я стану все это делать?
– От скуки.
Манон вошла в дом со скептическим видом, словно выросла в нем, на самом деле – с моимскептическим видом, удостоила меня довольно неубедительного возгласа «О, тут очень мило» и, исподтишка выискивая недочеты, прошествовала через гостиную на веранду и спросила оттуда, разглядывая дом наших друзей, почему соседи живут так близко. Я ответил, что после того, как мы перекрасили ставни, у нас не осталось денег на забор; засим последовало напряженное молчание. Было восемь утра, мы стояли рядом на веранде, словно на острове, море лежало у наших ног, и меня охватило сильнейшее, почти нестерпимое чувство свободы, я вдыхал огромные клубы ветра и снова, словно в каком-то наваждении, повторял себе, что никого, кроме нее, не хочу видеть рядом, а потом повернул голову, чтобы сказать это ей, а она ушла спать.
Четыре дня мы старательно избегали друг друга, и я чувствовал себя дураком, дураком Пигмалионом, Пигмалионом в футболке от Дольче, слегка трэшным и бухим, который, вместо того чтобы делать статуи, разбивает их молотком, а затем, вынырнув из долгого кайфового сна, обнаруживает, что влюбился в осколки.
Манон крышка. Что бы я ни делал, ей крышка. Я разбил статую. И больше ничего не могу для нее сделать. Даже если бы все остановил… В любом случае так и было задумано – все остановить, чтобы завершить начатое. Все остановить значило погубить ее. Погубить и превратить в городскую сумасшедшую, вернув в ее говенную жизнь после того, как осуществились ее дурацкие мечты. Сказать правду значило погубить ее, разбить ее дурацкие мечты. Все, что я могу сделать, это и дальше осуществлять их, эти ее дурацкие мечты. Но тогда она меня бросит. Однажды она сказала мне: «Когда я смогу обойтись без тебя, я тебя брошу». И я спросил, в тот момент я был искренне растроган и готов на все: «Ты не можешь обойтись без меня, цыпочка?» Она засмеялась, засмеялась своим жестоким смехом и ответила: «Я имею в виду, когда я буду достаточно известной и достаточно богатой». Тогда засмеялся я, засмеялся над ней, над собой, над этой неразрешимой ситуацией и подытожил: «Значит, ты никогда не сможешь без меня обойтись, цыпочка».
За эти четыре дня я никому не звонил, ни разу не развернул газету. Телефон трещал не переставая, и я его отключил. Я все время чувствовал, что за мной следят и что я глубоко несчастен. Слушал The Gatheringдаже во сне. Каждое утро брал гидроцикл и отправлялся кататься. Море было темно-синим, почти черным через мои солнечные очки, усеянные точками соли, и оставляло во рту горький вкус. И хоть бы одна волна. Я гонялся за кораблями, чтобы попрыгать у них за кормой. Совершил пробежку с Паффом Дэдди, который хотел перекупить мой дом. За нами бежали папарацци. Встречал множество своих знакомых и знакомых отца. И не здоровался.
Манон просыпалась к полудню. Просила принести чего-нибудь и завтракала на террасе, лицом к морю, уставившись на него с изумленным видом. Потом растягивалась в шезлонге на краю бассейна и лежала так весь день. Иногда я шел за ней, и мы скучали вдвоем, пока не наступала ночь, и в моем мозгу, оцепеневшем от жары и безделья, стучала одна, вездесущая, грозная мысль: бесповоротно, бесповоротно, только это я и думал, только это и видел под безоблачным небом, и все вокруг – неподвижная поверхность бассейна, и белая плитка, потрескавшаяся от солнца, и расслабленная Манон в цельном черном купальнике, с карамельной кожей, липкими от масла волосами, ее глаза, синие, как бассейн, на слишком загорелом лице, глядевшие на меня в упор и уходившие в сторону, стоило мне на нее посмотреть, и приглушенный звук ее шагов по раскаленному камню, когда, ошалев от жары, она бросалась в бассейн, плеск воды, ее чуть учащенное дыхание, ровный голос, благодаривший гарсона, когда он приносил нам воды, шелест страниц, когда она делала вид, будто читает роман, щелчок зажигалки, когда она закуривала, тупое пение цикад, рокот мистраля, – все, казалось, шептало мне на ухо, сводя меня с ума: «Бесповоротно, бесповоротно».
От этих мутных дней в Сен-Тропе у меня в памяти остались лишь мои бесцельные блуждания, тяжкое безделье, обмен ледяными взглядами, синяя вода бассейна и мелодия Дженис Джоплин.
В «Вуаль Руж», куда я повел ее обедать на третий день в очередной неловкой попытке сблизиться – все они неминуемо кончались еще более заметным отдалением, – Манон явилась в платье от Пуччи, очень широком и очень коротком, шляпа в тон, очки в тон и мои часы Daytona,наряд одновременно изысканный и крикливый, оригинальный и пошлый, простой и замысловатый, наверное, беспристрастному наблюдателю было бы очень нелегко определить, кто она – моя юная супруга, дорогая проститутка иностранного происхождения, старлетка иностранного происхождения или моя сестричка, но так или иначе все смотрят на нее, смотрят на нас, и когда мы вылезли из катера босиком – это безумно шикарно – и вошли в ресторан под первые такты ремикса музыки к «Презрению», настала глубокая тишина. Обдолбанный официант, на радостях, что видит меня, опростоволосился еще прежде, чем мы сели за столик:
– Привет, Жюли, рад тебя видеть, я думал, ты умерла, а ты просто слегка похужела.
– Хотелось бы побольше увлажнителей, будь любезен, цыпочка, – говорю я обдолбанному официанту, естественно, в порядке отвлекающего маневра, чтобы Манон не запустила ему в морду бутылку «Больё», – тут задохнуться можно, да, и разверни-ка мне столик получше, я предпочитаю вид на море, а не на Джорджа Клуни.
– А я предпочитаю вид на Джорджа Клуни.
– А ты ничего не понимаешь в красотах природы и не можешь пропустить ни одной звезды, и вообще, я плачу, значит, я и решаю.
– Джордж Клуни – одна из красот природы.
– Оставь Джорджа в покое, цыпочка, весь Сен-Тропе уже в курсе. Хай, Джордж, – говорю я Джорджу, который подошел к нам и с жаром трясет мою руку, и добавляю: – Классный фильм снял, браво.
– Симпатичная рубашка, – отвечает он и идет обратно, клеить танцовщицу по тысяче евро за ночь.
– Что он тебе сказал, что он тебе сказал?
– Сказал, что спит с английской королевой.
– Вы выбрали? – спрашивает офигевший дурак, фигея все больше.
– Ага, – говорю я с намеком на раздражение, – столик с видом на море.
– Несколько листиков салата, вообще без заправки.
– «Кристаль розе», не розовый шампунь для туристов.
– Телефон Джорджа Клуни.
– Телефон есть у меня, идиотка, и я его тебе не дам. Что будешь пить?
– «Ти нант».
– Такого нет, – отвечает официант, он решительно сдурел.
– Послушай, – говорю я, – если я могу хамить моей паскудной спутнице жизни, это не значит, что тебе позволено делать то же самое.
– И вообще я, черт возьми, звезда, – добавляет Манон.
– Ну нету у нас, нету, я что могу поделать?
– Говори: у нас нет, мадам.
– У нас нет, мадам.
– Значит, мадам будет пить «Кристаль» и хавать со мной спагетти с омарами, а иначе будет добираться назад вплавь. Ясненько, цыпочка?
– Ясненько, придурок, но я вызову рвоту, а ты этого терпеть не можешь, – отвечает Манон.
– Что ты творишь со своим здоровьем, меня не касается, когда я хаваю, хавают все, и точка.
Обдолбанный официант удаляется, и секунд сорок нам абсолютно нечего сказать друг другу.
– Что это за тупая музыка? – спрашивает Манон.
– Это «Презрение».
– Что такое «Презрение»?
– Жан-Люк Годар, тебе это что-нибудь говорит?
– Что такое «Презрение»?
Я сдаюсь.
– Это чувство, которое я испытываю к тебе в данный момент.
Тихий ангел. Я отмечаю про себя четкий ритм волн, настолько четкий, что я начинаю подозревать, будто персонал крутит запись, ничего удивительного, в этом мире ничто по-настоящему не настоящее.
– Дерек?
– Да, цыпочка?
– Ты видел отснятый материал? Каренин не стал показывать мне материал. Он хочет, чтобы я подождала, пока фильм будет смонтирован.
– Ну да, я видел материал, – вру я, – видел…
– И как?
– Да так, ни звука, ни музыки, ни красок, это не кино, это уродливо, как сама жизнь.
– Ну а я, я как выгляжу?
– Совершенно как сейчас, только без очков и не такая загорелая.
– Но… я ничего, смотрюсь?
– Цыпочка, а тебя это парит?
– Кино – моя главная, самая дорогая мечта, Дерек, в конце концов, мы уже год вместе, а ты даже этого не знаешь?
Еще один тихий ангел, что-то много ангелов развелось сегодня в «Вуаль Руж», обдолбанный официант приносит шампанское и бокалы, Джордж Клуни – он в отличной форме – залез на стол вместе с танцовщицей по тысяче евро за ночь. Я откашливаюсь.
– Пфф, – говорю я, – а ты даже не знаешь, кто такой Жан-Люк Годар.
– При чем тут это, Дерек?
– И, не знаю… скажем, Стенли Кубрик, тебе это что-то говорит?
– Он был… режиссер?
– Манон, тебе нечего делать в кино. Ты знаешь наизусть все романтические комедии с Хью Грантом, ты думала, что Каренин – это коммунистический диктатор начала двадцатого века, а Джон Уэйн – президент Соединенных Штатов, ты засыпаешь на черно-белых фильмах, ты считаешь Николаса Рея старомодным, ты смотрела «Таксиста» на видео, ты считаешь, что Альмодовар – итальянец, Мел Гибсон – великий актер, а Вуди Аллен – дятел, что «Последнее танго в Париже» – мелодия Gotan Project,ты предпочитаешь Пирса Броснана Стиву МакКуину, а Джуди Лоу Морису Роне, у нас в гостинице две тысячи двести пятьдесят три DVD, а ты с утра до вечера крутишь «Бум»…
– Но я обожаю «Бум», «Бум» – это гениально, я хочу, чтобы вся жизнь была как «Бум», – протестует она, похоже, на пределе.
– Манон, – говорю я и беру ее за руки в каком-то совершенно несвойственном мне порыве, – если бы фильм, в котором ты снялась, был не совсем то, что ты думаешь, если бы ты не занималась кино, если бы ты не стала знаменитой…
– Но я знаменита… – шепчет она со слезами на глазах.
– Допустим. Если бы ты прекратила все, чтобы все тебя забыли, чтобы даже не просили автограф на улице, а ты бы жила со мной, у тебя было бы все, что ты захочешь, и все, все это постепенно изгладилось бы из твоей памяти, и ты бы мне простила, и мы бы попробовали быть счастливыми, я хочу сказать, как можно менее несчастными, и все это стало бы лишь дурным воспоминанием… и мы больше ни словом бы об этом не упомянули…
– Простила бы тебе что, Дерек? – невнятно бормочет она, пытаясь закурить, несмотря на ветер и трясущиеся руки.
– Простить, что я был… странный. Что я был странный с самого начала, и обещаю, я больше не буду странным, если только… если только…
– Если только что? Если только я откажусь от своей карьеры, чтобы мы оказались в одной точке, ты и я, чтобы я разделила с тобой… твою неудавшуюся жизнь?
– Карьера – слишком громкое слово, цыпочка. Не-удавшаяся – тоже слишком громкое слово. И успокойся, на тебя смотрят, – говорю я, снова занимая оборону.
– Я должна простить тебе, что ты был… странный? Обращался со мной, как со своей тачкой…
– Ты говоришь штампами, цыпочка.
– …каждый день опускал меня, держал за идиотку, смотрел так, будто меня и нет, шельмовал мою профессию…
– Какую профессию?
– Дерек, я никогда не чувствовала себя такой жалкой, как с тех пор, что я с тобой.
– Может, ты чувствовала себя лучше, когда протирала столики в Trying So Hard?
– Вот, вот этого я тебе не прощу никогда. И еще никогда не прощу, что я сейчас такая же, как ты. Такая же бессмысленная, поверхностная, эгоцентричная, такая же жестокая, высокомерная, злая…
– Я отнюдь не поверхностен.
– Дерек, твое любимое занятие – считать своих бывших на Fashion TV.
– А твое любимое занятие – смотреть, кто растолстел на Fashion TV.
– Ты даже в ванне сидишь в темных очках.
– А ты делаешь укладку перед тем, как идти на пляж.
– А ты втираешь своим акционерам, что Джордж Буш звонит тебе по прямому проводу.
– А ты сперла у меня номер мобильника Леонардо и разыгрываешь его.
– Ты превратил меня в чокнутую, Дерек, – взрывается она, и весь «Вуаль Руж» оборачивается на нас, оторвавшись от Джорджа Клуни, который дает сеанс стриптиза на барной стойке, – ты превратил меня в чокнутую, я чокнутая: я просыпаюсь утром и четверть часа не могу вспомнить, как меня зовут, я глотаю антидепрессанты, снотворные, стимуляторы, анксиолитики, транквилизаторы. Я УЖЕ НЕ ЗНАЮ, ЧТО ТАКОЕ БЫТЬ В НОРМАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ!
– Ты забыла упомянуть кокаин, амфетамины и меланин, это, знаешь ли, такая штука, которая в твоих капсулах для загара.
– Я карикатура на драную модель, подсевшую на иглу, если бы я не была с тобой, никто бы меня и не замечал.
– А вот это первый проблеск того, что принято называть «здравым смыслом», за весь наш разговор.
– Ты… сделал из меня… чудовище…
Я молчу, потому что это правда, и я сознаю, что механизм запущен и разогнался слишком сильно, чтобы я мог хоть как-то его остановить, и я даю ей последний шанс, потому что, в конце концов, тронут ее словами, и если она ответит «да» на последний вопрос, который я ей задам, я признаюсь во всем, снова попрошу у нее прощения, а если она простит, простит по-настоящему, я осуществлю ее дурацкие мечты, осуществлю на самом деле, и если она и тогда захочет меня бросить, пусть бросает, тем хуже для меня, тем лучше для нее, и я наконец смогу уснуть.
– Манон, ты ведь любишь меня, правда?
– Нет…
Мы ушли из ресторана, вернулись домой и старательно избегали друг друга вплоть до последнего соития в пул-хаусе, за время которого не обменялись ни словом, только приказами и оплеухами, а потом вернулись в Париж – запускать промоушн.
Глава 11
Немного славы
МАНОН. И глазом моргнуть не успели, а вокруг уже серенький Париж, вчера еще был Сен-Тропе, и приступ летней паранойи, и единственный контакт с реальностью – это разглагольствования Дерека, не удивительно, что я сбежала, до сих пор голова кружится, как вспомню вчерашний вечер, когда он ревел, как девчонка на веранде, опять мусолил воспоминания о дорогой мамочке, или о дорогом папочке, или о дорогой Жюли, не знаю, а я едва держалась на ногах, стояла на балюстраде, над пустотой, и меня странно как-то тянуло вниз, и море разбивалось о скалы, и хотелось со всем покончить. Мы приземлились в одиннадцать вечера, и, конечно, нас встречал дождь, теплый, тяжелый дождь, и я выглядела дура дурой в своем платье с открытой спиной и намазанными маслом волосами, рядом с Дереком в джинсах и плаще, и весь аэропорт был в джинсах и плащах, я закуталась в кашемировую шаль, закурила сигарету, раз уж это последний в мире аэропорт для курящих, Жорж II толкал тележку, груженную чемоданами «Вюиттон», как всегда, все смотрели на нас, и я чувствовала, что вернулась домой и что наконец-то мой дом – Париж.
Первую афишу я увидела, когда мы сворачивали с окружной у Порт-Майо. Мы ехали на шестисотом «мерсе», ехали быстро, как музыка, «Bullet with Butterfly Wings», и дождь струился по тонированным стеклам, Дерек висел на телефоне, гавкал по-русски какие-то ругательства, и мы чуть не убились, были на волоске, слишком резкий вираж, машину зверски заносит, Дерек хватает меня за руку, прикрывает микрофон телефона и шепчет: «А знаешь, я тебя любил», – и опять орет в мобильник «Дасвитанья, дасвитанья», из-за дождя ничего не видно, только обезумевший свет фар и поблескивающий Пале де Конгре, Жорж II изо всех сил жмет на тормоза, визг покрышек, я думаю об отце, которому больше года не звонила, думаю о своем фильме, которого никогда не увижу, и вдруг машина останавливается, и мы живы: «Это чудо!» – кричит Дерек, потом: «Спасибо, «мерс»! – а потом: «Дайте мне опять Москву», и вдруг из пустоты, переливаясь в неоновом свете, передо мной возникает мое лицо, десятикратно увеличенное, бледное, донельзя заретушированное, и мое имя, полностью, и название фильма заглавными буквами – ну вот, так и есть, старая мечта стала реальностью, гладкой и глянцевой, и висит на автобусной остановке, я могу ее видеть, могу потрогать, она такая реальная, эта старая мечта, что мы чуть не врезались в нее, такая реальная, что едва не убила нас всех. У меня перехватывает дыхание, и я невольно смеюсь, охваченная странным чувством острейшего удовлетворения, бурлящего счастья, пока наконец, обернувшись, не замечаю горестного смятения на застывшем лице Дерека, его мобильник на полу, сигарета пляшет в трясущихся пальцах, и тогда я говорю: «Ладно, Жорж, поехали в отель, и постарайтесь хоть теперь нас не угробить», – и мы молча едем по авеню де ла Гранд-Арме, а потом по Елисейским Полям, а потом по улице Фобур-Сент-Оноре, и улицы пустынны, пустынны, и мое лицо повсюду, но прохожих нет, никто его не видит, весь Париж принадлежит мне, только мне одной, потом я говорю себе, что привыкну, и от этой мысли, мысли о долгой жизни, похожей на нашу прогулку по Парижу, увешанному мной, на этот молчаливый победный марш, снова ощущаю восторг, и ничто не сможет опять испортить мне удовольствие, даже Дерек, с недовольным видом сидящий в углу, потому что я знаю, какая жизнь меня ждет, и это та жизнь, которую выбрала я.
В жизни, которую выбрала я, каждый день светило солнце. Комната выходила на Вандомскую площадь, высокие окна были забраны янтарно-желтой тафтой, пропускавшей ровно столько света, чтобы не будить меня слишком резко, я без конца потягивалась, валяясь поперек огромной кровати, комкая шелковые простыни между натруженными ногами, прижимаясь по очереди к несмятым подушкам в поисках капельки прохлады, часы на ночном столике показывали около девяти, Дерек уже ушел.
В жизни, которую выбрала я, всегда повторялись одни и те же вопросы и одни и те же комплименты, бывшие комплиментами отнюдь не всегда, я была «красива, как налетчица», я была «само антиизящество, но такая современная, настолько в духе начала века», нашла ли я общий язык с месье Карениным, я лгала: «да», поддалась ли я чарам Эдриана Броуди, я не лгала: «нет», нашла ли я общий язык со съемочной группой, я лгала: «да», довольна ли я своей работой, я была донельзя довольна своей работой, но чтобы их порадовать, говорила, что я перфекционистка и всегда хочу большего. Как мне удается быть такой худенькой? «Надо полагать, это от природы, я могу есть что угодно и не толстеть, просто я такая», – ответила я с самой своей очаровательной смущенной улыбкой толстухе-журналистке из женского журнала, утянутой в прямую юбку 38 размера. Я знала свою трепотню наизусть, до последней запятой и с точностью до минуты, потому что все журналисты мало того что задавали одни и те же вопросы, но еще и задавали их в одном и том же порядке, и иногда я позволяла себе отвлечься, смотрела, например, Fashion TVповерх их голов, на случай, если какая-нибудь модель ускользнула от моего внимания, и тогда получала локтем в бок от этой чумы Эммы, моей пресс-атташе, призывавшей меня к порядку и велевшей отвечать на бессмысленные и весьма вежливые вопросы вроде: «Вы живете с Дереком Делано из-за денег?» Я отвечала: «Нет». «Вы живете с Дереком Делано, чтобы делать карьеру в кино?» Я отвечала: «Нет». Эмма не позволяла мне выставить этих хамов за дверь, утверждая, что это якобы повредит моему имиджу, а за имидж свой я держалась. Иногда мне пытались расставить ловушку: «Вы живете с Дереком Делано из-за денег или чтобы делать карьеру в кино?» И я на редкость ловко избегала ловушки, отвечая: «Ни то ни другое». Иногда меж двух идиотских вопросов: «Какой ваш любимый фильм?» – «Бум», и «В чем секрет вашей красоты?» – «Здоровый образ жизни и «Харви-Николс», мне отпускали что-нибудь типа: «Вы переспали с Эдрианом Броуди во время съемок?», и я возмущенно отвечала: «НЕТ!», а уходя, этот тип обернулся, вынул из кармана бумажку и спросил: «Скажите, а что бы вы хотели получить на день рождения?» – и я ответила: «Джакузи Ла Скала, с плазменным экраном, до свидания», и пока он записывал, захлопнула дверь у него перед носом. Я ничего не понимала. Все журналисты были чокнутые, чокнутые, как Дерек, если не больше.
– Если вы не любите журналистов, смените профессию, – сказала мне Эмма.
– Если вы не заткнетесь, то не знаю, смените ли вы профессию, но работодателя смените точно.
Это было странное время, новая эра, моя эра: я была повсюду. «Это твой кусочек славы, ты сама этого хотела», – говорил Дерек. В то время толпу интересовали только две вещи: одна – это я, а вторая – воскресший Курт, обнаруженный на улицах Нью-Йорка каким-то безработным кукольником, Курт заполучил туберкулез, амнезию, ссохся, не мог больше играть на гитаре, но это был он, Курт Кобейн, мой старый кумир, и у меня был номер его мобильника.
Нас вместе показывали по телевизору, вместе печатали на обложках и разворотах, нашими лицами были забиты все газетные киоски, мы вместе завтракали в «Косте» или в «Плазе», где он жил, люди глядели на нас, разинув рот, он поверял мне свои тайны. Уже после первых расспросов выяснилось, что его смерть была разыграна женой, превратившей ее в золотое дно, он пил много виски, прекрасно ладил с Дереком, я делала большие успехи в английском.
В те дни, когда я шла по Парижу и видела афиши, у меня каждый раз кружилась голова. Лицо, мое лицо, часть меня самой, жило своей жизнью, все эти взгляды были не в моей власти. Меня это почти пугало. Пугали прежде всего мои глаза на афише, густо подведенные, отретушированные, почти прозрачные, они смотрели прямо в объектив и преследовали вас всюду, где бы вы ни были, преследовали меня всюду, где бы я ни была. Целыми днями, когда мы стояли в пробках, мои собственные глаза в упор глядели на меня со всех автобусных остановок, со всех кинотеатров, со всех рекламных щитов Парижа, а я сжималась в комок на сиденье, в шляпе, в очках, прячась за тонированными стеклами, пытаясь скрыться от чужих взглядов, скрыться от собственного взгляда там, наверху, в ярком свете дня, я уже не выносила сама себя, опускала глаза – передо мной была обложка «Эль», обложка «Стюдьо», обложка «Пари-Матч», моя реклама «Вюиттона», каталог «Вюиттон», рассыпанные композитки, любительские снимки нас с Дереком в «55» в Сен-Тропе, старые контрольки в моем раскрытом буке, я поднимала голову, опускалась ночь, и передо мной на темно-зеленом, почти черном стекле смутно проступало мое отражение – нечто гротескное, депрессивное, в солнечных очках в темноте, мое отражение, переставшее быть моим.
За мной ходили по пятам, часто кто-то ехал за машиной, и когда мне случалось выйти, просто потому, что было душно и хотелось глотнуть воздуха или чтобы самой купить сигарет, какой-нибудь нахал слезал со скутера, подбегал и обращался ко мне со спины, подпрыгивая, чтобы мельком увидеть мой профиль, убедиться, что да, это действительно я, и говорил: «Эй, эй, это вы, а?» – а я отвечала: «Нет, вы, наверно, обознались», и прохожие оборачивались и узнавали меня, и в этот самый момент я, как правило, оказывалась нос к носу с собственным лицом на стенке автобусной остановки, и нахал, нимало не смущаясь, начинал хихикать: «Я так и знал, я вас видел по телику», и я отвечала: «Ну да, это я, а вам-то какое дело?» – а тип говорил: «Ну-ну, ты как с публикой разговариваешь, дура?» – и тогда я быстро садилась в тачку и посылала Мирко купить сигарет в следующей лавке. Я избегала улиц и хождения в народ, но в гостинице было не лучше. О нет, там на меня не бросались, но на самом деле было еще хуже – косые, неотступные взгляды, реплики, которые никто даже не трудился произносить потише.
– Нет, вы видели, до чего она тощая!
– Она наркоманка.
– Анорексичка.
– Больная.
– Не обращай внимания, цыпочка.
– Дерек, тебе не приходило в голову, что люди позволяют себе показывать пальцем только на неодушевленные предметы, на собак и на знаменитостей?
– Ты забыла военных преступников, дорогая.
– Ну и что? Ведь они тоже знаменитости, разве нет?
Дерек уже привык. Я нет. И все же не могу сказать, что я была несчастна. Иногда я вспоминала Конечную, бессонные ночи у окна, когда я смотрела на деревенскую площадь, неподвижную, залитую желтоватым светом, и голод терзал мои внутренности. Словно во сне, до меня доносилась мелодия Леграна, которую я крутила без остановки, голос, местами хрипевший на заезженной кассете, и слабенький рояль, такой тихий, что я не столько слышала его, сколько угадывала. Я видела себя со стороны, словно кого-то другого, словно в кино, видела свой силуэт, свое лицо, не знавшее косметики, тогда я еще была брюнетка, у меня было человеческое лицо, а не эти раздутые губы и запавшие щеки, как у больной, мои глаза светились иллюзиями. Мое лицо крупным планом, я бросаю сигарету, в камере сигарета, она взрывается на земле снопом красноватых искр, и вновь я, потом камера отъезжает, виден только мой силуэт в прямоугольнике окна, камера отъезжает еще дальше, теперь видна вся моя халупа, и опять я, всего лишь слегка очерченная тень, которая уменьшается, в кадр попадает небо, я незаметна, я бесконечно крошечная точка в своем глупом окне: всего лишь дурочка, мечтающая под звездами. ЗАТЕМНЕНИЕ.
Следующий эпизод. Звезд больше нет, дурочка перестала мечтать. Она глотает порошки от стресса на заднем сиденье «мерседеса». Вот она, девочка с Конечной, маленькая провинциалка, над которой все смеялись, которая позволяла лишать себя невинности в бассейнах дебильным женоподобным дачникам, в придачу позволяя себя бросать ради снобских кукол, которая кусала себе локти, листая Saga,завидовала всем и вся, вплоть до идиоток из «Академии звезд», бывали дни, когда у нее не хватало денег даже на сигареты, и она с гримасой отвращения курила собственные окурки, скуривала собственные бычки до самого фильтра, вот она, маленькая подавальщица из Trying So Hard,она чистила сортиры, гробила себе руки, моя посуду, на нее смотрели сверху вниз – с высоты стула, когда она стояла, на нее ругались, если было слишком жарко, слишком холодно, слишком медленно, ей из жалости оставляли несчастных несколько евро на чай, но она, маленькая подавальщица, больше не будет стоять никогда, никогда и ни перед кем, она плюет на целый свет с высоты своей победы, с высоты кучи бабла и всеобщего вожделения, она едет на пресс-конференцию – маленькая бродяжка, маленькая провинциалка, маленькая подавальщица, едет в своей огромной тачке с кондиционером, и ей даже не нужно сидеть за рулем, а ассистентка полирует ей ногти, а здоровенный амбал угрюмо отслеживает потенциальных эротоманов, она смотрит на свое лицо по обеим сторонам дороги, лицо размером с целый дом, прозрачное, как идеал, и пьет, как сапожник, чтобы забыть, как ошиблась мечтой.
– Да езжай же ты со своей консервной банкой! Проезжай, блин, я же опаздываю! Вали, марселец хренов! Да насрать на помеху справа! Врежьте ему по крылу, Жорж, Дерек оплатит ремонт! Жорж, да протараньте вы его на фиг, плевать, машина-то бронированная! Давайте наконец придавим этого старого придурка! Он уже пятнадцать минут мешает нам ехать!
– Это вряд ли возможно, мадам.
– Чтоб он провалился! Может кто-нибудь в этой машине мне сказать, ктона хрен написал эти долбаные правила дорожного движения? А? Чтобы я пошла и плюнула на его могилу, как только немножко рассосется!
– Тут пробка, мадам, придется в объезд.
– Никаких объездов! Ни-ка-ких объ-ез-дов! Я должна быть на Сен-Жермен через… через… Я должна была быть на Сен-Жермен уже полчаса назад, все журналисты в городе сейчас ждут меня, равно как и месье Эдриан Броуди, месье Каренин и месье Дерек Делано, ваш всехний хозяин,у меня, представьте себе, есть обязанности, мне надо двигать фильм, я не в гости еду! Так что никаких объездов, мы тараним тачку этого психа и гоним по автобусной полосе, иначе вы все вылетаете за дверь, ясно?
– Я не собираюсь садиться в тюрьму, мадам.
– А я не собираюсь опаздывать!
– Тут везде полицейские, мадам!
– Я тоже тут везде, Жорж! Смотрите, я везде! И что, это повод всех грузить?
Я показываю ему афишу фильма слева, на автобусной остановке, и на щите перед Национальной Ассамблеей, и в газетном киоске, и на обложке «Стюдьо», и свое лицо работы Ричарда Аведона на обложке «Эль», который я держу в руке, и еще на автобусе, который, кстати, мчится на полной скорости по специально отведенной полосе, и кричу:
– Гоните за автобусом!
– Тут не скверный голливудский фильм-погоня, – возражает Дерек, и меня охватывает паника, потому что Дерека нетв машине, он ждет меня на Сен-Жермен, вместе с Карениным, Эдрианом Броуди и нервничающими журналистами.
– Вся моя жизнь – скверный голливудский фильм, – говорю я, – и где ты, Дерек, прячешься, я тебя слышу, но не вижу?
– Манон, ты под газом.
– Ничего подобного.
– Под газом.
– Нет.
– Если б ты не была под газом, ты бы вспомнила, что есть такое революционное изобретение, называется телефон. И еще одно революционное изобретение, называется громкая связь. Дура.
Мне кажется или я слышу, как моя пресс-атташе прыскает со смеху?
– Дерек, дорогой, – говорю я, – Эмма смеется надо мной, ее надо уволить.
Я протягиваю Мирко бутылку шампанского, пусть откроет, я чувствую, что еще секунда, и у меня сдадут нервы.
– Никто никого не уволит, – орет Дерек, – ты исчерпала лимит увольнений пресс-атташе. Заткнула рот и поторопилась, тебя ждут!
– Какой ты властный, зайчик мой, – говорю я, протягивая Мирко бокал.
– Мне чудится, или там хлопнула пробка от шампанского?
– Отнюдь нет, это Мирко. Ухлопал легавого, который спросил у него документы.
– Манон, я тебя предупредил: никакого алкоголя перед пресс-конференциями, иначе на будущей неделе полетишь из Парижа в Нью-Йорк чартером через аварийный выход, вместе с толстухами и беременными женщинами, ясненько?
– Дерек, скотина. Ты хоть представляешь, какой прессинг я должна выдерживать? Я уже в зеркало не могу смотреться, до того мне опротивела моя морда. У меня по сорок интервью в день, моя сексуальная жизнь выставлена на всеобщее обозрение…
– К твоему сведению, это и моясексуальная жизнь, и именно ты все вывалила в «Вог», потому что перепутала свои транквилизаторы со стилноксом.
– Да хоть бы и так, ты тоже, между прочим, на стилноксе сидишь!
– Да, цыпочка, только мне он помогает уснуть, а у тебя вызывает неодолимое желание бороться за демократизацию искусственных членов во имя расцвета семейной половой жизни.
– Моя публика имеет право знать!
– Ах да, вот только вчера вечером на просмотре для прессы семнадцать человек задали мне вопрос, нравится ли мне, когда меня имеют в зад, а Стефан Би смотрел на меня как-то странно…
– Ну и что, Дерек, просто не приглашай этого жуткого типа на свои просмотры, что ты хочешь, чтобы я еще сказала?
– Манон, все, о чем я прошу, это чтобы ты помнила, как тебя зовут, когда приедешь на пресс-конференцию.
– Для этого мне нужно просто… открыть газеты!