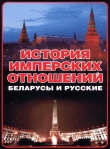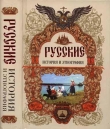Текст книги "Литературная Газета 6354 ( № 2 2012)"
Автор книги: Литературка Литературная Газета
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
Круговая порука добра
Круговая порука добра
ПРЕМЬЕРА
«Тихая моя Родина» в Театре имени Евг. Вахтангова

Трудно себе представить более несовременный спектакль: никакой тебе нецензурной лексики, никаких протестных интонаций. Напротив, сплошная любовь, идиллия и благодать!
На помощь артистам Елене и Александру Михайловым пришли известные и малоизвестные поэты и музыканты: от Анны Ахматовой, Булата Окуджавы, Николая Рубцова, Иосифа Бродского, Бориса Чичибабина, Игоря Северянина до Геннадия Заволокина, Бориса Щукина, Сергея Толстого, иеромонаха Романа. И, конечно, режиссёр Владимир Иванов, художник Максим Обрезков и квартет в составе Евгения Иванова, Полины Евлановой, Ольги Жевлаковой и Галины Мальян.
Создатели представления определили его жанр как спектакль-концерт. А мне показалось, что мы присутствуем не в Театре им. Евг. Вахтангова, где в другой раз можно было увидеть «Принцессу Турандот», «Филумену Мартурано» или «Перед заходом солнца», а в храме на богослужении, где нас призывают не к противостоянию, но к миру. Где учат одинаково радоваться каждому прожитому дню – летнему, жаркому, и зимнему, морозному, – всё равно! И каждой птахе, каждой рыбке, каждой бабочке – всему живому и сущему, что окружает нас. И делают это без всякого надрыва, как бы между прочим, ничего никому не навязывая, тем более не внушая. Будто разбрасывают вокруг семена добра, которые обязательно дадут всходы – всходы любви!
У представления нет единого сюжета, зато есть единая интонация. Назовём её интонацией доверия – от сердца к сердцу! Изначально она принадлежит авторам. Её подхватывают все создатели, постепенно она становится и их интонацией. А в конце концов овладевает и залом, который только что не поёт вместе с артистами, но украдкой смахивает слёзы – слёзы очищения, радости, надежды. Надежды на Бога, но и на себя: на Бога надейся, а сам не плошай! Возлюби Ближнего, как себя самого. Не ропщи, не унывай, не завидуй и т.д. и т.п., если не прямым текстом, то иносказательно, намёком: имеющий уши да услышит!..
Окончилось представление, отгремели аплодисменты, преподнесены цветы. В тишине, с просветлёнными лицами, как после богослужения, покидают зал верующие и атеисты. И подумалось мне: как было бы здорово, если бы кто-то на телевидении однажды догадался вместо всех этих призывов к барьеру и слива всевозможного компромата пригласить всю нашу многострадальную и многоконфессиональную страну всего-то на полтора часа к экранам, чтобы в наших душах наконец воцарились мир, любовь и круговая порука добра!..
Борис ПОЮРОВСКИЙ
Михаил Васильевич, Святая Русь
Михаил Васильевич, Святая Русь
ВЕРНИСАЖ

В череде выставок Северной столицы во дни весёлые Святок и каникул впечатляет высота духовной планки, заданной их организаторами. В Инженерном (Михайловском) замке до 5 февраля продолжается выставка «Святая Русь». Знаменитые иконы, церковное облачение и, конечно, иллюминированные рукописи Древней Руси, представленные и петербургскими музеями, и коллекциями Вологды, Сольвычегодска, Ярославля. Здесь ещё раз осознаёшь, насколько высока была роль эстетического начала и в знаменитом «выборе веры», и в утверждении православных догматов среди славян. Зрителей встречают модель великолепного ярославского храма Иоанна Предтечи в Толчкове, настенные цитаты из «Слова о законе и благодати» первого русского митрополита Иллариона... И здесь же – кресты деревянные и каменные, рельефные крышки рак со святыми мощами, портреты-парсуны царей ХVII столетия. По соседству с властителями «бунташного века» – сцена обручения Лжедмитрия I с Мариной Мнишек, «примитивистская живопись» неизвестного польского мастера; а тут же по соседству – убиенный царевич Димитрий, изображённый на крышке раки из золота, украшенного целой россыпью драгоценных каменьев.
Но особое впечатление оставляют массивные тома манускриптов, раскрытые, «запечатлённые» под стеклянными витринами. Впрочем, их можно «полистать» благодаря современным экспозиционным средствам – на экранах тут же «лежащих» мониторов.
Ещё одно касание древности – в другом величайшем музее Северной столицы. Эрмитаж совместно с Новгородским музеем-заповедником организовал уникальную выставку «От бересты к бумаге. Книга Древней Руси» (она продлится до 19 февраля).
В небольшом зале – срез письменной культуры Средневековья, причём не только проявления монашеской учёности, но и повседневная жизнь грамотных горожан. Здесь церы – деревянные дощечки, покрытые воском; берестяные грамоты – частные письма городского люда. Вот любовное письмо образованной девушки, переписка монахов, заговор против болезни, жалоба городским властям на разбойников (с указанием конкретных имён – чем не предтеча нынешних борцов за социальную справедливость?), азбука, завещания, молитвы[?] А дальше – манускрипты на пергаменте, иллюминированные рукописи – Евангелие, Лествица Иоанна Синайского, Триодь цветная, написанная чернилами и расцвеченная темперой; печатные книги духовного содержания. Как всегда, выставку сопровождают интересный видеофильм и прекрасный каталог.
В парадной анфиладе залов Эрмитажа – одно из главных юбилейных событий ещё минувшего года: выставка «М.В. Ломоносов и елизаветинское время». Важность юбилея «русского Леонардо» предопределила долготу выставки: она открылась почти в день трёхсотлетия холмогорского гения, а продлится до 11 марта 2012 года. Зрителей встречают знаки праздничного времени «блистательной Елисавет», победительницы прусского короля.
Тут стоящие у дверей скульптурные арапчата, эскизы коронационных декораций – триумфальные ворота и даже фонтан для[?] вина, барочная изукрашенность мундиров, платьев на каркасе-панье, саней и конской упряжи. Здесь и сама прекрасная блондинка на троне... А рядом – труды и дни её гениального современника: рабочие инструменты, портреты соперников-учёных немцев, макет Усть-Рудицкой мастерской и её свершения – мозаичные портреты, столы, стеклярусные панно. Если припомнить, чем Ломоносов занимался (от первого университета до разработки вертолёта), то можно воскликнуть вслед за Пушкиным: «Он сам был первым нашим университетом».
Смесь барочных излишеств и грации рококо – в изделиях мейсенского фарфора и Невской порцеллиновой мануфактуры (русского, самостоятельно изобретённого Д. Виноградовым и М. Ломоносовым варианта фарфора), в изгибах рам и диванов-канапе и даже – в последнем из трёх залов выставки – в шедевре уже постоянной экспозиции музея, грандиозной серебряной раке святого князя Александра Невского. На выставке представлены и макеты петербургских храмов ХVIII столетия (причём в предварительных, не осуществлённых вариантах), и религиозная живопись в масляной технике, вытеснившей традиционную темперную иконопись...
Выставка сопровождается видеофильмом и прекрасными аннотациями, а каталог – этот гигантский том весом в несколько килограммов – настоящий апофеоз научного освоения века пудры, мушек, дворцовых переворотов, интриганов и гениев.
Мария ФОМИНА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
: Empty data received from address
Empty data received from address [ url ].
Датчанин-землеустроитель
Датчанин-землеустроитель
КНИЖНЫЙ

РЯД

Андрей Кофод. 50 лет в России. 1878-1920 / Научный редактор Л.П. Поульсен-Хансен, перевод с датского Л. Вайль, научный комментарий А. Гутерц. - СПб.: Лики России, 2011. – 456 с.: ил. – 600 экз.
Автор книги Карл Андреас Кофод (1855-1948) – фигура замечательная во многих отношениях. В двадцатитрёхлетнем возрасте после окончания Сельскохозяйственной академии приехал из Дании в Россию, которая стала его второй родиной. Здесь Андрей Андреевич – это имя значилось в паспорте Кофода, когда он принял российское гражданство, – выучил русский язык так, что в дальнейшем писал на нём научные труды, женился на дочери русского помещика, с низшей ступени иерархической лестницы поднялся до статского советника и члена Совета министра земледелия. Он играл одну из ключевых ролей в проведении аграрной реформы Столыпина: под его руководством за десять лет была развёрстана пятая часть крестьянских земель, а книга «Хуторское расселение» была выпущена колоссальным по тем временам полумиллионным тиражом.
Свою задачу при разверстании (т.е. разделе более целесообразным способом, чем ранее) общинных земель Кофод видел в том, чтобы преодолеть чересполосицу, крайне неудобную для землепользования. Передел принадлежащей деревням земли стремились проводить так, чтобы каждому двору достался компактный, удобный для обработки участок. Важно было, чтобы владельцы переселились туда, что заметно увеличивало продуктивность хозяйств. Это подтверждал европейский, в частности, датский более чем вековой (с 1781 года) опыт: «разверстание было одной из важнейших причин фантастически быстрого подъёма датского сельского хозяйства».
Однако в начале 80-х годов XIX столетия, когда Кофод приехал в Россию, здесь его никто и слушать не хотел, поскольку разверстание было несовместимо с традиционным общинным землевладением – «община была истинно русским явлением, поэтому она была вне всяких дискуссий, чем-то святым». Считалось, что община «защищает сельское население от пролетаризации». Кофод детально изучил этот феномен – историю, сильные и слабые стороны, современное (на тот момент) положение дел и доходчиво рассказал об этом.
Однако понадобилось более двадцати лет, чтобы идею о разверстании крестьянских хозяйств в России можно было не только активно обсуждать, но и проводить в жизнь. В начале XX века перед первой русской революцией резко обострился крестьянский вопрос. «В густонаселённых центральных губерниях, особенно в чернозёмной полосе, нехватка земли стала острой, и одновременно с этим и в обществе вера в спасительные качества общины становилась менее непоколебимой, чем раньше. Некоторые противники её смели теперь публично, устно и письменно, выступать против неё». Решающий аргумент появился у Кофода тогда, когда он нашёл «деревни, разверставшиеся по собственной инициативе крестьян». Найти их, изучить опыт можно было только в результате поездок по стране. А для этого нужны были полномочия, подтверждённые документально (чтобы не объяснять каждому уряднику, что делает датчанин в том или ином селе), и денежные средства. И с тем, и с другим возникало немало проблем. Однажды автору пришлось даже продать свою мебель и заложить столовое серебро.
Медленно происходило осознание необходимости перехода от общинного ведения хозяйства к единоличному и на уровне правительства. Наконец, об этом было официально объявлено осенью 1904 года. Надо было подготовить законодательную базу реформ, получивших название Столыпинских, – эта работа велась в течение 1906-1910 годов.
Целью реформ было выведение крестьян из полукрепостного состояния, в котором они находились после Манифеста 1861 года.
Но сила инерции была такова, что распустить «общину даже сам Столыпин не решился сразу же, да ещё по всей стране» – выходить из неё получили право только отдельные хозяйства, но даже это вызвало «шторм возмущения в интеллигентских кругах[?] Проведение Столыпинских реформ требовало многих лет мирной спокойной работы». Во вступительной статье книги приводится такой факт. Уже после Октябрьской революции Кофод встретил в Москве одного знакомого, старого большевика, и тот ему сказал: «Если бы Вам, Андрей Андреевич, удалось продолжить свою работу ещё лет на 8-10, то наше дело не вышло бы, никакой революции не было бы».
А тогда, в предреволюционные годы, аграрная реформа и, в частности, разверстание шли впечатляющими темпами. Благодаря в том числе и недюжинной энергии Кофода. Его труды по землеустройству (!) были нарасхват, а неизданный справочник зарубежных законов по землеустройству способствовал тому, что соответствующий российский закон 1911 года стал лучшим в Европе. Он без устали ездил по губерниям, спорил с оппонентами и начальством, организовывал обучение землемеров, агитировал крестьян, устраивая им экскурсии в места удачных разверстаний, т.е. на хутора. А ещё ему поручали знакомить с положением дел иностранцев, которые вдруг проявили интерес к аграрной реформе в России. Суть этого интереса выразил в 1912 году один немецкий профессор: «Двадцатилетний мир и двадцатилетнее землеустройство – и Россия станет непобедимой».
Что было дальше – известно. Мировая война и революция, положившая конец в числе прочего и аграрным преобразованиям.
Выше речь шла о том, что было главным делом автора в России, однако книга интересна не только этим. Но и, например, живыми штрихами к портретам видных государственных деятелей – С.Ю. Витте, Вл. И. Гурко, В.Н. Коковцова, А.В. Кривошеина, П.А. Столыпина («великан среди лилипутов»). Как приключенческий роман читаются страницы, где описываются революционные события 1917 года, поездка в следующем году автора в качестве представителя датского посольства по делам, связанным с австро-венгерскими военнопленными, в охваченную Гражданской войной Сибирь. Так в Тобольске Кофод был арестован по подозрению в шпионаже и на два с половиной месяца заключён в каторжную тюрьму. То, как он провёл это время, красноречиво характеризует этого человека. Во-первых, 63-лет[?]ний узник ежедневно занимался гимнастикой и обливался холодной водой, во-вторых, обнаружив в тюремной библиотеке учебник итальянского языка, выучил его настолько, что потом мог читать итальянские книги.
Отлично изданные воспоминания А. Кофода – достойная дань памяти незаурядного человека, искренне любившего свою вторую родину и не жалевшего сил для её процветания.
Александр НЕВЕРОВ
Уроки минувшего
Уроки минувшего
ХОРОШО!
В новом году я снова считаю важным прояснить свою позицию: «хорошо» вовсе не означает, будто всё на российских просторах распрекрасно, вдумчивый читатель наверняка обратил внимание на то, что я ни разу не вступил в полемику с теми, кто критикует нескладухи нашего частного и общественного бытия, и, значит, признаю несовершенства той жизни, какая выпала на долю нынешних поколений. Моя задача в том, чтобы попытаться уловить тенденцию развития. Куда всё же катится Россия? К пропасти, о чём твердит оппозиция всех мастей, выпячивая удобные для неё факты и замалчивая достижения, например, стеная о том, что кризисное падение экономики России было самым глубоким в мире, однако забывая упомянуть, что излечение от кризисных недугов оказалось самым быстрым? Или же Россия после поражения 90-х медленно, но неуклонно поднимается, а потому в наш эмоциональный обиход пора вернуть надежду на лучшее и близкое будущее?
Казалось бы, если обратиться к итоговой прошлогодней статистике, экономическое выздоровление не должно вызывать сомнений: ВВП вырос на 4 процента, что недосягаемо для Европы, инфляция – самая низкая в новейшей истории страны. Но люди, принимающие на веру нелепые слухи (например, о грядущем 10-балльном землетрясении в Туве), отказывают в доверии статистике. Срабатывает инерция советских лет, и невдомёк, что в эпоху открытых рынков и свирепых рейтинговых агентств невозможно манипулировать экономическими показателями страны. Да, в ЖКХ, здравоохранении и прочих отраслях внутренней жизни приписок пруд пруди, они-то, эти, по Бердяеву, «противоречия русского бытия», и тормозят развитие. Но если по-крупному, итогово – не побалуешь, сразу схватят за руку, и это горько аукнется стоимостью зарубежных кредитов, которые берёт наш бизнес, хотя и осторожнее, чем до 2008 года. И случайно ли МВФ прочит России уже четвёртое экономическое место в мире к 2020 году?
Впрочем, от экономики самое время перейти к политике, которой ныне все увлечены и где тоже немало хорошего. Предвижу недоумённый вопрос: здесь-то что хорошего? Многотысячные митинги, споры вокруг фальсификации думских выборов, угроза хаоса и «цветной» революции, усиленная прибытием в Москву американского посла Макфола, специалиста по таким делам[?] Хочу привести факты, ускользающие от внимания людей, склонных к митинговщине.
Не говорю о политической реформе, заявленной в послании президента, ибо пока неясно, в каком виде его законопроекты выйдут из Думы законами. Важнее другое. Поскольку митинги на Болотной и проспекте Сахарова очень уж явно напоминали события, происходившие на закате перестройки (я был их участником и вправе сравнивать), то небезынтересно указать на два по меньшей мере коренных отличия между тогдашним и нынешним всплесками гражданской активности.
Первое отличие в том, что на исходе СССР митинговщину, боровшуюся с командно-административной системой, и гласно и потаённо поддерживала верховная власть, а сегодня протесты направлены против этой власти, хотя недовольство порождает ещё более раздутая бюрократия. Получилось, как в известном присловье: за что боролись, на то и напоролись. Но что касается отношений с властью, думаю, каждый понимает, что на практике означает указанное различие.
Вдобавок власть учла трагический опыт других стран. В прошлом году я был в Каире – не у пирамид, а в городе мусорщиков, на площади Тахрир, – и доподлинно знаю, что произошло в Египте. В январе группа «продвинутых» решила испортить ненавистным полицейским праздник «День полиции» и устроила несколько протестных флешмобов, вынудив стражей порядка не вино пить, а разгонять толпы молодёжи. Разъярённые полицейские слишком усердно поработали дубинками, и на следующий день толпа потребовала уволить их начальника. Прозвучали провокационные выстрелы, и престарелый Мубарак пошёл на поводу митинговых требований – именно с этого всё и началось. А заканчивается трагедией огромной страны, падающей в экономическую бездну, вероятным приходом к власти фундаменталистов, причём хуже всех придётся именно «продвинутым», заварившим кашу, чтобы подразнить полицейских. Но, учитывая каирский урок, могу ответственно сказать, что упорные вопли об отставке Чурова, абсолютно неповинного в местных фальсификациях думских выборов, – это один из наработанных приёмов «цветных» революций. От власти требуют первой вроде бы незначительной уступки, чтобы распалить воображение толпы.
Ещё важнее второе отличие. В 1990-1991 годах митинговая оппозиция не добилась бы успеха, если бы её не поддержали шахтёры Кузбасса. Именно они, объявив забастовку, предъявили ультиматум властям и инициировали стачки рабочих по всей стране, после чего события приняли необратимый и вполне предсказуемый характер.
А что теперь?
Теперь всё наоборот: нижнетагильские сталевары против московской митинговщины, против раскачивания лодки, и это знаковый сигнал особой важности, как бы ни пытались извратить его иные журналисты, нарушающие профессиональный кодекс и по советским лекалам ставшие митинговыми пропагандистами. Впрочем, о чём вообще говорить, если даже в Кремле, рассуждая о «рассерженных горожанах», напрочь забыли о крупных заводских коллективах. А ведь Путину, спасшему АвтоВАЗ от банкротства, достаточно, как говорится, свистнуть в два пальца, чтобы на митинг в его поддержку вышел весь полумиллионный Тольятти. (Не уверен, правда, нужно ли это делать.)
Эти коренные отличия прежней митинговщины от нынешней, которые в политическом угаре замалчивают, не позволят снова раскачать российскую лодку до такой степени, что она опять начнёт черпать бортами воду. На сей раз Макфол останется не у дел.
И это хорошо. Тем более что антикоррупционные, антибюрократические митинги очень полезны и очень выгодны всем нам, а особенно Путину, если он станет президентом. Опираясь на мнение этих митингов, можно успешнее свернуть шею многоголовой гидре коррупции.
Анатолий САЛУЦКИЙ
Модели Игры
Модели Игры
ЛИТЕРАТУРА В ЯЩИКЕ

Олег ПУХНАВЦЕВ
На канале «Культура» вышла новая программа, посвящённая литературе, – «Игра в бисер». Название это может показаться странным, если обратиться к сути Игры, описанной Германом Гессе, – элитарной, бесплодной, да и к самой фигуре автора, как минимум неоднозначной.
Однако в предложенном «нейминге» есть определённая закономерность: другой литературный проект канала называется «Апокриф», тоже декларирует интерес к ереси (в самом широком смысле этого понятия). В случае с Виктором Ерофеевым можно говорить о гармоничной связи концепции передачи, её названия и персоны ведущего. Он как будто создан, чтобы наслаждаться противостоянием какому-либо канону.
Но Игоря Волгина изначально, ещё до премьеры, было трудно представить в роли Магистра Игры. Литературный подвижник, популяризатор классической традиции казался инородной душой в стерильном мире Гессе, с его скучной проповедью индивидуализма, одержимостью Востоком и оскорбительным равнодушием к Христу[?]
Стоит ли уделять такое внимание названию передачи? В конце концов, это могло быть спонтанное решение. Однако, кажется, существует прочная связь, с ходу не заметная, между создателями проекта и автором романа «Игра в бисер». Чтобы определить её, представим Германа Гессе не только в качестве нобелевского лауреата, но и приверженцем герметизма, оккультизма, гностицизма, в рамках которого, подчеркнём, человечество разделено на касты, а высшие знания принадлежат только избранным.

Именно на этом и основана новая передача. Закадровые редакторы-элитарии (а вовсе не Игорь Волгин) приглашают посвящённых поиграть. Так складывается каста единомышленников.
Да, не всякая игра предполагает соревновательность, «Игра в бисер», например, выполняет охранительные функции – оставляет незыблемым пантеон богов высшей духовной расы. Организаторы Игры решают главную задачу: так подобрать участников, чтобы законсервировать сложившуюся за последние четверть века иерархию элитарных ценностей.
Кажется: что может быть уязвимее фигуры Рабле, после того как на Рублёвке обрела зримые очертания идея Телемского аббатства, воплощён на практике принцип «делай, что желаешь»? Однако приглашённые в студию не торопятся с радикальной простотой называть Рабле сатанистом. Наоборот, они сетуют, что до сих пор по «великой книге» не сняты мультфильмы, не нарисованы комиксы, предлагают «Гаргантюа и Пантагрюэль» в качестве пособия по реформам Министерству образования. А один из литкритиков (внешне удивительно похожий на Романа Абрамовича) подытоживает в стилистике комикса: «Раблезианство единственный способ нормальной жизни. Если все будут жить, как Гаргантюа и Пантагрюэль, то всем будет хорошо».
Кажется очевидным: тема Рабле неизбежно приведёт к глубокому социо-культурному анализу работ Михаила Бахтина, и, может быть, впервые на российском канале будет задан вопрос: какую роль в разрушении СССР сыграла (и сыграла ли) его концепция «карнавализации»? Не под этим ли флагом в период перестройки происходила десакрализация всего сакрального? И вот Игорь Волгин приглашает гостей к полемике, однако элитарии «Игры в бисер» лишь иронично отмечают некоторую избыточность интереса к этому исследователю народной смеховой культуры и утверждают, что мода на Бахтина прошла.
В финале каждого выпуска ведущий говорит традиционную фразу «вы слышали разные мнения», но иногда возникает странное ощущение, что Игорь Волгин участвовал в какой-то иной беседе, отличной от вышедшей в эфир.
Какие «разные мнения» были, например, в выпуске, посвящённом Сергею Довлатову? Привилегированные игроки в бисер дружно славили одно из своих божеств и в рамках этого обряда даже принесли в жертву участницу программы, не принадлежащую к их касте. Устроители Игры прозорливо приготовили для этих целей симпатичного филолога, преподавательницу Литинститута. Она стала критиковать Довлатова с позиций[?] почвенничества. Наверняка из лучших побуждений, но, по сути, играя в поддавки, в качестве альтернативы Довлатову был неожиданно предложен Валентин Распутин. А ведь правильнее было не альтернативу подыскивать, а поставить главного героя передачи в один ряд с Конецким и порассуждать, мог бы Виктор Викторович войти в пантеон элитариев, окажись он матёрым антисоветчиком. Ещё было бы интересно выяснить, является ли этот фактор необходимым и достаточным, чтобы обрести высокий статус крупного писателя.
Выпуск, посвящённый Маяковскому, тоже не выявил особого разнообразия позиций. Можно, конечно, благодарить создателей «Игры в бисер», что они, несмотря на свой статус аристократов духа, нашли в себе силы выбрать героем пролетарского поэта. Но ведь по большому счёту реабилитации не произошло. Отрицание значимости Маяковского, укоренившееся в постсоветские времена, сменили более лояльной трактовкой: есть два поэта, хороший – дореволюционный и плохой – послереволюционный.
В студии не нашлось человека, который принимал бы Маяковского полностью, не считал бы его политические взгляды ошибочными. Или устроители Игры считают, что таковых в России не осталось? Или правила аристократического клуба позволяют предоставлять слово всем, кроме священников, патриотов и коммунистов?
Здесь нужно ещё раз отметить важный момент: гостей подбирает компания-производитель, у которой канал «Культура», в свою очередь, покупает программу. Игорь Волгин является в этой Игре не только ведущим, но и, по существу, заложником литературных вкусов и политических предпочтений своего работодателя[?]
Нещадная эксплуатация телевидением игровых моделей вполне объяснима. Игра – самый лёгкий способ держать внимание. Канал «Культура», возможно, был единственным, что не злоупотреблял этой надоевшей условностью. И вот «Игра в бисер», и вот мрачная тень Гессе, всё увеличивающаяся в размерах[?]
В прошедшую субботу, в лучшее время – 20.35, именно Герману Гессе был посвящён выпуск программы «Величайшие шоу на Земле». Такого чудовищного наигрыша, претенциозных видеоэффектов и удивительно наивной режиссуры ранее на «Культуре» видеть не приходилось[?] Просто какой-то конкурс инсценированной эзотерики.
Гессе воодушевлённо рекламировал Вадим Демчог. Кто-то знает его как исполнителя роли венеролога в сериале «Интерны»; кто-то как специалиста по трансперсональной психологии (если коротенько: переживание встреч со сверхчеловеческими духовными сущностями, слияние со Вселенским Сознанием, постижение Великой Пустоты[?]). Короче, всё, что Андрей Кураев называет «сатанизмом для интеллигенции»[?]
Чтобы бисеринка легла к бисеринке, следует добавить: Вадим Демчог ещё и озвучивал Мистера Фримена, а по некоторым версиям, и придумал этого модного культового героя Интернета. Свободный Человек – пример современной стратегии «карнавализации». Весёлый, по-своему талантливый мультсериал сделан в расчёте на хипстеров (субкультура продвинутой элитарной молодёжи). В структуре вирусного ролика апелляция к архетипическому: народным сказкам, тонко замаскированное побуждение к действию. Придурковатым голосом, снижая чуждый хипстерами пафос, Демчог озвучивает гностика Фримена, зовёт на Болотную: «[?]По одну сторону от нас реальное быдло, за которое думает телевизор, а по другую – та сила, которая нас самих считает говном и быдлом[?] Есть лишь один путь – договориться между собой и установить свои правила. Вот тогда и начнётся НАША ИГРА!»
А вот Демчог говорит в интервью журналу «Элита Общества»: «В какой-то момент мир начинает играть по твоим правилам». Отметим, как деликатно слово «бог» заменено словом «мир». А вообще-то гностики считают, что могут манипулировать богом[?]
В следующую субботу Демчог рассказывает на «Культуре» о Франсуа Рабле.
Как будто вспомнив, что в романе Гессе описываются интеллектуальные упражнения музыкально-математического свойства, на «Культуре» появляется программа «Сати. Нескучная классика[?]». (Улыбнёмся «сатицентричности» названия и отметим, что посвящённые давно присвоили право давать свои имена теле– и радиопередачам).
Гости, представители музыкальной элиты, начинают рассказывать о посланиях, зашифрованных композиторами в партитуру. И вот беседа, на первый взгляд казавшаяся милой популяризацией высокой классики, возвращает на землю – к иерархии элитарных ценностей. С каким-то потусторонним блеском в глазах пианист Андрей Гаврилов говорит о Шостаковиче: «Одно из проявлений чудес его героического характера – это Девятая симфония. Когда Сталин от него ждёт что-то типа бетховенской Девятой – „Обнимитесь миллионы“ в масштабах Советского Союза, он в финале туда засовывает „Янки Дудл Денди“. Что хотел сказать этим Шостакович? Что без американцев тебе победу не видать, как своего носа, тварь усатая».
Ведущая одобрительно хохочет, как будто заимствуя из «Степного волка» Гессе «нечеловеческий беспредметный смех», а заодно указывая, как с помощью карнавализации разрушаются базовые идеологические ценности[?]
Итак, элита играет. Вместе с игривыми разговорами о литературе и музыке зритель получает сопутствующий товар – представления о некой иерархии ценностей. Герман Гессе не приходит один. Вслед за этим кумиром западных субкультур (от битников до хиппи), вслед за этим гуру российской либеральной интеллигенции идёт его друг и учитель Карл Юнг, исследователь тёмного бессознательного. Идут оккультные практики, теософия Блаватской, Нью Эйдж, магия, плюрализм, толерантность, перестройка. Субкультуры заполняют пространства, учтиво освобождённые Культурой. Эзотерические магазины «Путь к себе» оккупируют канонические территории Православия. Дети хиппи – хипстеры – готовятся идти на митинг свергать власть. Хиппи были недовольны дефицитом джинсов, хипстеров не устраивает Дизайн России.
Что противопоставить вирусным субкультурам? Строить фабрики-гиганты по производству джинсов, как предлагал кто-то в качестве рецепта спасения СССР? Можно было попробовать.
Приспосабливаться, создавать модный визуальный ряд из архетипического, исконного? Канал «Культура» в своём блестяще задуманном проекте «Вся Россия» предложил до такой степени актуальное и динамичное монтажное решение, что многие не смогли разглядеть ценностей традиционного народного искусства[?]
Лучший российский телеканал в поиске, он ищет, часто находит, но иногда ошибается с подрядчиками. Однако, судя по всему, всё-таки не хочет осуществлять «ренейминг», превращаться из канала «Культура» в канал «Образованщина».