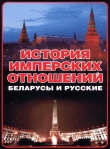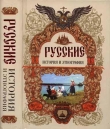Текст книги "Литературная Газета 6354 ( № 2 2012)"
Автор книги: Литературка Литературная Газета
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
Кража
Кража
ОЧЕРК НРАВОВ

Сергей РЫКОВ
– Рома, пора. Прощайтесь, – говорит конвойный.
Мать плачет, прижимает к груди стриженую голову сына. Он сейчас такой чужой, её Ромка, и в то же время такой родной.
– Ладно, ещё две минуты – и в отряд.
Мать целует сына в щёку около уха. И в этом поцелуе, в этой ласке всё: нежность материнская, тревога, боль, прощение, надежда на то, что всё это (свидание при свидетелях; казённое обмундирование; стриженая голова; передача в узелке, которая, говорят, ему не положена; неприятный, тяжёлый для сердца разговор с воспитателем) – всё это, она надеется, в прошлом. Очень хочется верить.
– Пошли, – говорит конвойный. Уводит, спрашивая:
– Жалко мать?
– Жалко, – вздыхает.
– Ты вечер порезвился, а ей пять лет жизни долой.
Опять вздыхает.
Здесь, в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (или детприёмнике, как его «по-семейному» называют воспитатели), Ромка на исправлении. Так решила комиссия по делам несовершеннолетних. После детприёмника Ромку ждёт спецучилище.
– Иди.
Он идёт; рубашка на спине пузырится, выдавая худую спину и впадинку между лопаток. Трудный подросток Ромка Князев. Худенький злой мальчик с взрослым прозвищем, подаренным ему его фамилией, – Князь.
Как объяснить ему что-либо, если он хочет только одного: чтобы оставили в покое, не тревожили его суверенитет. Да педагоги, воспитатели рады бы этот суверенитет уважать, но ведь знают, чем это может кончиться. А он, Ромка, не знает – детство, юность не умеют предвидеть.
Человек всегда стремится к самоутверждению. Особенно остро этот процесс проходит у подростка. И если у него в этом смысле ничего не получается в школе, да и дома его не ахти как привечают, остаётся один путь самоутверждения своего "Я" – улица.
Каждый вечер, часов в шесть-семь, компания Ромки собирается в тени лип на соседней улице. У Романа есть друг Барон. У Барона, как вы понимаете, есть имя – Борис. Их двое друзей – Барон и Князь. У них своя компания, свой мир. Хуже ли, лучше ли иных миров и компаний, но – свой мир. И не замечать его было бы не только не благоразумно, но и невозможно.
Барон – «шишкарь» (лидер). Князь – его правая рука. В авторитетах ещё двое – Стас и Майкл (то бишь Миша, Михаил).
Барон и Князь приходят с гитарой. Гитара плачет и жалуется, и грустит, и смеётся, констатируя якобы эмоциональную многогранность исполнителей.
Здесь свои песни, свой свод ценностей. И это было бы, в общем, неплохо, но вот что обидно: из всей многотысячной армии образцов «делать жизнь с кого», которыми располагает человечество, «бароны», «князья», «Майклы» и им подобные выбрали в кумиры (больше того – в жизненные идеалы) только тех, кто признан бесспорными авторитетами в их компании. Для Ромы и его друзей, например, это длинноволосые солисты какой-нибудь поп-группы.
На чём держится авторитет Барона? На умении бряцать по струнам гитары – раз. Барон умеет на ходу «склеивать чувих» (знакомиться с девушками на улице), что в недалёкой мужской компании испокон веков считалось особым достоинством, – два. И[?] Вот и всё, если не брать во внимание то, что Барон преуспел в знании «чувацкого жаргона».
Здесь, в компании под липами и с гитарой наперевес, практически невозможно добиться авторитета парню, обладающему, допустим, незаурядными математическими способностями, или большому знатоку и любителю филателии, или человеку, понимающему балет, кино, театр[?] Здесь, под липами, свой мир, свои критерии, оценки, своя лестница престижа. Бывало, что каким-то образом в компанию Барона (из любопытства к сверстникам, что ли?) залетали примерные ребята, но, посидев в такой компании два вечера, навсегда уходили из неё, унося горечь разочарования и чувство брезгливости к вульгарному жаргону, пустым, как мыльный пузырь, песням и анекдотам.
Были такие ребята. Ромка даже хорошо запомнил одного из них – Дима его звали. Он пришёл к ним с шахматной коробкой под мышкой и предложил компании турнир. Барон, как ни странно, отложил гитару и согласился, но, получив мат на пятом ходу, распсиховался и залепил Диме затрещину.
Дима в слезах ушёл, а компания безмолвствовала. На следующий вечер под липами недосчитались ещё трёх подростков.
Почему, Рома, случай с Димкой тебя не растревожил?.. И ты не ушёл вместе с теми тремя?..
Потом была кража – первая в жизни Ромки. Украли мотороллер «Вятка» и мотоцикл «Иж». «Вятку» украли зря – мотороллер был безнадёжно запущен, практически груда ржавого хлама. А «Иж» дня за два можно было бы поставить на колёса. Ромка – парень толковый, с рабочей жилкой. Кроме того, учится на автослесаря. «Иж» вмиг был разобран.
Компанию любителей чужой техники привели в милицию, составили протокол и поставили на учёт. Штраф за украденное раскидали на всех – родители каждого из подростков выложили по солидной сумме.

Подросток превращается во взрослого – сложный процесс. Ещё вчера вежливый пай-мальчик становится вдруг (а вдруг ли?) резким, раздражительным. В семье Романа Князева достаток. Большая квартира, магнитофон «Панасоник», подаренный родителями на пятнадцатилетие, книги, карманные деньги по субботам и воскресеньям. Но Рома отца не уважает и не скрывает этого. А мать ему жалко. Он считает (и не без оснований), что она унижается перед отцом, что она тряпка, раз позволяет ему требовать ежедневные письменные отчёты за растраченные рубли и копейки. Мать выдирает из блокнота листок, вспоминает и досконально записывает все свои траты, до мелочей.
Ему, Ромке, непонятна сверхзадача, которую отец ставил перед собой и выполнил, – закончить институт. Обязательно, чего бы это ни стоило, имея уже двух детей и груз лет, – закончить. Закончил. Круто прыгнул по административной лестнице вверх. Естественно, стал больше получать.
Значительно больше. Ну а сын считал, что не знания сами по себе привлекали отца, а положение, портфель, власть, которые получает человек вместе с «поплавком». О недостатках родителей Рома может рассказывать сколько угодно. И делает это охотно. Поливать грязью родителей ему выгодно – на фоне чужих недостатков не так заметны собственные.
Из детприёмника Князева хотят отправить в спецучилище. Это серьёзная воспитательная мера. Я бы даже сказал, в его, Романа, положении это крайняя мера. Но прибегать к помощи спецучилища – это значит вырвать подростка из семьи (что само по себе уже сложное испытание), из нормальной жизни.
– У воспитателей детского приёмника, – говорили мне там, – к Ромке претензий нет: работает он охотно, не ленится, на замечания реагирует правильно, да и замечаний этих немного.
Урок пошёл впрок или подросток (а они умеют делать это мастерски) приспособился, притаился до поры до времени?
Всё-таки, думаю, первое. Хочу верить.
А вот ещё одна подростковая судьба. У Анатолия Кузенкова жизнь в семье категорически не сложилась.
[?]Волосы у парня выцветшие, длинные и немытые. Он, видимо, очень гордился ими и, разговаривая со мной, постоянно причёсывал их растопыренной пятернёй. На самом деле волосы и парня не украшали, и о содержимом его головы создавали впечатление самое невыгодное.
В проходной детприёмника он куражился и паясничал. Его не смущало прошлое, оставленное где-то на задворках городка Карпинска, растерянное, как чемоданные шмотки, на станциях и полустанках Астраханской области, Казани, Тюмени[?] Он – под потолок ростом. Серое лицо. Съёжившиеся, словно обведённые красными веками, глаза.
В приёмной детприёмника медицинский осмотр обязателен. Опытная Василиса Михайловна – врач детприёмника – была категоричной:
– Этого молодого человека необходимо лечить в вендиспансере.
В детприёмник он, разумеется, не попал. Я говорил с ним в приёмной, пока ждали спецмашину из вендиспансера.
Всё, что умеет в жизни Толька Кузенков, – это сквернословить, играть в карты, напиваться, выстукивать два простеньких ритма на эстрадной ударной установке, воображая себя Ринго Старром. Немного для семнадцати лет.
Когда же, на каком году жизни начала падать Толина звезда?
Усталый, пахнущий заводским цехом отец после работы ещё с порога полушутливо просил есть:
– Мать, желудок к позвоночнику прилип!
Потом подходил к сыну, поднимал на сильных руках до самого потолка, хмыкал добродушно:
– Экий у меня утюг растёт[?]
Ах, как хорошо было давно-давно в детстве!
Потом подрастающий Анатолий всё чаще стал замечать: к запаху заводской спецовки отца примешивается ещё один – резкий, незнакомый. Запах водки – понял он позже.
Чем больше взрослел Толька, тем больше пил отец. Тем злобнее становился в своём недуге. Дом Анатолию стала заменять тусклая подворотня.
Когда Кузенков-старший угодил в тюрьму, мать впервые вздохнула свободно[?] А потом в доме появился отчим. Дядя Коля работал на машиностроительном заводе фрезеровщиком и получал прилично. После долгой болезни устроилась на работу мать. В семье Кузенковых надежда на благополучие отвоёвывала у лютой беды каждый день.
Одного не мог преодолеть отчим – равнодушия к чужому сыну. На ласку был скуп, на гостинцы тоже. Но и в ребячьи Толькины дела носа не совал: делай что хочешь.
Первый раз Толя Кузенков убежал из дома, когда ему было неполных двенадцать лет. Поездить много не удалось – сняли на ближайшей станции и отправили в детприёмник.
Архив приёмника сохранил вот такую запись в журнале: «Кузенков Анатолий Константинович. Ведёт себя удовлетворительно, но подросток вольный, много знающий».
«Много знающий[?]» Да, к той поре Анатолий Кузенков уже видывал виды[?]
Милиционер привёл беглеца домой. Отчим всыпал по первое число. С тех пор дядя Коля стал «требовательным» к Тольке. Но по-прежнему не было ни любви, ни уважения к парню. Это была требовательность, граничащая с деспотизмом, требовательность, которая унижала.
На сей раз Анатолий сбежал в Тюмень, к родному отцу. Тот освободился из заключения и прислал сыну письмо: «Приезжай, сын, заживём на все сто! Будем честно зарабатывать. Я тебе мотоцикл куплю[?] Нас двое, Кузенковых-то, – ты да я. А мать пущай с новым (здесь отец нецензурно выругался) доживает. Валяй ко мне, Толька!»
Трудно было мальчишке не откликнуться на такое письмо. Отец должен был встречать Анатолия на вокзале. Не встретил. В незнакомом городе нужного человека сыщешь не сразу. Анатолий нашёл наконец отцову квартиру. Его там не было. Искали горемычного вместе с соседкой, полгорода обошли. Отыскали – пьяного, грязного, состарившегося.
Этим эпизодом и закончилась отцовская «заинтересованность» в сыне[?]
Кузенкова ссадили с товарного поезда в Казани. Почти три месяца он бродяжничал. Ссадили уже бывалым бродягой-хулиганом. Бродяга, франт, воришка, каким его знают в комнатах милиции многих городов, здесь, в детском приёмнике, предстал во всём объёме своей беды.
Все корни Толькиной, основательно уже поломанной жизни вроде бы в семье. Все ли? Спившийся отец, равнодушный отчим, уставшая от жизненных неурядиц мать – эти люди сыграли в судьбе мальчика неблаговидную роль. Самые близкие люди[?] Но если мы говорим о подобных подростках – «педагогический брак», значит, должны смотреть на эту проблему шире. Ведь о мальчике знали не только эти трое. Мы должны и вправе спросить с тех, кто прямо или косвенно должен быть заинтересован в его судьбе. Он учился в школе, с кем-то дружил, кому-то рассказывал о своих детских обидах, жаловался. И при этом остался в вакууме.
Вакуум[?] Применительно к душе – страшное слово. Душевный вакуум заполняют, как правило, дрянью: водкой, наркотиками, бездельем, агрессией[?]
Вакуум душевный – мина, заложенная под каждого из нас.
Хромые лошади
Хромые лошади
ПОСТФАКТУМ

Сергей БАЙМУХАМЕТОВ
В декабре 2009 года в пермском клубе «Хромая лошадь» во время пожара погибло 156 человек. Все телеканалы горевали по этому поводу. Казалось бы, после такого несчастья будут приняты экстраординарные меры. Но вот минул год. И что же? Попробую коротко изложить то, что обнаружил в интернет-сообщениях:
– мужчина пострадал при взрыве газа в торговом павильоне в Красноярске. Выяснилось, что павильон работал незаконно;
– в Челябинске сгорел Центр делового сотрудничества. По неофициальным данным, баллоны с газом взорвались в ресторане с другой стороны здания;
– в Ростовской области произошёл взрыв на газонаполнительной станции, в результате которого погибли двое мужчин;
– взрыв на Брянской птицефабрике унёс жизни двух рабочих. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека»;
– в результате взрыва в помещении насосной установки открытого акционерного общества «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» погиб один человек, ещё один находится в реанимации;
– газовый баллон взорвался в здании дежурной части Железнодорожного отделения МВД в Улан-Удэ, по предварительным данным, пострадали пять человек.
И вот ещё одна трагедия, случившаяся буквально на днях: произошёл взрыв в ресторане на юго-западе Москвы. На его кухне взорвались газовые баллоны, в результате чего погибли два человека и более 50 пострадали. Характерно, что в январе 2011 года инспекторы Госпожнадзора провели проверку здания ресторана и выявили 11 недочётов и нарушений, после чего выписали предписание об их устранении. Но были ли устранены нарушения, так и осталось неизвестным.
По устоявшемуся мнению, Россия занимает одно из первых мест по числу жертв из-за техногенных аварий, катастроф, производственного травматизма. В интернет-изданиях сообщается: «По данным Роструда, на рабочих местах погибают 4-4,5 тыс. человек ежегодно». Пять лет назад директор департамента Минздравсоцразвития Александр Сафонов говорил в Госдуме: «Ежегодно умирает 750 тысяч человек трудоспособного населения. Около половины из них умирает в результате воздействия производственных факторов на здоровье человека».
Кто виноват? Вот как рассуждает в прессе на эту тему инспектор по охране труда Сергей Луговской: «Российский труженик в самой безобидной ситуации умудряется найти смерть[?] Рабочий чистил цистерну из-под спирта и решил подсветить себе зажигалкой[?] На первом месте „общая глупость“, как часто пишут в документах мои коллеги. 95% смертей на производстве происходит по неосторожности. Есть масса людей, с которыми можно провести сотню занятий по технике безопасности, а они всё равно сделают по-своему».
Из слов ГОСУДАРСТВЕННОГО человека следует: такой мы народ – фаталисты, дикари. Даже если и так, обязанность государства – защищать нас от самих себя. Огромный аппарат зарплату получает. Каких только инспекций нет! Но когда что-нибудь случается, нам преподносят под тем или иным соусом: разгильдяйство, человеческий фактор.
Многие ли знают, что после недавней страшной авиакатастрофы из недр ведомства вырвалось признание: «В Росавиации требовали от авиакомпаний переоборудовать самолёты системой предупреждения о близости земли ещё в 2009 году». По международным правилам, принятым и в России, машины без таких систем к полётам не допускаются. А у нас – «требовали». А на их «требование» начхали. И государство не шелохнулось. Интересно, во что обошлось закрытие глаз чиновников?
В таких случаях и вбрасывают в общественный оборот: «человеческий фактор». Знаменитый московский ресторатор Аркадий Новиков причиной недавней трагедии в итальянском ресторане назвал разгильдяйство персонала. Ему вторит заместитель начальника управления МЧС по Москве Сергей Аникеев: «В любом случае трагедии можно было избежать, если бы сотрудники ресторана соблюдали все требования безопасности при эксплуатации газобаллонного оборудования. Это халатность чистой воды!»
Глядишь, читатели и забудут, что в том ресторане газовых баллонов вообще быть не должно, не станут допытываться, кто из надзирающих чиновников закрыл глаза.
Вспомним ещё раз трагедию в пермском клубе «Хромая лошадь». Не было, кажется, ни одного правила противопожарной безопасности, которое там не нарушили бы хозяева. Но клуб благоденствовал ВОСЕМЬ лет.
Известный московский адвокат в те дни рассказал, как к ним, в адвокатскую коллегию, пришёл молоденький, только назначенный инспектор пожарной охраны и заявил: «Будете мне раз в месяц платить 200 долларов. И проблем не будет. А не будет 200 долларов – будут проблемы». Госрэкетир даже не понимал, с кого решил брать дань. Действовал исходя из обыденной реальности: всех облагают – и все платят, кого и чего бояться?
Кстати, в тот трагический вечер в самом престижном клубе Перми гуляли и сотрудники различных правоохранительных органов. Ведь хозяин клуба им близок – награждён нагрудным знаком «За содействие МВД России» и медалью «200 лет МВД России».
Теперь он под судом. Вместе с ним – другие лица, в их числе и три пожарных инспектора. Второй год идёт процесс. Невозможно понять, почему так долго тянется. Видимо, есть какой-то замысел. Пострадавшие в истерике, говорят, что государство им не помогает, а адвокаты обвиняемой стороны над ними откровенно смеются.
Возможно, будут судить и директора итальянского ресторана. Его арестовали, показали народу по телевизору.
А вот по поводу гибели 53 человек на буровой платформе «Кольская» в Охотском море – тишина. Хотя там вопиющих нарушений предостаточно. Но нефтяная компания – не ресторанчик. Более того, Дальневосточное следственное управление жалуется: неизвестные лица изымают документы о буровой, а изымать их имеют право только они, следователи. Вот заявление грозных дознавателей: «Какое-либо истребование доказательств и сведений по телефону категорически исключается». Следственный комитет в глухой защите? От кого и от чего?
Руководители государства после каждой аварии и катастрофы выражают соболезнование, требуют выяснить причины. Но все знают, что причина одна – тотальная коррупция.
А это от[?]нюдь не человеческий, а государственный фактор!
Всё о дочерях Евы
Всё о дочерях Евы
КНИЖНЫЙ

РЯД

Эдуард Графов. Русская женщина . Она не холодная, ей просто некогда. - М.: ООО «Сам Полиграфист», 2011. – 242 с.: ил. – 300 экз.
Эдуард Графов. Не писать надо уметь, не каждому это по плечу . - М.: ООО «Сам Полиграфист», 2011. – 144 с.: ил. – 180 экз.
Эдуарда Графова, автора множества сатирическо-юмористических книг, представлять не надо, его знает, я думаю, каждый читающий человек. Напомню лишь, что он ведёт популярную колонку на страницах «ЛГ» «Житиё-бытиё». И вот в руках у меня две его новые книжки. Первая – это гимн женщинам, озарившим начало жизненного пути писателя. Но в ней автор повествует не только о героинях и прелестницах, а и об особах женского пола, которых и назвать-то женщиной язык не повернётся. Например, о тех, кто спаивает собственных детей, или «просто» не кормит их. И о таких монстрах, которые выносят свою малышку на продажу, – не на что выпить[?]

И, конечно же, не оставил Эдуард Графов без внимания и «сильный» пол, и его отношения со «слабым». В книге – неисчерпаемый набор очень кратко изложенных очень занимательных историй об очень глупых и очень умных мужьях, жёнах и любовницах. И о детях, разумеется. А что, скажите, интереснее этих историй? И, зная современные литературные нравы, не могу не предположить, что много-много сюжетов будет из этой книги, скажем мягко, позаимствовано.
В рецензии, даже краткой, положено что-то покритиковать. Критикую: не понравилось мне название. Думаю, не автор его придумал; ещё в далёкой моей юности слышал я шуточку, что, мол, «русские женщины не холодные, а им просто некогда». Но тогда же, помню, один остряк заметил, что, видно, автору этой максимы не повезло с женщинами. Я тоже так считаю.
Вторая книжка – писательский блокнот верного автора «ЛГ», это приоткрытое окошко в его, как говорится, творческую лабораторию. Услышанное от друзей, подслушанное в народе, придуманное самим образовало в сумме занимательное чтение. И тоже, думаю, станет искушением для склонных к заимствованиям литераторов[?]
Константин ЮРЬЕВ
Как много в этом звуке
Как много в этом звуке
ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ

Когда смотришь на работы Алексея Суховецкого, сравнение живописи с музыкой возникает само собой. Не потому, что так явственна аналогия между переливами красок и звуков, хотя каждую его картину, от монументальной панорамы, такой как «Москва. Бородинский мост» (1997), до скромного этюда вроде «Голубых гор» (2010), можно определить в терминах соответствующего музыкального жанра. А потому, что его сюжеты, как и музыка, не поддаются буквальному «пересказу»: зритель волен слышать в них не заданное автором, а своё, сокровенное.
Профессия художника из тех, что требуют от человека умения принимать судьбоносные решения очень рано: если в детстве не начал относиться к ней как к делу жизни, считай, что опоздал. Причём на всю жизнь. В семье Суховецких никто никакого отношения к искусству не имел, и все были уверены, что увлечение Алексея рисованием со временем пройдёт. Дед перед поступлением внука в Суриковский институт предпринял последнюю попытку повлиять на него: ты бы лучше в архитекторы пошёл, у них хоть заработки твёрдые, не то что у художников. То давнее дедово наставление каким-то мистическим образом отразилось в творчестве внука: под неуловимым флёром мягких, плавных, почти летящих линий внимательный взгляд всегда отыскивает точную, выверенную до миллиметра, порой даже жёсткую архитектонику композиции: волна и камень.
Он родился на Обводном канале: в раскрытые окна вплывали лики старой Москвы, осенённые перезвоном курантов на Спасской башне. Стоит ли удивляться тому, что любимой темой художника стал родной город: «Весь центр я ещё мальчишкой исследовал до малейших закоулков. Старые дома, вовсе не обязательно архитектурные памятники, становились моими друзьями. Меня не коробит, когда рядом со старинной усадьбой расположился шехтелевский модерн, а завернув за угол, натыкаешься на сталинский ампир. Меня даже новостройки не слишком раздражают. Москва эклектична по своей природе, потому я и люблю это смешение стилей и времён: мне интересно вскрывать взаимосвязи».
Показать людям то, мимо чего они проходят, не оглянувшись, – так можно было бы сформулировать творческое кредо Суховецкого. Вот «Ворота в старом парке» (2009), за которыми идёт совсем другая жизнь, подчиняющаяся иным, более человечным законам. А вот перевёрнутые пейзажи укрытого снегом Нескучного сада – и здесь тоже своё Зазеркалье, свободно существующее параллельно с нашим обыденным миром. И Патриаршие пруды он писал не однажды, в разное время года и суток. Зачем? Чтобы открыть нам, бегущим сквозь собственную жизнь, нездешность места практически хрестоматийного, растиражированного и литературой, и кинематографом. Такими вы Патриаршие не увидите, сколько бы раз ни попадали туда, но, замерев хоть на минуту у холста, вы почувствуете магическую энергетику этого места.
Ещё одна характерная особенность почерка Алексея Суховецкого – умение совмещать несовместимое. Даже если вы каким-то чудом проберётесь в служебные помещения Большого театра, ни из одного кабинета вы не сможете увидеть знаменитую Аполлонову квадригу так, как её изобразил художник. Вам придётся по его примеру выбраться на покатую крышу, балансируя на грани бытия и споря с пронизывающим ветром. Только возникнет ли у вас желание в таких не слишком комфортабельных условиях любоваться шедевром Клодта?!
Москва остаётся для Суховецкого главной, но не единственной любовью. Из своих странствий он привозит запечатлённые в красках мелодии иных городов. «Турин» (1994), «Крыши Парижа» (1999), «Шербур» (2010) написаны так, словно художник прожил там полжизни: трудно поверить, что за время кратких свиданий можно найти общий язык с гениями мест, столь не похожих на родные просторы. Даже в этюдах, о которых особо распространяться не принято (ведь, по сути, это лишь разминка перед серьёзной работой), художник достигает законченности, самодостаточности, умудряясь уместить в лаконичный «кадр» пейзаж, который в действительности безбрежно-бесконечен («Мёртвое море. Марево», 2001).
Желание проникнуть в суть вещей, отставив в сторону их внешнюю фактурную живописность, позволяет художнику превратить такой не слишком популярный сегодня жанр, как «обыкновенный», «скучный» натюрморт, в своего рода зашифрованное послание, даже если хотите – в философскую притчу. Ну почему ему так важно компоновать среду вокруг маленького, скромного предмета, явно не тянущего на «главную роль» в композиции, – какой-то засохшей дубовой ветки или весьма прозаичной на первый взгляд чёрной рюмки? Но стоит лишь заставить свои серые клеточки работать интенсивнее (по глубокому убеждению Алексея Николаевича, восприятие искусства такая же напряжённая, не терпящая суеты работа, как и само творчество), и скрытый в послании код проявляется: часы, отмеряющие неизмеримое время, – ткань, струящаяся подобно водопаду жизни, – белая чаша как воплощение сосуда бытия, из которого каждый пьёт столько, сколько ему отмерено, – пёстрая ширма, отделяющая видимое от невидимого и, более того, небытие от бытия. А надо всем этим – лицо женщины как символ вечности и неиссякаемости источника человеческой жизни («Натюрморт с японской гравюрой», 2008).
Апологеты актуального искусства со всем отпущенным им природой пылом пытаются доказать, что каноны классического искусства жёстко ограничивают для художника возможность самовыражения. Суховецкий оспаривает этот довод каждой своей работой: «Классическая школа не только не ограничивает автора, но даёт ему возможность говорить со зрителем на понятном ему языке. Выражает ли художник себя, громоздя „композицию“ из бетона и колючей проволоки? Вряд ли, разве только у него самого эта проволока внутри. Школа даёт художнику крылья, а у не имеющего её крылья подрезаны. Никому в голову не придёт утверждать, что настоящий композитор не должен быть хорошим исполнителем, ибо это будет „сужать“ его композиторский диапазон. Сергей Васильевич Рахманинов был выдающимся композитором и не менее выдающимся пианистом. Почему же владение школой ставят в упрёк художникам?»
Однако школа – это не только безукоризненное владение техникой, это ещё и наследие великих предшественников, которое подпитывает художника своей энергетикой. Речь не идёт о ксероксном копировании приёмов, а о вдохновении, рождающемся от соприкосновения с подлинным шедевром: так маяки своими лучами помогают мореходам найти путь через мели и рифы. Впрочем, спорить с «оппонентами» Алексей Суховецкий не любит: время и так всё расставит по своим местам, суетиться не стоит. Он берётся за кисть для того, чтобы взволновать, удивить своего зрителя, помочь ему увидеть, что мир вокруг, каким бы несовершенным он нам ни казался, на самом деле всё-таки прекрасен.
Виктория ПЕШКОВА