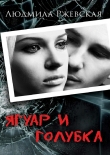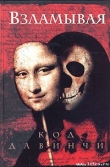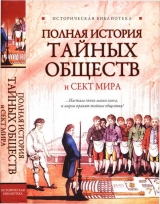
Текст книги "Полная история тайных обществ и сект мира"
Автор книги: Лин фон Паль
Соавторы: Глеб Благовещенский,Виктор Спаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 34 страниц)
Казалось бы, вышеперечисленного будет достаточно для краткой характеристики этого Магистра. Однако целью нашего исследования является объективное освещение событий, имеющих непосредственное отношение к Приорату Сиона, поэтому мы – при всем пиетете к личности Шарля Нодье – просто обязаны указать на некоторые, по крайней мере, хотя бы на одно, скажем так, несоответствие, о котором не упоминается у наших коллег, занимающихся изучением деятельности Приората Сиона. Как вы помните, Великим Магистром – согласно «Тайным Досье» – Нодье стал в 1801 году. В это время у него была возлюбленная, которую звали Люсили Франк. В 1803 году девушка трагически и безвременно уходит из жизни, а Шарль, вне себя от горя, создает поэму… антинаполеоновского характера (напомним, что в это время Наполеон Бонапарт находится в зените славы, даже не помышляя о том, что ему уже через каких-то 9 лет суждено познать ужас поражения под Бородино). Затем он специально доносит на себя властям и оказывается в тюрьме. Это оказалась темница Сен-Пелажи, в которой незадолго до Нодье содержался легендарный маркиз Альфонс де Сад, что, кстати, не помешало Шарлю сообщить в своих мемуарах, что они с господином маркизом делили одну камеру. Итак, Великий Магистр Приората Сиона и автор скандальной оды – может ли это быть один и тот же человек? Как знать? Решайте сами. А вдруг это феноменальный пример фантастической мимикрии, искусству которой Нодье мог научиться у насекомых, будучи неплохим энтомологом и специализируясь на бабочках? Впрочем, скорее всего, это свидетельство той бурной палитры чувств, что отличает двадцатилетних – всех времен и народов. Поистине можно с блеском выступать в роли Великого Магистра и, в то же время, всей душой сострадать потере любимой, совершая в порыве отчаяния необдуманные поступки (вроде написания злополучной оды), за которые потом придется жестоко поплатиться. Наверное, это то самое пресловутое «человеческое, слишком человеческое», о котором писал Ницше и которое позволяет Великим Магистрам, распознавая себя в нас, вершить судьбы мира…

Виктор Гюго (1803–1885). Право же, автор романов «Отверженные», «Человек, который смеется» и, конечно же, «Собор Парижской Богоматери» в особом представлении не нуждается. Недостает лишь нескольких штрихов.
Гюго был младшим современником Шарля Нодье; в сущности, семнадцатилетний Виктор избрал его себе в качестве учителя. Благодаря Шарлю Нодье молодой Гюго открыл для себя загадочный и необъятный мир эзотерики, познакомился с основами Каббалы и доктриной розенкрейцеров. Они путешествовали по Европе, дружили домами, сообща выпускали журнал; известно, что именно Нодье Гюго обязан сюжетами ряда своих произведений, в частности, романа «Собор Парижской Богоматери». А 2 мая 1825 года, когда Виктору Гюго исполнилось 22 года, Шарль Нодье ввел его в Приорат Сиона – пока еще в качестве рядового члена. Союз учителя и ученика просуществовал вплоть до кончины Нодье в 1844 году; на похоронах Гюго был удостоен чести нести покров усопшего. А 22 июля того же года (в день святой Магдалины) большинством в один голос он был избран Великим Магистром Приората Сиона. Прием прошел не без осложнений; примечательно, что Теофиль Готье, известный писатель и поэт, рекомендованный к приему в Приорат Сиона лично Виктором Гюго (1829), был настроен категорически против его кандидатуры и даже предпринял ряд тайных действий, намереваясь добиться его смещения. Планы Готье провалились, и он, не в силах пережить позор, оставил Париж и бежал в Алжир. Гюго же прожил необыкновенно долгую жизнь и вплоть до своей смерти в 1885 году возглавлял Приорат Сиона.
В его уникальной, богатой событиями биографии имеется, однако, период, о котором по-настоящему знают очень немногие. В 1853–1855 годах Виктор Гюго, который, как вы понимаете, уже фигурировал в качестве Великого Магистра, во всеуслышание заявил о своем несогласии с государственной политикой Франции. Вслед за тем он покинул Париж и отправился в добровольное изгнание на остров Джерси. Там достаточно ярко проявилась эзотерическая сторона его натуры. Самое же интерсное, это то, что его изыскания и опыты были непосредственно связаны с открытиями… Николя Фламеля, гениального алхимика, каббалиста XIV столетия, бывшего так же, как и сам Гюго, Великим Магистром. Будет однако же неверным сделать вывод, что этот интерес к личности Фламеля возник у Гюго только к середине 1850-х годов. Еще в 1831 году, когда от Приората Сиона его отделяла внушительная дистанция в 13 лет, он опубликовал великий роман «Собор Парижской Богоматери», и поныне считающийся бесспорным шедевром романтической школы. Мы специально подготовили для вас целый рад выдержек из этого романа, в которых фигурирует Николя Фламель. Вчитайтесь внимательно, и вы многое поймете ( пер. Н. А. Коган):
«…Парижская грязь, – размышлял он (ибо был твердо уверен, что этой канаве суждено послужить ему ложем, – а коль на ложе сна не спится, нам остается размышлять!) – парижская грязь как-то особенно зловонна. Она, по-видимому, содержит в себе очень много летучей и азотистой соли – так, по крайней мере, полагает Никола Фламель и герметики…»
…Таким образом, романское аббатство, философическая церковь, готическое искусство, искусство саксонское, тяжелые круглые столбы времен Григория VII, символика герметиков, где Никола Фламель предшествовал Лютеру, единовластие папы, раскол церкви, аббатство Сен-Жермен-де-Пре и Сен-Жак-де-ла-Бушри – все расплавилось, смешалось, слилось в Соборе Парижской Богоматери. Эта главная церковь, церковь-прародительница, является среди древних церквей Парижа чем-то вроде химеры: у нее голова одной церкви, конечности другой, торс третьей и что-то общее со всеми.
…Достоверно известно, что архидьякон нередко посещал кладбище Невинных, где покоились его родители вместе с другими жертвами чумы 1466 года; но там он как будто не так усердно преклонял колени перед крестом на их могиле, как перед странными изваяниями над возведенными рядом гробницами Никола Фламеля и Клода Пернеля.
Достоверно известно и то, что его часто видели на Ломбардской улице, где он украдкой проскальзывал в домик на углу улиц Писателей и Мариво. Этот дом выстроил Никола Фламель; там он и скончался около 1417 года. С тех пор домик пустовал и начал уже разрушаться, до такой степени герметики и искатели философского камня всех стран исскоблили его стены, вырезая на них свои имена. Соседи утверждали, что видели через отдушину, как однажды архидьякон Клод рыл, копал и пересыпал землю в двух подвалах, каменные подпоры которых были исчерчены бесчисленными стихами и иероглифами самого Никола Фламеля. Полагали, что Фламель зарыл здесь философский камень. И вот в течение двух столетий алхимики, начиная с Мажистри и кончая Миротворцем, до тех пор ворошили там землю, пока дом, столь безжалостно перерытый и чуть не вывернутый наизнанку, не рассыпался наконец прахом под их ногами.
Достоверно известно также и то, что архидьякон воспылал особенной страстью к символическому порталу Собора Богоматери, к этой странице чернокнижной премудрости, изложенной в каменных письменах и начертанной рукой епископа Парижского Гильома, который, несомненно, погубил свою душу, дерзнув приделать к этому вечному зданию, к этой божественной поэме кощунственный заголовок. Говорили, что архидьякон досконально исследовал исполинскую статую святого Христофора и загадочное изваяние, высившееся в те времена у главного портала, которое народ в насмешку называл «господином Легри». Во всяком случае, все могли видеть, как Клод Фролло, сидя на ограде паперти, подолгу рассматривал скульптурные украшения главного портала, словно изучая фигуры неразумных дев с опрокинутыми светильниками, фигуры дев мудрых с поднятыми светильниками или рассчитывая угол, под которым ворон, изваянный над левым порталом, смотрит в какую-то таинственную точку в глубине собора, где, несомненно, был запрятан философский камень, если его нет в подвале дома Никола Фламеля.
…– Это вы заблуждаетесь, – внушительным тоном ответил архидьякон.
Дедал – это цоколь; Орфей – это стены; Гермес – это здание в целом. Вы придете, когда вам будет угодно, – продолжал он, обращаясь к Туранжо, я покажу вам крупинки золота, осевшего на дне тигля Никола Фламеля, и вы сравните их с золотом Гильома Парижского. Я объясню вам тайные свойства греческого слова peristera, но прежде всего я научу вас разбирать одну за другой мраморные буквы алфавита, гранитные страницы великой книги. От портала епископа Гильома и Сен-Жан ле Рон мы отправимся к Сент-Шапель, затем к домику Никола Фламеля на улице Мариво, к его могиле на кладбище Невинных, к двум его больницам на улице Монморанси. Я научу вас разбирать иероглифы, которыми покрыты четыре массивные железные решетки портала больницы Сен-Жерве на Скобяной улице. Мы вместе постараемся разобраться в том, о чем говорят фасады церквей Сен-Ком, Сент-Женевьев-дез-Ардан, Сен-Мартен, Сен-Жак-де-ла-Бушри…
Уже давно, несмотря на весь свой ум, светившийся у него в глазах, кум Туранжо перестал понимать отца Клода. Наконец он перебил его:
– С нами крестная сила! Что же это за книга?
– А вот одна из них, – ответил архидьякон.
Распахнув окно своей кельи, он указал на громаду Собора Богоматери.
…Свобода эта заходила очень далеко. Порой символическое значение какого-нибудь фасада, портала и даже целого собора было не только чуждо, но даже враждебно религии и церкви. Гильом Парижский в XIII веке и Никола Фламель в XV оставили несколько таких исполненных соблазна страниц. Церковь Сен-Жак-де-ла-Бушри в целом являлась воплощением духа оппозиции.
…Ведь свет, заливающий мою руку, – золото! Это те же самые атомы, лишь разреженные по определенному закону; их надо только уплотнить на основании другого закона! – Но как это сделать? Одни придумали закопать солнечный луч в землю. Аверроэс – да, это был Аверроэс! – зарыл один из этих лучей под первым столбом с левой стороны в святилище Корана, в большой Колдовской мечети, но вскрыть этот тайник, чтобы увидеть, удался ли опыт, можно только через восемь тысяч лет.
«Черт возьми! – сказал себе Жеан. – Долгонько придется ему ждать своего экю».
– …Другие полагают, – продолжал задумчиво архидьякон, – что лучше взять луч Сириуса. Но добыть этот луч в чистом виде очень трудно, так как по пути с ним сливаются лучи других звезд. Фламель утверждает, что проще всего брать земной огонь. – Фламель! Какое пророческое имя! Flamma! – Да, огонь! Вот и всё.
…В церкви обычно имелась келья, предназначенная для ищущих убежища. В 1407 году Никола Фламель выстроил для них на сводах церкви Сен-Жак-де-ла-Бушри комнату, стоившую ему четыре ливра шесть солей и шестнадцать парижских денье.
Здесь всё – и изрядная мудрость, и гимн чернокнижию, и экстравагантно еретическая мораль, – одним словом, в авторе несложно распознать будущего Великого Магистра!
Но чем же, собственно, занимался Магистр Гюго на острове Джерси?
Он, безусловно, отлично знал об умении Фламеля превращать любые материалы в золото, но алхимические практики его тогда волновали не слишком сильно. Гораздо больший интерес вызывал в нем феномен столоверчения. Он принял решение провести несколько спиритических сеансов. На острове его с супругой навестила Дельфина де Жирарден, с которой они познакомились в салоне… Шарля Нодье. Не исключено, что она могла выполнять функции курьера Приората Сиона. Так вот, интерес к занятиям спиритизмом чете изгнанников привила именно она. Вместе с тем сам Гюго всегда испытывал смутные, экстатические видения сродни галлюцинациям. Для него все сверхъестественное было привычным и естественным, кроме того, он свято верил в бессмертие души. Покапризничав для виду, он очень быстро втянулся и стал завзятым спиритом. Как правило, сеансы проходили при участии нескольких лиц; чаще всего был соблазн поконтактировать с духами Шекспира, Эсхила, Данте, Платона и многих других. Гюго постепенно начал относиться к сеансам со всей серьезностью; когда духи высказывали идеи, близкие его собственным, Виктор ощущал, как заметил Андре Моруа, что «его философия теперь освящена самим Небом». Очень скоро Гюго решил общаться с духами наедине. Точнее, может быть, с одним определенным духом. Отныне его ночи приобрели особое значение. Чей дух он стремился вызвать, обяснять, нам кажется, нет нужды: естественно, Николя Фламеля! Вожделенного результата Виктор Гюго добился 26 июля 1854 года в 21.25. Дух Николя Фламеля явился к нему!!!
Воспоминание о встрече подтверждается рисунком Гюго, созданным именно в ту ночь. Более того, к рисунку приложил свою астральную длань сам Алхимик; его подпись можно увидеть в левом верхнем углу листа.

Вас наверняка обуревает любопытство: о чем же могли беседовать в ночи два Великих Магистра Приората Сиона? Если вы предположите, что о делах ордена, вы ошибетесь. Речь зашла об обитателях… Меркурия. Собственно, Меркурий – священная планета алхимиков, ртуть, или «быстрое серебро» (а в мифологии это Гермес, посланник богов), так что удивляться особо не приходится. Дух Николя Фламеля поведал Виктору Гюго (тот, как мог, пытался делать записи), что «у любого меркурианца имеются шесть солнц (глобулярных тел), присоединяющихся к туловищу; два глаза, которые всегда открыты; огромная, но легкая голова; длинное, хотя и стройное тело; он не употребляет твердую пищу, а ест лишь жидкую; он не дышит, вместо этого испуская сияние; у него имеется супруга». В течение ближайшего года Гюго были надиктованы поэмы «Конец Сатаны», «Бог» и второй том стихов «Созерцания», принеся мировую славу и преуспеяние.

Клод Дебюсси (1862–1918). Гениального, очень быстро добившегося славы и преуспеяния музыканта познакомил с Виктором Гюго великий поэт-символист Поль Верлен. Дебюсси и Гюго сближал глубокий интерес к оккультным и эзотерическим наукам. Впоследствии Клод Дебюсси переложил ряд творений Гюго на музыку. Богемная жизнь Дебюсси способствовала его широчайшему кругу знакомств, в том числе и с членами семей, непосредственно связанных с Приоратом Сиона (например, Жаком Соньером). В 23 года он был назначен Великим Магистром (предвидя свою скорую кончину, Виктор Гюго горячо ходатайствовал именно за него, считая Дебюсси наиболее достойным своим преемником). На этом священном посту Клод Дебюсси достойно трудился вплоть до смерти, на деле подтвердив присущие ему выдающиеся качества руководителя и не посрамив памяти своего великого ходатая.

Жан Кокто (1889–1963). Гениальный творец, своего рода Леонардо XX столетия, Кокто прославился еще в 15 лет своим стихотворным талантом.
Шедевр под названием «Фривольный поэт» принес ему лестное звание короля поэтов, славу и деньги. Впрочем, в деньгах он практически не имел нужды, происходя из очень состоятельной семьи. Его эпатаж – чего стоили хотя бы скандальные романы с юным актером Жаном Марэ или с Марселем Прустом, легендарным творцом эпопеи «В поисках утраченного времени», секс-символом Франции, – всю жизнь служил поводом для рождения бесчисленных слухов и легенд на его счет. Тем не менее правда о том, что он практически чуть ли не всю жизнь был Великим Магистром Приората Сиона, так и не стала достоянием гласности. Как пишут знаменитые авторы «Святой крови и святого Грааля», рассказывая о Кокто, «самое убедительное доказательство его принадлежности к Приорату Сиона находится в его творчестве: фильм „Орфей“, пьеса „Двухглавый орел“, посвященная императрице Елизавете Австрийской, члену семьи Габсбургов, или же роспись церкви Богоматери Французской в Лондоне. Наконец, вспомним его подпись под уставом Приората Сиона – весьма категоричное доказательство».
Что же это за устав, о котором упоминают в своей книге Майкл Баджент, Ричард Ли и Генри Линкольн? Мы располагаем этим уникальным документом! Он был составлен Жаном Кокто за пять лет до смерти и является своего рода завещанием Великого Магистра. Мы приводим здесь его полностью:
Ст. I. Между теми, кто подписал настоящий Устав и кто впоследствии удостоится членства и дополнит нижеследующие условия, учрежден рыцарский орден, нравы и обычаи которого восходят к ордену, основанному Годфруа VI, герцогом Бульонским, по прозванию Набожный, в Иерусалиме в 1099 г. и признанному в 1100 г.
Ст. II. Наименование ордена: «Sionis Prioratus» или «Приорат Сиона».
Ст. III. Приорат Сиона ставит своими целями упрочение традиционного рыцарского ордена, ведение просветительской деятельности и создание среди его членов взаимопомощи – как моральной, так и материальной – при любых обстоятельствах.
Ст. IV. Продолжительность функционирования Приората Сиона бесконечна.
Ст. V. Генеральный Секретарь, назначаемый Конвентом, избирает бюро представителей. Приорат Сиона – не тайное общество, все его декреты наряду с актами и назначеними обнародуются на латинском языке.
Ст. VI. Приорат Сиона включает 121 члена; в этих пределах он открыт для всех совершеннолетних граждан, разделяющих цели и принимающих обязанности, которые предусмотрены настоящим Уставом.
Ст. VII. Если один из членов Приората, вознамерившись выйти из ордена, укажет с предоставлением документа на кого-либо из своих потомков, который может явиться его преемником, Конвент обязан рассмотреть эту просьбу и, в случае необходимости, позаботиться о воспитании, указанном ниже, для несовершеннолетнего члена.
Ст. VIII. Будущий член должен приобрести на свои собственные средства белое одеяние со шнурком, необходимое для прохождения первой ступени. Начиная с приема его на первую ступень, член обретает право голоса. После приема новый член обязан принести клятву служения ордену при любых обстоятельствах, какие могут возникнуть в его жизни, а также работать во имя МИРА и благоговения перед человеческой жизнью.
Ст. IX. После приема новый член обязан сделать взнос – в любом размере. Ежегодно он должен сообщать в Генеральный Секретариат о добровольном взносе в пользу ордена, размер которого пусть определяет сам.
Ст. X. Тотчас после принятия члену необходимо предоставить метрику и образец своей подписи.
Ст. XI. Член Приората Сиона, против которого трибуналом вынесен приговор по общему праву, может быть на время лишен своих титулов и функций, а также и самого членства в ордене.
Ст. XII. Генеральная ассамблея членов ордена именуется Конвентом. Никакое решение Конвента не возымеет силы, если число присутствующих составит менее 81 человека. Голосование тайное и производится посредством использования белых и черных шаров. Любое предложение, набравшее менее 61 белого шара во время голосования, более не рассматривается.
Ст. XIII. Конвент Приората Сиона единолично и большинством в 81 голос из 121 члена выносит решения о каких-либо изменениях как в Уставе, так и в правилах внутреннего распорядка.
Ст. XIV. Любой прием в члены ордена решается Советом тринадцати розенкрейцеров. Титулы и посты жалуются Великим Магистром Приората Сиона, члены ордена принимаются на эти посты пожизненно. Их права полностью переходят к одному из их собственных, лично ими указанных, детей. Указанный ребенок волен отказаться от своих прав, но он не имеет возможности сделать это в пользу брата, сестры, родственника или другого лица. Он не может быть впоследствии восстановлен в правах в Приорате Сиона.
Ст. XV. В 27-дневный срок двум братьям ордена надлежит войти в контакт с будущим членом и принять его согласие или же отказ. Если после срока в 81 день, предоставленного на раздумье, не последует согласия, то полноправным признается отказ и место может считаться вакантным.
Ст. XVI. В силу права наследования, подтвержденного предыдущими статьями, пост и титул Великого Магистра Приората Сиона могут передаваться, в соответствии с теми же прерогативами, его преемнику. Если место вакантно и прямой наследник отсутствует, Конвент в 81-дневный срок приступает к выборам.
Ст. XVII. Конвент обязан голосовать по всем декретам, и они считаются действительными, если на них стоит печать Великого Магистра. Генеральный Секретарь назначается Конвентом на 3 года; он вправе продолжать занимать этот пост и по истечении срока полномочий. Генеральный Секретарь должен иметь степень командора, дабы выполнять свои функции. Сами же функции и посты исполняются добровольно.
Ст. XVIII. Иерархия Сионской Общины включает пять степеней:
Навигатор (количество: 1)
Крестоносец (количество: 3)
Командор (количество: 9)
Рыцарь (количество: 27)
Всадник (количество: 81)
Ковчег тринадцати розенкрейцеров Девять командорств Храма
Всего: 121 член.
Ст. XIX. Существуют 243 Свободных Брата, именуемых Набожными или (начиная с 1681 г.) прозываемых Детьми Святого Винсента, которые не принимают участия ни в голосовании, ни в Конвенте, но которым Приоратом Сиона предоставлены определенные права и привилегии – в соответствии с декретом от 17 января 1681 г.
Ст. XX. Ресурсы Приората Сиона складываются из пожертвований и взносов его членов. Резерв, иначе именуемый «достоянием Ордена», составляется Советом тринадцати розенкрейцеров; это достояние может быть использовано лишь при условии абсолютной необходимости и возникновении серьезной опасности для Приората и его членов.
Ст. XXI. Генеральный Секретарь созывает Конвент в том случае, если Совет розенкрейцеров считает это полезным.
Ст. XXII. Отрицание принадлежности к Приорату Сиона, объявленное публично или письменно, без надлежащей причины или реальной опасности для конкретного лица, влечет за собой исключение из членов, о чем специально возвестит Конвент.
Этот текст Устава в двадцати двух статьях полностью отвечает оригиналу и воспроизводится в соответствии с постановлением Конвента от 5 июня 1956 г.
Подпись Великого Магистра: Жан Кокто.
Полагаем, вы согласитесь, что приведенный нами Устав, составленный и подписанный Жаном Кокто, более красноречиво может поведать о Приорате Сиона, нежели необъятные тома комментариев…
Кокто, оставив после себя беспрецедентное творческое наследие, умер в 1963 году.
Перечень Великих Магистров, обнаруженный в «Тайных Досье» Приората Сиона, заканчивается на нем…