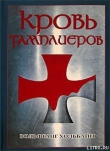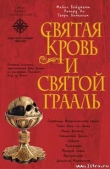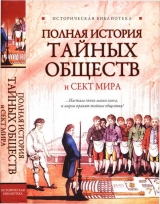
Текст книги "Полная история тайных обществ и сект мира"
Автор книги: Лин фон Паль
Соавторы: Глеб Благовещенский,Виктор Спаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 34 страниц)
Как только началась Первая мировая война, Папюс одним из первых вступил добровольцем в армейский медицинский корпус и был послан на передовую в качестве главного врача полевого лазарета. Не считаясь ни с чем, даже с собственным здоровьем, он проявлял чудеса выдержки и героизма, помогая всем раненым и недужным – французам, англичанам, немцам, австрийцам и прочим, не разделяя их на «своих» и «чужих». У многих складывалось ощущение, что этот человек сам ищет смерти…
Вспоминая по свежим следам свой нелегкий фронтовой опыт, он пишет в книге «Чем становятся наши мертвецы» («Ce que deviennent nos morts», 1914): «В окопе у Шомон-сюр-Аргонн, близ Пьерфитта, погиб молодой немецкий солдат. В момент смерти он держал у головы, на уровне глаз, свой молитвенник…
Несчастная жертва великого безумия, я приветствую тебя!.. Зная, что смерть близка, ты храбро готовил свою душу к ее физическому исходу и – о неведомый герой! – призывал Того, Кто ждет нас всех. Пусть будет благословенно твое телодвижение! И не важно, что ты был врагом моей родины и посланником тех слепцов, которые пожертвовали лучшим цветом своей страны для элементарного удовлетворения своих амбиций…
Завтра ты вернешься на землю, но будешь затоплен водами забвения… Я приветствую тебя и молюсь вместе с тобой!»
Как пишет сын Папюса Филипп, «будучи главным врачом фронтового госпиталя, он, не считаясь ни с чем, отдавал все свои силы на лечение как французских, так и немецких раненых. Переутомившись и серьезно заболев, он вернулся в Париж, где через несколько месяцев был сражен безжалостной хворью…» Этой хворью оказался туберкулез.
Точно в предсказанный им самим день, 25 октября 1916 года, в госпитале Милосердия, том самом, где Папюс некогда проходил врачебную практику, он спокойно принял смерть, запретив Матильде и близким плакать. На тот момент ему был 51 год. Перед смертью он произнес странную, с точки зрения близких, фразу, которую Матильда так и не поняла: «Филипп призывает меня»… Так завершились земная жизнь и «ученичество» Папюса у Антельма Вашо – доктора Филиппа.
Орден золотых розенкрейцеров – розенкрейцеровская организация более нового типа – возник, как полагают, в Германии во второй половине XVIII века, хотя апологеты ордена утверждают, что он был широко известен под этим же названием еще с 1510 года, не говоря уже о том, что многие из них возводят свою родословную чуть ли не к библейскому Моисею, именуя его своим «братом». Однако связь нового ордена, образованного в XVIII веке, с действительными или мнимыми розенкрейцерами XVI–XVII веков не имеет веских документальных подтверждений, поскольку самое раннее свидетельство существования золотых розенкрейцеров восходит к опубликованному в – 1710 году трактату Самуэля Рихтера (писавшего под псевдонимом Синсерус Ренатус) «Правдивое и полное описание философского камня братства ордена золотых розенкрейцеров». В трактате, как это вообще присуще манифестам розенкрейцеров, говорится, что задача философии – проникнуть в тайны природы и способствовать достижению земного счастья, и в этом смысле философия розенкрейцеров призвана раскрыть тайны божества и вечной жизни.
В это время в германских княжествах, особенно южных, активно трудилось немало алхимиков, большинство которых (как это видно из названий опубликованных ими трактатов) именовали себя «золотыми розенкрейцерами», а, начиная с 1755 года их количество в Европе, прежде всего в Германии, Австрии и Польше, резко возросло. Это был период, когда происходило сближение между розенкрейцерами и масонами, жаждавшими приобщиться к загадочной таинственности алхимических опытов. В свою очередь алхимики, видимо, заимствовали у английского масонства его организационные формы.
О реальном существовании ордена золотых розенкрейцеров как организации можно говорить, пожалуй, только начиная с 1757 года – именно в этом году, согласно документальным свидетельствам, в Праге был принят и подписан акт об основании ордена, а в 1761 году там же вышел в свет трактат, где описывались его устав и ритуалы.
Согласно трактату, во главе ордена стояли «император» и «вице-император», чьи полномочия были не совсем ясны. Члены ордена делились на семь классов. Как утверждалось, орден насчитывал 77 «магов», 2700 «верховных философов первого ранга», 3900 «высших философов второго ранга», 3000 «младших магов», 1000 «адептов», 1000 молодых членов ордена, не выполнявших самостоятельной работы, и, наконец, неизвестное число недавно принятых новичков. С 1775 года управление ордена переместилось в Вену, а для Северной Германии центром союза стал Берлин.
Золотые розенкрейцеры активно участвовали в развитии тамплиерской легенды, в умножении количества степеней в масонских ложах, вербовали братьев в свои ряды и в 1777 году объявили себя высшей степенью масонского ордена.
1770-е годы были временем быстрого роста численности и влияния ордена. По некоторым сведениям, в эти годы орден насчитывал свыше 5800 членов, поделенных на 9 степеней. Это были врачи, теологи, ученые, офицеры, представители дворянства и верхов буржуазии. 8 августа 1781 года в орден вступил под именем Ормезуса наследник прусского престола, через несколько лет ставший королем Фридрихом Вильгельмом II (годы правления: 1788–1797). Многие историки полагают, что членами ордена золотых розенкрейцеров были также Гёте и Моцарт; для доказательства этого специалисты ссылаются на их произведения. Прежде всего, это гётевские «Годы учения Вильгельма Мейстера», где герой неожиданно обнаруживает, что его уже давно ведет по жизненному пути некое тайное общество, раскрывающее ему в часовне старого замка свои тайны, а также опера Моцарта «Волшебная флейта», в которой якобы представлены в символической форме таинства и обряды посвящения розенкрейцеров.
Однако во второй половине 1780-х годов появились первые симптомы упадка ордена. Многие были разочарованы неосуществлением надежд на приобщение к «божественной мудрости». Представления розенкрейцеров об их прошлом, их притязания на сверхъестественные знания стали объектом резкой критики, в том числе и в рядах самого ордена. После смерти Фридриха Вильгельма II орден розенкрейцеров начал быстро клониться к закату, и, как это ни парадоксально, конечный этап истории этой организации остается таким же неясным, как и время его возникновения.
Несомненно, однако, что если не орден, то общество с таким же названием существовало на протяжении всего XIX и в начале XX века, поскольку возникшая в начале 1940-х годов так называемая Международная школа золотого розенкрейца, безусловно, явилась прямым продолжением ордена и попыткой внести оживление в его деятельность в условиях нового времени.
Основатели школы, голландцы Ян ван Рэйкенборг и Катароза де Петри привнесли в классическое учение розенкрейцеров идею о существовании двух природных порядков или двух противостоящих друг другу миров, или вселенных, – вселенной, которая развивается в полном соответствии с божественными принципами, и «павшей» вселенной, которая изменила Божественным принципам ради собственных и продолжает свое развитие по порочному плану. Обе вселенные, или природы, существуют параллельно. Их основное отличие в том, что если Божественная вселенная может проявляться своими собственными силами, то «павшая» вселенная для своего существования нуждается в получении творческой энергии от другой вселенной.
Каждая вселенная имеет свои законы, каждая создает свои творения и каждая идет своим путем: Божественная существует как постоянно расширяющийся мир, который следует закону Божественной любви, принимая все формы жизни, тогда как другая признает только эгоистическую любовь и старается всем овладеть.
В силу этого и само человечество находится в постоянном конфликте: его центростремительный аспект или принцип стремится все оставлять для себя, в то время как принцип расширения распространяет свою любовь на всех, кто в ней нуждается. Иными словами, один аспект ведет к смерти, другой – к Вечной Жизни.
Выход из этого конфликта, по мысли основателей (особенно Яна ван Рэйкенборга, фундаментальные труды которого – «Египетский первичный Гнозис» и «Даодэцзин. Китайский Гнозис» – являются основными учебниками школы), лежит в осознанном стремлении человека к спасению, в его святом желании, которое суть первое трепетное мерцание света и жизни в Розе. Человек, подобно рыцарю Персифалю, способен, если захочет, отдать этому огоньку первенство, причем не только в себе самих, но и в других тоже. Об этом основатели Международной школы золотого розенкрейца пишут так:
«Это состояние бытия лучше всего уподобить любви. Если вы когда-нибудь действительно любили кого-то или были кем-то любимы, вы знаете, что любовь может овладеть всем сердцем целиком и возвысить его. От этого возникает эманация, которая излучается из сердца и устанавливает связующее звено. Благодаря подобной любви сердце посвящает себя духовной Розе, живущей в нем, живущей в сердечном центре вашего существа. И тогда, поскольку Роза столь близка вам и столь долго ждала вас, между вами возникнет мощная связь. При этом закладывается фундамент для возрождения души. Именно поэтому Библия говорит, что одна лишь любовь может сделать вас свободными».
Школа – одно из самых мощных и влиятельных течений в современном розенкрейцерстве. Ее филиалы расположены во многих странах Европы, включая и Россию (Москва и Санкт-Петербург), она поддерживает тесную связь с O.T.O. в его современном варианте и проводит активную просветительскую работу по распространению универсального знания, или всеобщей религии (Святой Премудрости), во многих регионах мира.
Резюмируя сказанное и касаясь подлинных исторических корней современного розенкрейцерства, следует признать, что о них на сегодняшний день нельзя сказать ничего определенного, ибо генеалогия розенкрейцеров настолько темна и запутанна, что вряд ли кому из современных исследователей удастся распутать этот противоречивый клубок мифов и домыслов. Это тем более трудно осуществимо, что все ныне существующие группы, члены которых утверждают, что они-де имеют прямую связь с настоящими розенкрейцерами и владеют их тайнами, опираются на самые различные и порой малодостоверные источники. Большинство подобных групп представлено лишь несколькими начинающими оккультистами, принявшими название знаменитого братства только для того, чтобы произвести впечатление на людей несведущих и набить себе цену, намекая, что они, мол, единственные, кто владеет тайным знанием многовековой мудрости предков.
МасоныК сожалению, сведения о масонах, масонстве, задачах и целях этой организации крайне скудны и искажены до неузнаваемости. Что только не приходится слышать о масонах и как только их не называют – от уничижительного: «Переростки, играющие в таинственные игры с Богом» до восхищенного: «Хранители эзотерических и оккультных знаний прошлых времен». Надо сказать, что оба эти высказывания не лишены доли истины, хотя основная идея, лежащая в основе этого движения, не имеет с ними ничего общего. Основная цель этого братства – совершенствование мира путем индивидуального развития каждого из его членов, его личности и идеалов, каковой процесс происходит в специальных масонских ложах путем усердного изучения и штудирования соответствующей литературы. Это весьма будничный процесс, в котором нет ничего мистического, а тот факт, что масонство всегда было окружено покровом мистики и тайны, объясняется, скорее всего, теми многочисленными тайными обрядами и ритуалами, которые практикуют члены масонских лож. Правда, сведения о смысле и содержании этих ритуалов держатся в глубокой тайне, и за их разглашение член ложи подлежит позорному изгнанию, в силу чего, вероятно, об этих ритуалах ходят самые немыслимые и ужасные слухи, которые невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. А поскольку сами масоны невозмутимо хранят молчание, то человеческая фантазия поистине не знает границ и изобретает по поводу масонов все новые и самые невероятные мифы.
Слово «масон» происходит от английского mason– «каменщик», «каменотес», и в таком виде оно было заимствовано другими европейскими языками, однако уже после того, как потеряло в Англии свой первоначальный смысл. Правда, до недавнего времени, а если быть точным, до последней четверти прошлого века, в ходу было два термина – «франкмасон» («свободный каменщик», от англ. frank mason) и просто «масон». Разница между ними в том, что если первым термином обозначали обычных каменщиков-рабочих (operating masons, как их называли в Англии), то вторым – каменщиков-мыслителей (speculating masons), которые были связаны с ремесленным цехом каменщиков чисто номинально. В последних чаще всего видели или «рыцарей-храмовников» (т. е. тамплиеров), скрывавшихся под маской франкмасонов после разгрома их ордена Филиппом Красивым, или группу ученых и философов, вступивших в масонский цех, чтобы скрыть свои гуманитарно-филантропические цели от враждебно настроенного к ним правительства.
Действительно, изначально братство масонов представляло собой «гильдию свободных каменщиков», а сама история масонства восходит к XIV–XV векам, когда обычные каменщики и подрядчики, торгующие камнем, подобно другим собратьям-ремесленникам, решили создать свою организацию – так называемую гильдию, которая выступала бы, как сказали бы мы сегодня, в роли профсоюза, защищая интересы людей этой профессии. В этой гильдии, как и в любых других профессиональных цехах, объединявших собратьев по ремеслу, тоже существовала своя классификация или свои разряды, то есть каменщики делились на учеников, подмастерьев и мастеров. Такое положение дел существовало до конца XVII века, когда гильдии каменщиков начали принимать в свои ряды людей со стороны, людей, которые по своей профессиональной принадлежности не являлись каменщиками, но которые, с точки зрения руководства, могли быть весьма полезными для гильдии. Нам не известно, ставили ли эти «ложи» перед собой какую-либо цель, но поскольку все встречи каменщиков всегда происходили в тавернах или трактирах, то можно предположить, что большинство новых членов вступало в гильдию из чувства товарищества и солидарности, столь свойственных «своей компании», проводящей досуг за кружкой эля.
Самые старые из дошедших до нас документов, рисующие положение английских строительных рабочих, относятся к середине XIV – началу XV века. Это уставы артели, работавшей при церкви святого Петра в Йорке, составленные руководившим ее работами церковным капитулом. Из уставов видно, что работы артели производились в крытом помещении, так называемой ложе (lodge), заодно служившей для холостых рабочих и спальней; за порядком работы и поведением каменщиков следили старший мастер и надзиратели, высший же надзор оставался в руках представителя капитула – супервизора; вступая в артель, рабочие «приносили присягу над книгой» (очевидно, уставом), обязуясь подчиняться во всем капитулу и соблюдать принятый им устав. В XV веке ложей называли уже не только мастерскую артели, но и саму артель.
Масонские ложи – братства – выделились из цехов (crafts) в качестве особого организма не сразу, а постепенно, с течением времени. Еще во второй половине XV века оба типа организации, судя по всему, ничем друг от друга не отличались (например, лондонский цех масонов так и назывался в документах того времени – «Святой цех и братство масонов»), и только позднее между ними стало проявляться качественное отличие. Так, если цехи занимались чисто ремесленными делами, то братство, как более сплоченная и дружная часть цеха, было хранителем моральных традиций цеха, духа общения и взаимопомощи. С другой стороны, члены братства могли уже и не быть членами цеха, а члены цеха необязательно являлись членами братства; в него мог вступить любой желающий, сделавший вступительный взнос и принесший в ложе присягу верности. После этого он получал звание «каменщика» (франкмасона), хотя, возможно, прежде ни разу в жизни не брал в руки кирку или заступ.
Самый же старый документ, описывающий процедуру принятия в масонскую ложу постороннего цеху лица, датирован 3 июня 1600 года и относится к Эдинбургской ложе. Как значится в протоколе, на собрании в качестве почетного гостя присутствовал сэр Джон Босуэл, лорд Очинлекский. Присутствие знати на собраниях шотландских каменщиков в ту пору было уже вполне заурядным фактом: имена виконтов, графов и сэров, принятых в ту или иную ложу – как правило, в звании цехового мастера, – встречаются в документах XVII века сплошь и рядом. Правда, еще в конце столетия встречались ложи, состоящие из одних ремесленников (например, ложа в Глазго), но параллельно с ними существовали ложи вроде абердинской, где в 1670 году из 49 членов всего 12 были профессиональными каменщиками, а остальные – это дворяне, пасторы, коммерсанты и представители гуманитарных профессий. Кроме знати, к каменщикам нередко примыкали представители интеллигенции и ученого мира, привлекаемые таинственной историей масонства и тайными знаниями, которыми те якобы владели, что в значительной мере разжигало их научную любознательность.
Согласно дошедшим до нас сведениям, для приема в общество новых членов требовалось присутствие, по крайней мере, 5 или 6 франкмасонов. «Эти собрания, – пишет английский исследователь масонства сэр Плот, – называются в некоторых местах ложами», а вступительные обряды состоят в сообщении тайных знаков, «посредством которых члены общества узнают друг друга, где бы они ни находились», и сопровождаются банкетами по установленному ритуалу. Вновь вступившие в братство члены по традиции дарили в день приема «братьям» перчатки, а взаимные обязанности членов заключались в помощи на случай старости, безработицы и болезни.
Описанные общества франкмасонов, всецело пропитанные духом старых ремесленных братств, в идейном отношении мало соприкасаются с позднейшим масонством, которое в значительной мере питалось философскими идеями социально-реформаторских движений XVII века, возглавляемых тайными и полутайными кружками ученых и утопистов, которые были столь типичны для той эпохи.
Началом исторического периода масонства следует считать 20-е годы XVIII столетия – эпоху возникновения так называемых «великих лож». Самый же значительный шаг в создании организованного масонства был сделан 24 июня 1717 года (в день Ивана Купала), когда четыре гильдии каменщиков на очередной сходке в лондонском трактире «Гусь на вертеле» объединились и создали «самую большую в мире ложу». Первым главой этой объединенной гильдии был избран некто Энтони Сэйер, который через год передал свои полномочия вновь избранному, так как каждый год на эту должность выбирался новый глава. В 1721–1722 годах на эту должность был выбран Джон, герцог Монтегью, и уже одно это имя привлекло в ряды «свободных каменщиков» огромное количество новых членов. После того как герцог был утвержден в этой должности, бывший глава гильдии Дж. Пейн представил на обсуждение руководства документ с регламентом и структурой организации свободных каменщиков, однако документ так и не успели утвердить, а год спустя энергичный священник Джейкоб Андерсон, тоже входивший на правах члена в гильдию каменщиков, представил новый документ, который он составил на основании старого, основательно его переработав и дополнив, и, по сути дела, именно этот документ и стал «первой конституцией» ложи.
Через год этот документ был опубликован в «Новой книге масонских конституций» (1723), принадлежавшей перу того же Андерсона, где тот в таких словах описывает основание «Великой лондонской ложи»: «После торжественного въезда в Лондон короля Георга I и усмирения в 1716 году восстания (якобитское восстание 1715 года, осуществленное сторонниками династии Стюартов) несколько лондонских лож решили сплотиться вокруг одного Великого мастера (гроссмейстера) как центра единения и гармонии. Это были ложа „Гусь на вертеле“, ложа „Короны“, ложа „Яблони“ и ложа „Виноградной кисти“ (названия таверн, в которых они собирались)… Было решено устраивать ежегодные собрания всех четырех лож и каждые три месяца – собрания Великой ложи, то есть всех должностных лиц каждой ложи во главе с великим мастером и великими надзирателями…»
Упомянутый документ интересен тем, что в нем, в частности, утверждалось, будто масонство процветало еще в библейские времена, а кроме того, перечислялись обязанности масонов и устав ложи, который частично основывался на старых правилах приема в члены.
Самой же важной и интересной частью книги является глава об «Обязанностях франкмасона», отражавшая современную культурную и политическую физиономию английского масонства. «Масон по самому положению своему, – гласит 1-й пункт „Обязанностей“, – подчиняется законам морали и не может быть ни бессмысленным атеистом, ни лишенным нравственности нечестивцем. В старые времена масоны поневоле держались в каждой стране ее местной религии, какова бы она ни была, но в наше время человек свободно выбирает себе веру, и лишь одна религия действительно обязательна для всех – та всеобщая, объединяющая всех людей религия, которая состоит в обязанности каждого из нас быть добрым и верным долгу, быть человеком чести и совести, каким бы именем ни называлось наше вероисповедание и какие бы религиозные догматы ни отличали нас от других людей. Верность этим началам превратит масонство в объединяющий центр, поможет ему связать узами искренней дружбы людей, доселе бывших друг другу чужими».
Тем же настроением проникнуты и параграфы о гражданских обязанностях масонов: «Масон является мирным подданным гражданской власти, где бы ни приходилось ему жить и работать. Он не примет участия ни в каких замыслах против мира и блага народа» (2-й пункт). В ложах запрещались всякие религиозные, национальные и политические споры: «Как масоны мы принадлежим лишь к упомянутой выше всеобщей религии и, заключая в своей среде людей всех языков, племен и наречий, объявляем себя врагами всякой политической распри» (6-й пункт). Под «всеми племенами» подразумевались, видимо, нации и народности, входившие в состав Британской империи, так как какой-то иной смысл это выражение в то время вряд ли могло иметь…
Что касается основных принципов масонства, то они излагались кратко и ясно в форме простого диалога:
« Вопрос. Сколько существует правил, имеющих отношение к франкмасонству?
Ответ. Три: братство, верность и молчание.
Вопрос. Что означают они?
Ответ. Братскую любовь, помощь и верность в среде всех истинных масонов, ибо предписания эти даны были всем масонам при постройке Вавилонской башни и Иерусалимского храма…»
Неудивительно, что на вновь созданную масонскую организацию сразу же обратили внимание члены королевского дома: она, вероятно, интересовала их и с археологической, и с социальной точек зрения. Первым примкнул к масонству Теофиль Дезагюльэ, доктор права и придворный принца Уэльского, выбранный в 1719 году третьим по счету гроссмейстером Великой ложи. В 1721 году его примеру последовал доктор Стэкли, соблазненный, по его собственному признанию, надеждой открыть в масонстве пережитки античных мистерий. Все это говорит о том, что, с одной стороны, масонов уже в то время рассматривали как носителей великих тайн, своего рода новую разновидность «розенкрейцерских братьев», а с другой стороны, подозревали в них безбожников и политически опасных людей, за которыми нужен закамуфлированный надзор.
Как бы то ни было, но именно в это время в масонские общества начали активно вступать представители высшей знати: Дезагюльэ и его преемник Дж. Пейн были последними нетитулованными гроссмейстерами Великой ложи, за которыми последовали, на правах официальных Великих магистров, такие столпы английского общества, как герцог Монтэгью, герцог Уортен, граф Долькес и другие герцоги, графы и лорды. Начиная с 1724 года в составе «великих надзирателей» уже не встречается лиц, носящих звание ниже сквайра (сельского дворянина и землевладельца).
Как видим, английское масонство, как и французское, тоже было «масонством прозелитов», включавшим представителей аристократических родов и членов королевской семьи. Но, в отличие от Франции, английские «наследники тамплиеров» не выступали против правящей династии, так как в Англии не было тех сословных и религиозных предрассудков, которые препятствовали бы носителям денежных капиталов участвовать в управлении страной. Единственным исключением был орден гормоголов(якобы основанный китайским императором и занесенный в Англию китайским мандарином), состоявший исключительно из приверженцев свергнутой династии Стюартов. Во главе его стоял герцог Уортен, известный в обществе повеса, ловелас, игрок и развратник. В целом же английское масонство не ставило перед собой каких-то политических задач и, как пишет один очевидец, больше предавалось «ритуальным» пьяным оргиям.
Так или иначе, но масонское движение быстро набирало обороты. По выражению уже упоминавшегося нами Андерсона, «свободнорожденные британские нации, вкушая после внешних и внутренних войн сладкие плоды мира и свободы, проявили счастливую склонность к масонству во всех видах, и запустевшие было лондонские ложи наполнились новой жизнью».
Из Англии масонство быстро перекинулось в другие страны и распространилось по всей Европе, во многом благодаря тому, что члены английской ложи часто посещали другие страны, так сказать, для обмена опытом и с каждым наездом создавали там все новые и новые организации. В силу этого волна масонства накрыла Европу со скоростью снежной лавины. Так, в 1728 году появилась масонская ложа (по английскому образцу) в Мадриде, в 1729 году – в Гибралтаре, в 1732-м – в Париже, далее – в Гамбурге, Лиссабоне, Лозанне и других городах. К 1749 году общее число примыкавших к Великой ложе заграничных филиалов уже достигло 13. Были образованы английские ложи и вне Европы (в азиатских и американских колониях): в Филадельфии (1730), на о. Ямайка (1742), в Канаде (1760), в Индии (1762) и т. д. По примеру англичан к ложам стали примыкать местные англоманы, а за ними и представители местной знати, плененные идеей масонства.


![Книга Священная загадка [=Святая Кровь и Святой Грааль] автора Майкл Бейджент](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-svyaschennaya-zagadka-svyataya-krov-i-svyatoy-graal-222749.jpg)