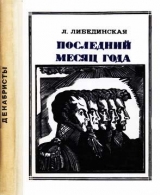
Текст книги "Последний месяц года"
Автор книги: Лидия Либединская
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Но Шервуд твердо стоял на своем: кроме как государю императору объяснить дело не может, потому что касается оно лично царя.
– Ну, в таком случае я тебя и спрашивать не буду, поезжай с богом! – мягко проговорил Аракчеев.
И эта мягкость показалась Шервуду страшнее гнева. Он не выдержал и крикнул:
– Ваше сиятельство! Дело в заговоре против императора!
В тот же вечер фельдъегерь мчал Шервуда в Петербург.
* * *
На другой день, в пять часов пополудни Шервуда привезли во дворец на Каменный остров к императору Александру I.
Государь изволили кушать, и Шервуду пришлось ждать. Наконец Александр вошел в комнату, где ожидал Шервуд, и жестом приказал ему следовать за собой. Они вошли в кабинет.
– Ты мне писал? Что ты хочешь сказать? – спросил царь негромким потухшим голосом. Глаза у него были светлые, выцветшие, тоже потухшие.
– Ваше величество! Я полагаю, что против спокойствия России и вашего величества существует заговор…
Шервуд с пунктуальной точностью передал свой разговор с Вадковским, рассказал о подозрениях, что вызывали в его верноподданническом сердце сборища в Каменке.
Царь слушал молча, не говоря ни слова, потом спросил устало и словно нехотя, вяло пошевелив белыми пухлыми пальцами:
– Что же эти… хотят? Разве им так худо?
– С жиру, ваше величество, собаки бесятся…
Александр брезгливо поморщился.
– Как ты думаешь открыть заговор?
Шервуд снова начал говорить подробно и долго.
Царь слушал, положив голову на белую пухлую руку с толстым обручальным кольцом.
– Не лучше ли будет для открытия заговора, если я прикажу произвести тебя в офицеры? – перебил он Шервуда.
От восторга у Шервуда все запело внутри. Воображение уже рисовало ему славу и почести. Но он ответил спокойно:
– Ни в коем случае, мой государь! Это может все дело испортить. А когда богу будет угодно помочь мне открыть зло, тогда можете произвести меня во что вам будет угодно!
Царь посмотрел на него с любопытством. Потом милостиво протянул Шервуду свою выхоленную мягкую руку. Шервуд почтительно припал к ней губами.
– А теперь, Шервуд, поезжай! Напиши мне скорее, как думаешь приступить к делу, и жди от меня приказаний!
Глава шестая
Рылеев и Каховский

Если бы Рылеева спросили, кто впервые привел к нему Петра Григорьевича Каховского, он затруднился бы ответить. На его русских завтраках бывало так много людей, что порою Рылеев сам не мог поймать нить завязавшегося знакомства.
Русские завтраки Рылеева славились на весь Петербург.
– Мы должны избегать чужестранного, дабы ни малейшее к чужому пристрастие не потемняло святого чувства любви к отечеству. Не римский Брут, а Вадим Новгородский да будет нам образцом гражданской доблести, – любил повторять Рылеев.
В те дни, когда у него собирались друзья и знакомые, Петр стелил на стол простую камчатную скатерть, подавал деревянные ложки, солонки с петушиными гребешками. Кушанья и напитки тоже были простые, исконно русские – ржаной хлеб, квашеная капуста, кулебяка, квас, водка.
«Человек без имени и состояния», – пренебрежительно говорили о Каховском. Но тот костлявый, сутуловатый молодой человек сразу привлек внимание Рылеева. Он с интересом разглядывал своего нового знакомца. Лицо землистого цвета, волосы небрежно подстрижены, одежда потертая. Ходили по Петербургу слухи, что он безнадежно влюблен в Софью Михайловну Салтыкову, что девушка поначалу была к нему благосклонна, но родители ее наотрез отказали нищему и безродному жениху. Каховский был мрачен, держался особняком. Рылеев подошел к нему, ласково заговорил, спросил, давно ли в Петербурге. К удивлению, Каховский отвечал охотно, словно был благодарен за оказанное внимание.
– В Петербурге недавно! Служил в армии, вышел в отставку. С командиром поссорился. За солдата заступился, а это, сами знаете, у нас не положено…
Рылеев искренне посочувствовал, и сочувствие его так тронуло Петра Григорьевича, что он неожиданно для самого себя разоткровенничался и рассказал Рылееву о своей незадачливой любви. Видно, накипела в душе боль и достаточно было доброго слова, чтобы выплеснулась наружу.
Через несколько дней они уже перешли на «ты».
– Знаешь, Рылеев, – говорил Каховский, – как радостно мне твое участие! После всех бед, что разом обрушились на меня, я голову потерял… И вдруг ты… Я собираюсь в Грецию, сражаться за свободу и независимость греческого народа. Мой мятежный дух им сродни. Хоть бы скорее уехать… Да вот сижу без копейки!
– Ну полно, полно, – мягко сказал Рылеев. – О деньгах не тревожься. Сколько тебе надо? Я дам…
Яркая краска залила худое, измученное лицо Каховского, глаза повлажнели.
– Я видел к себе в жизни так мало внимания, – виновато и растерянно сказал он. – А ты пожалел меня, Рылеев, и тем победил. Я твой друг навсегда!
Рылеев смутился и, чтобы перевести разговор, спросил:
– Зачем тебе ехать в Грецию, когда в России есть дела более высокие?
Каховский с недоумением взглянул на него.
– Или ты не испытал на себе произвола властей? – продолжал Рылеев. – Или не считаешь, что назревают в России события великие? И не наша ли обязанность помочь родине сбросить старые одежды?
– Я проехал всю Россию, я знаю свое отечество, – взволнованно ответил Каховский. – Повсюду слышал ропот на правительство. Но куда прибегнуть, где искать защиты тем, кто не имеет никаких способов защитить себя, если законы не ограждают слабых от произвола сильного? Я знаю, нужно свергнуть правительство, истребить царей! Я давно думаю об этом. Но для свержения правительства нужны люди. Где взять людей?
– Они есть, – спокойно ответил Рылеев. – Существует общество. Сегодня я больше ничего не вправе сказать тебе…
* * *
Ночью, вернувшись в свою нищенскую комнатенку, Каховский до утра не сомкнул глаз, ворочаясь на жесткой постели.
Неужели найдена цель? Неужели судьба свела его с людьми, что станут ему друзьями, братьями? Братьями в едином и великом деле. Выходит, не напрасна его жизнь, не зря терпел он страдания и муки?
Он вспоминал бедное детство в родительском доме. Отец и мать сызмальства приучали детей к мысли, что им самим придется пробивать путь в жизни – ни капитала, ни высоких связей у Каховских не было.
Когда Петр подрос немного, его отдали в Московский университетский пансион. Всегда задумчивый, погруженный в книги, он ни с кем не дружил. Товарищи дразнили его мечтателем, дергали за курточку, пачкали мелом, кидали в него учебниками. Он ничего не отвечал, только прикрывался рукой, чтобы не прерывать чтения. Любимыми его были книги о героях древности. История Брута, решившегося ради свободы родины убить Юлия Цезаря и восстановить республиканский строй Древнего Рима, казалась ему прекраснее всех легенд и сказок. Не знал он тогда, что пройдет каких-нибудь десять лет и товарищи назовут его новым Брутом.
Задремал он, когда уже светало, и увидел во сне Софи. Первый рая за время разлуки она приснилась ему. Сон был точный, реальный. Казалось, он вернул Каховского к счастливым дням, единственным счастливым дням его жизни.
…Августовский день был ярким и знойным. Они отправились с Софи на верховую прогулку. Наконец-то им удалось остаться вдвоем. Придорожные ветви касались лица и плеч. Сначала они оживленно говорили о литературе, о поэзии. Каховский читал стихи Пушкина, Державина, Жуковского. Потом умолкли и ехали некоторое время молча. Лошади шли ровно, рядом. Вдруг Петр Григорьевич, чуть подавшись вперед всем своим худым телом, прошептал:
– Софья Михайловна! Все эти дни я живу между страхом и надеждой. Не мучьте меня. Я люблю вас! Может, это дерзость… Я не богат, не знатен. Скажите, любим ли я?
– Если бы вы не заметили моих чувств, вы не решились бы сказать то, что сказали… – опустив глаза и покраснев, еле слышно ответила Софи.
…И сейчас, во сне, сердце его так гулко и часто забилось, что он проснулся. Долго лежал не открывая глаз, боясь спугнуть воспоминания.
Скупое петербургское солнце заглядывало в плохо промытые, незанавешенные окна. Сон медленно сменялся явью. Он отчетливо припомнил вчерашний разговор с Рылеевым и подумал, что надо сейчас же пойти к нему и все подробно узнать об обществе. Он связывает себя с людьми на всю жизнь, нельзя быть неосмотрительным.
Каховский поднялся, все еще находясь под впечатлением сна. Казалось – это добрый знак, что именно сегодня, когда предстоит сделать решительный шаг, ему приснилась Софи…
В комнате было неприбрано, пыльно, вещи разбросаны. За квартиру не плачено, того гляди появится хозяйка, станет скандалить и требовать денег.
При одной мысли об оскорблениях, которые неминуемо должны обрушиться на его голову, он стал торопливо одеваться. Хотелось скорее уйти из этого мрачного, жалкого жилища. Ведь теперь Петр Григорьевич знал, что существует иной мир – мир борьбы и правды, где его ждут друзья.
Не выпив даже стакана чая, Каховский ушел из дома.
* * *
У Рылеева было много гостей, и Каховский, пережидая, пока все разойдутся, засиделся допоздна. Рылеев с недоумением поглядывал на него: не пора ли и тебе, мол, домой?
Наконец они остались одни, и Каховский сразу, без всяких предисловий, приступил к разговору:
– Какова цель вашего общества?
– Я уже говорил тебе, – удивленно ответил Рылеев. – Водворение правления народного.
– Каковы силы и средства общества? – требовательно спросил Каховский.
– Этого я не могу сказать! – категорически отрезал Рылеев.
Некоторое время они сидели молча. Молчание становилось все напряженнее, и, чтобы разрушить его, Рылеев сказал:
– Главная наша задача – возбуждать ненависть к правительству и стремление в свободе. Поручаю тебе усилить состав общества надежными людьми. Старайся привлекать офицеров гвардии. Но будь осторожен… Хочешь, я дам тебе возмутительные стихи для распространения?
– Не надо! – резко ответил Каховский. – Их и так все знают! Песни прекрасные, – вдруг, переменив тон, миролюбиво сказал он, но тут же добавил: – Однако ты не сказал мне ничего нового. Ты не принял меня, а только соединил с обществом. Ну что ж, видно, так надо!
Каховский согласился исполнять поручения Рылеева. Распространял идеи общества, вербовал новых членов. Среди них были поручики лейб-гвардии гренадерского полка. Особенно понравились Рылееву исполнительный, сдержанный Сутгоф и Панов, славившийся в полку своей непримиримостью к несправедливости.
Теперь Каховский бывал у Рылеева почти ежедневно. Он перезнакомился со многими членами общества. Петр Григорьевич был счастлив – наконец-то кончилось одиночество и он попал в круг истинных друзей…
Однако вскоре на него опять стали находить сомнения. Умный и наблюдательный, он не мог не почувствовать, что с самого начала занял в обществе обособленное положение. Члены его в большинстве своем были люди светские, богатые, блестящие офицеры. Нередко они приезжали на заседания общества прямо с придворных балов. Он же единственный был без имени, без состояния. Не раз замечал он, что его потрепанная одежда вызывала недоумение и брезгливые взгляды. Резкость и прямота суждений коробила. Каховский чувствовал, что откровенны с ним не до конца.
Он страдал, молчал, сдерживался на людях, а придя домой, бросался на свою смятую постель и, кусая губы и глотая соленые слезы, проводил ночи без сна.
Рылеев предназначал ему важную роль в будущем восстании. Именно он, Каховский, должен убить императора.
Каховский был горд, что ему выпадет честь избавить русский народ от тирана. Но он не может, не хочет быть просто орудием в руках этих людей, поглядывающих на него высокомерно и по-барски пренебрежительно.
А может, ему не доверяют?
Правда, однажды Александр Бестужев, когда Каховский стал расспрашивать его, кто еще является членом общества, ответил коротко:
– Скажу тебе честно, не знаю!
Петр Григорьевич немного успокоился. Но через некоторое время сомнения вспыхнули с новой силой. Он опять стал замкнутым, молчаливым, на всех поглядывал подозрительно и стал все реже и реже встречаться с Рылеевым.
А тут еще денежные трудности одолевали. Платье вконец износилось, а заказать было не на что. С квартиры гнали за неуплату. Он стал подумывать о том, чтобы уехать из Петербурга.
Но не в характере Каховского было долго молчать и таиться. Он решил открыто объясниться с Рылеевым.

Вскоре случай такой представился. Они встретились на одном из литературных завтраков.
Увидев Каховского, Рылеев приветливо пошел к нему навстречу и, крепко пожимая руку, быстро заговорил:
– Вот приятная встреча! Я так давно не видел тебя, Петр Григорьевич, а у меня к тебе дело…
– Я собираюсь домой, в Смоленск уехать, – мрачно сказал Каховский.
– Тебе лучше остаться в Петербурге.
– Скажу откровенно, Рылеев, не могу я тут жить: денег нет.
– Зачем ты раньше не сказал? Возьми у меня!
Каховский отпрянул, но Рылеев крепко держал его за руку.
– Пойдем ко мне обедать, там обо всем поговорим, – ласково сказал он.
За обедом были гости, и снова только поздним вечером им удалось остаться вдвоем.
– Пойми, ты необходим в Петербурге, – решительно заговорил Рылеев, возобновляя прерванный утром разговор. – Общество скоро начнет действие…
– Когда же? – недоверчиво спросил Каховский.
Рылеев взглянул на образ, висевший в углу, и сказал торжественно:
– Клянусь, что непременно в 1826 году! Членов общества уже достаточно. Остается готовить солдат.
– Но как я буду жить? На твои подачки?
– Оставь, пожалуйста! Возьми себе службу. Кстати, не хочешь ли заказать новое платье? Я поручусь моему портному, он сошьет в кредит…
Каховский промолчал.
– Если мое присутствие необходимо, я останусь в Петербурге ждать восстания, – наконец негромко ответил он.
Но Рылееву показалось, что решимость Каховского ослабела, и, чтобы расшевелить его, рассказал, что недавно был принят в общество Якубович.
– Якубович намерен убить царя, – горячо говорил Рылеев. – Да как эффектно! Он хочет выехать на парад в черной черкеске, на черном коне…
– Ничего, брат Рылеев, нет здесь хорошего! Поступок Якубовича – это месть оскорбленного безумца. Он был разжалован и сослан на Кавказ, теперь вернулся и кипит ненавистью к царю. А по-моему, умерщвление тирана – это акт высшей нравственности.
– Крайней необходимости, – возразил Рылеев.
В открытое окно тянуло ночной свежестью, пламя свечи мерно колебалось. Разговор вошел в спокойное русло, былая приязнь связывала друзей, Рылеев подумал было, что размолвка наконец забыта.
Но вот Каховский опять стал задавать вопросы. Рылеев рассердился.
– Ты рядовой член общества, – сердито сказал он. – И от меня немногое зависит… Все, что я считал вправе сказать, я тебе сказал…
Каховский исподлобья мрачно смотрел на Рылеева, и его верхняя губа дрогнула.
– Как ты думаешь? – спросил он громко. – Если человек решает пожертвовать жизнью, должен он знать, для чего он ею жертвует? Ради идеи либо ради тщеславия других?
Петр Григорьевич сидел в кресле, сгорбленный, жалкий, обиженный и, вздыхая, повторял:
– Ты хочешь сделать меня орудием в руках своих… А я не желаю быть ступенькой для умников! – он вскочил и, волнуясь, зашагал по кабинету. – Я готов жертвовать собой отечеству, работать для общего блага. Но я хочу знать всех членов тайного общества, хочу выяснить ряд вопросов. Иначе я выхожу из общества!
Рылеев не сдержался и сухо ответил:
– Ну и уходи!
И он ушел.
Глава седьмая
Предательство

Из Петербурга Шервуд отправился прямо в штаб своего полка. Однополчане не чаяли, что Шервуд вернется, думали, доживать ему век в каменном мешке, – шутка ли, человека увезли с фельдъегерем по высочайшему повелению! Но Шервуд вернулся живой и невредимый. Держался он мрачно и отчужденно. Его, видите ли, оскорбили в лучших чувствах, незаслуженно обвинив в похищении вещей у грека Зосимы. Но государь, который лично знал Шервудова отца, во всем, мол, разобрался. Шервуду принесли извинения, дали на год отпуск, чтобы он мог привести в порядок дела, а за поруху чести наградили тысячью рублями.
Шервуда поздравляли с благополучным окончанием дела. А он, став теперь человеком свободным, не замедлил отправиться в Курск, где стоял со своим полком Вадковский.
Вадковский встретил Шервуда с распростертыми объятиями.
– Друг мой, какую подлость над тобой совершили! – воскликнул он, обнимая Шервуда.
– Что делать, – мрачно ответил Шервуд. – Это мне отличный урок. Теперь все силы я смогу отдать нашему делу.
Растроганный Вадковский, не откладывая дела в долгий ящик, подробно рассказал Шервуду о делах общества и, показав на футляр от скрипки, сказал многозначительно:
– Знай, Шервуд, в этом футляре хранятся списки всех членов общества…
Шервуд покосился на футляр, но особого интереса не проявил, чтобы не вызвать подозрений.
– Каково идут наши дела? – спросил он Вадковского.
– Прекрасно! – живо отозвался тот. – Скоро начнем… Тебе надо собрать некоторые сведения от Южного и Северного обществ.
– Чего же лучше! – удовлетворенно ответил Шервуд. – За обиду, мне сделанную, и по любви к человечеству я готов потратить весь этот год на разъезды от одного общества к другому.
Вадковский принялся горячо благодарить Шервуда. Он тут же написал ряд писем, которые следовало доставить по назначению. Одно из них – донесение Павлу Пестелю, в котором Вадковский рассказывал о петербургском обществе, членом которого состоял, и о своей теперешней деятельности на Юге. Подателя письма Вадковский характеризовал как человека непреклонной воли, проникнутого чувством чести, верного своему слову. Он советовал Пестелю быть с ним откровенным и доверчивым.
Шервуд прожил у Вадковского несколько дней, пролетевших в задушевнейших разговорах, потом дружески распрощался и уехал.
Надо было найти укромное место, откуда можно спокойно написать графу Аракчееву обо всем, что удалось узнать. Шервуд отправился в Орловскую губернию, в имение полковника Гревса. Его и здесь встретили радушно, жалели – как никак человек невинно пострадал, едва не оказался опозоренным. Шервуду отвели небольшую комнату.
По вечерам, когда в доме все стихало, Шервуд зажигал свечу и, слушая, как барабанит по стеклам нудный осенний дождь, сочинял свои доносы, просил предпринять решительные меры для открытия заговора.
В назначенный час он прибыл на станцию в город Карачев, куда должен был приехать фельдъегерь, чтобы взять у Шервуда письма. Само собой разумеется, что отправлять такие письма по почте было бы неосмотрительно.
Шервуд приехал точно в назначенный час, а фельдъегеря еще не было. Иван Васильевич расположился на постоялом дворе, с нетерпением поглядывая в окно. Прошел час, другой, никто не являлся.
Пришел смотритель, спросил, не пора ли закладывать лошадей?
Шервуд пожаловался на сильную головную боль, повязал голову полотенцем, спросил уксусу.
– Захворал я что-то, – сказал он жалобно. – Не могу ехать дальше, придется здесь отлежаться…
Шервуд оказался незаурядным актером. Он так естественно изображал страдания, что смотритель не отходил от него, ухаживал, подносил лекарство, поил горячим чаем. Несколько раз предлагал позвать лекаря, но Шервуд отказывался, говорил, что такие припадки случаются у него часто, надо лишь полежать, и все пройдет само собой.
Фельдъегерь прибыл с опозданием на несколько дней. Шервуд услал смотрителя в ближайшую лавчонку с каким-то поручением и, оставшись наедине с фельдъегерем, строго спросил:
– Почему опоздали?
Тот только рукой махнул.
– У нас, батенька, такие дела творятся, – понизив голос, скороговоркой заговорил он. – Страх сказать! Экономку аракчеевскую Настасью Минькину мужики в Грузине зарезали… Сами знаете, она зверствами своими на всю Россию славилась. Граф как помешанный стал, все дела забросил.
Шервуд внимательно выслушал рассказ фельдъегеря, но в разговоры с ним вступать не стал. Передав письма, постарался как можно скорее и незаметнее покинуть постоялый двор, где его длительное пребывание стало вызывать подозрение у городских властей.
Письмо, адресованное Вадковским Павлу Пестелю, «проникнутый чувством чести» Иван Васильевич Шервуд среди других бумаг отправил царю.
* * *
Вятский полк, которым командовал Пестель, расположился в местечке Линцы, верстах в шестидесяти от города Тульчина. Почтовый тракт доходил только до Крапивны, а оттуда надо было ехать по глухой проселочной дороге через дремучий лес, тянувшийся на несколько десятков верст, – дубовый и сосновый.
Михаил Павлович Бестужев-Рюмин, воспользовавшись служебными разъездами, решил навестить Пестеля, чтобы доложить ему о делах общества, о деятельности «славян» и «поляков». С «поляками» последнее время начались разногласия, и он хотел посоветоваться с Пестелем, как поступать дальше. В ожидании встречи – так бывало всегда – Бестужев-Рюмин и радовался и страшился. Как-то встретит его Павел Иванович, одобрит ли его старания?
Вечнозеленая пушистая хвоя перемежалась золотом резной дубовой листвы, и от этого чередования рябило в глазах, все казалось ярким и праздничным. Пахло по-осеннему терпко. Он думал о Катрин, о том, что давно не видел ее. Увлеченный делами общества, ожидая в ближайшее время решительных событий, он считал себя не вправе требовать от нее окончательного ответа. «Вот победим, – с уверенностью молодости думал он, – тогда добьемся согласия на брак. А нет – увезу ее, обвенчаемся тайно. Все равно будет она моею!» – упрямо повторял он про себя.
Поворот, еще поворот, и коляска вылетела на край леса. Прямо перед Михаилом Павловичем открылись Линцы – не то маленький городок, не то большое селение, раскинувшееся на берегу многоводной и светлой Соби. Низенькие хатки с высокими островерхими крышами прятались в садах, уже облетавших. Ветхая церквушка, гостиный двор с лавчонками, полосатая гауптвахта, шлагбаум, а за ним – степь с высокими курганами.
«Словно на краю света примостились Линцы», – подумал Бестужев-Рюмин.
Пестель жил в старом одноэтажном каменном доме. Это был дворец князей Сангушко. Облупившийся, с заколоченными окнами, на дворец он походил мало. Хозяева давно не жили здесь, и Пестель нанял флигель у княжеского управляющего. Двор порос лопухом и крапивой.
За домом шумел на осеннем ветру огромный сад. Черная стая ворон с карканьем кружилась над качающимися верхушками деревьев.
Уже смеркалось, когда Бестужев-Рюмин сошел с пролетки.
И то ли от зловещего карканья, то ли от сгущающихся сумерек – Михаил Павлович с детства не любил этого часа дня – приподнятость погасла, на душе стало тревожно и сумрачно.
Навстречу ему выбежал денщик Пестеля – добродушный и плутоватый Савенко.
– Вот хорошо, что пожаловали, – суетился он вокруг гостя. – Павел Иванович простудились, хандрят все, – щегольнул он «барским» словечком. – Может, с вами развеселятся. Пожалуйте в кабинет!
Бестужев-Рюмин вошел в большую полутемную комнату. Два высоких узких окна выходили в сад, а за окнами те же мрачные деревья с огромными вороньими гнездами.
Во всю стену, от пола до потолка, полки с книгами, письменный стол завален бумагами. В тяжелых бронзовых рамах – деды и прадеды князей Сангушко. С почерневших портретов они строго наблюдали за каждым, кто входил в комнату. Бестужев-Рюмин невольно поежился под их пристальными взглядами.
В огромном камине-очаге с закопченным кирпичным навесом тлели, потрескивая, корявые поленья. Бестужев-Рюмин растерянно оглядывался: где же хозяин?
Пестель сидел на большом кожаном диване, забившись в угол. Глаза его были закрыты – видно, дремал. Бестужев-Рюмин кашлянул, и Пестель поднялся и пошел ему навстречу. Он был в старенькой шинели вместо халата, горло перевязано шейным платком.
– Заходи, заходи, – ласково и хрипловато сказал он. – Неможется мне. И работа не ладится. Да ты садись, устал ведь с дороги. Сейчас чай пить будем…
Бестужев-Рюмин смотрел на него с удивлением. Таким – заботливым и ласковым – он никогда не видел Пестеля.
Павел Иванович длинной кочергой пошевелил тлеющие поленья, они вспыхнули, и яркие искры с треском полетели вверх.
– Так-то веселее, – сказал Пестель, но лицо его по-прежнему было печально. – Рассказывай, как дела идут.
Бестужев-Рюмин стал рассказывать, сначала нерешительно, потом все больше воодушевляясь, и его воодушевление постепенно передавалось Пестелю. Лицо Павла Ивановича снова становилось суровым и решительным – лицо командира.
– Хорошо, что ты приехал, – сказал он, выслушав Бестужева-Рюмина. – Не то мне стало казаться, что члены общества охладевают к нашему делу. Несколько ночей не сплю, все думаю…
Он хотел что-то добавить, но, видно, раздумал и замолчал.
Молчал и Бестужев-Рюмин. Ему было тягостно в этой мрачной комнате. Он привык видеть Пестеля решительным, непоколебимым и вдруг – неуверенность, растерянность…
Увы, у Пестеля были основания тревожиться. Недавно получил он записку из Каменки от Василия Львовича Давыдова, в которой тот писал ему, что граф Витт просил через некоего Бошняка согласия на вступление в тайное общество. При этом Витт намекал, что в его распоряжении находится сорок тысяч войска, которые могли бы весьма пригодиться заговорщикам.
Пестель был поражен: откуда Витт мог знать о существовании общества? Как отнестись к его предложению? В армии ходили слухи, что Витт растратил несколько миллионов казенных денег. Впрочем, это были только слухи… А вдруг они окажутся ложными? Тогда общество, отказавшись от предложения Витта, потеряет сорокатысячную армию. Можно ли упустить такое?
Пестель, конечно, не мог знать, что еще в 1819 году Александр I приказал Витту вести наблюдение за многими украинскими губерниями. Витт давно приглядывался к семейству Давыдовых, ко всему, что происходило в Каменке. Он направил туда своего агента – помещика Бошняка, который вскоре так близко сошелся с Василием Львовичем Давыдовым, что у того тайн от него не стало. Недавно через Витта он направил донос царю. Витт с этим доносом самолично отправился в Таганрог, где находился Александр I. Уж теперь-то ему не страшна никакая ревизия!
Пестель посоветовался с товарищами – принимать ли Витта? Его отговаривали.
– Подлец, известный подлец! – единодушно утверждали все.
А тут дошли до Пестеля слухи, что недавно Киселев сказал Волконскому:
– Послушай, друг Сергей, у тебя и у многих твоих тесных друзей бродит на уме бог весть что! Ведь это поведет вас в Сибирь. Помни, ты имеешь жену, она ждет ребенка, уклонись ты от этих пустячных бредней, столица которых в Каменке…
«Неужели раскрыты?» – с тоской думал Пестель.
И сейчас, глядя на восторженное, вдохновенное лицо Бестужева-Рюмина, он размышлял, открыть ли ему трудные свои раздумья. Будучи искренне привязан к этому юноше, Пестель не хотел вносить смятение в его сердце. Но имел ли он право скрыть надвигавшуюся опасность?
Они продолжали сидеть молча в полутемной, залитой красноватым зловещим светом комнате.
Дверь из кабинета была растворена в маленькую комнатку, служившую Пестелю спальней. Бестужев-Рюмин видел на стене тускло поблескивающую золотую шпагу, которой Пестель был награжден за храбрость, проявленную в сражении под Бородином. Рядом с кроватью стоял большой кованый сундук под тяжелым замком. И почему-то Бестужев-Рюмин вдруг подумал, что, верно, в этом сундуке Пестель хранит «Русскую правду»…
Судьба «Русской правды» весьма беспокоила Пестеля. Теперь, когда он понимал, что ему каждую минуту может грозить арест, он заботился о судьбе конституции больше, чем о своей собственной.
Недавно с помощью одного из членов общества Пестель переправил «Русскую правду» в Немиров, но и там обстановка была напряженной, и рукопись вернули в Тульчин, а оттуда увезли в деревню Кирнасовку. Там члены общества Заикин и Бобрищев-Пушкин зашили рукопись в клеенку и зарыли в придорожной канаве.
– Недаром народ поговорку сложил, – задумчиво сказал Пестель, – промедление смерти подобно. Медлит Север, медлим мы. Пора действовать. Ты скажи Сергею Муравьеву-Апостолу: приближаются сроки. Нет у меня пока точных сведений, но кажется мне, что обкладывают нас со всех сторон, как волков на охоте…
– Не мы ли твердим, что нужно действие, действие и действие! – горячо воскликнул Бестужев-Рюмин.
– До двадцать шестого года и двух месяцев не осталось! – решительно сказал Пестель. – В двадцать шестом начнем.
Не знал Павел Иванович, что непредвиденные обстоятельства заставят членов общества начать свои действия раньше. Не знал он и того, что до событий этих осталось всего лишь несколько дней. Не знал, что 13 декабря он будет арестован, посажен в Тульчинскую тюрьму. А потом помчат фельдъегерские тройки его в столицу. Его, Пестеля, важнейшего государственного преступника.







