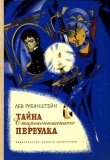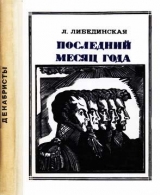
Текст книги "Последний месяц года"
Автор книги: Лидия Либединская
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
Глава вторая
В Каменке

Осень в этом году выдалась на редкость ясная и теплая. Кончался ноябрь, а снега не было и в помине. Желтая и красная листва, схваченная ночными заморозками, не облетала, и низкорослые леса и перелески стояли яркие и пестрые, как расписные терема. Только рассветами иней ложился на увядшую траву, и земля становилась мерзлой и звонкой.
Катрин легко шла по дорожке, ведущей к гроту, вдыхая холодный, пропахший увядающей листвой воздух, глядя, как несмелые лучи ноябрьского солнца пробиваются из-за противоположного берега реки Тясмин и бледные блики плавают по стылой воде.
В доме все еще спали, а она, тихонько одевшись, вышла в сад одна побродить, посидеть в каменном гроте, с которым связано столько воспоминаний – здесь Мишель впервые сказал ей о своих чувствах.
Катрин огляделась: как хорошо! Яркое безоблачное небо стлалось над пестрой осенней землей. Поблескивали маковки двух церквей, из села доносилось громкое кукареканье, где-то вдали позванивали ведра – девушки шли на реку за водой.
Ноги в туго зашнурованных высоких башмачках стали мерзнуть, она глубже спрятала руки в пушистую беличью муфточку и торопливо, чтобы согреться, легкими шагами побежала к дому, где уже раздавалось дребезжание колокольчика, созывающего к завтраку все большое семейство Давыдовых и Раевских.
«Через три дня екатеринин день! – весело думала Катрин. – Значит, Мишель обязательно приедет!»
Жизнь была, безусловно, прекрасна…
* * *
Каждый раз, спускаясь извилистым проселком в долину, где, пересекая село Каменку на две части, текла река Тясмин, Бестужев-Рюмин с волнением вспоминал свой первый приезд сюда.
Это было осенью 1821 года. Переведенный тогда из гвардии в армию после бунта Семеновского полка, Михаил Павлович находился в тяжелом настроении. Чтобы рассеять его, Сергей Муравьев-Апостол, который ехал в родовое свое миргородское поместье Хомутец, сказал:
– Заедем со мной по пути в Каменку! Там в екатеринин день весело, три именинницы: сама Екатерина Николаевна Давыдова и две внучки ее, кузины Катрин – дочери Василия Львовича и Софьи Львовны Давыдовых…
Они поехали. Этот приезд памятен особенно был Бестужеву-Рюмину еще и потому, что там впервые увидел он свою Катрин. Но тогда он весь был поглощен совсем иным.
Больше всего на свете Бестужев-Рюмин любил вольность и стихи. Его божеством был Пушкин, сочинитель вольнолюбивых стихов.
В первый свой приезд в Каменку он встретил здесь Александра Сергеевича Пушкина.
С тех пор прошло два года, а Михаил Павлович не мог забыть волнения и трепета, которые испытал, увидев того, чьи стихи повторял беспрерывно, переписывал в тетрадки. Стихи, от которых мужеством и отвагой загоралось сердце:
Тираны мира! Трепещите!
А вы мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!
Увы! Куда ни брошу взор —
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы…
Как часто, сжимая кулаки, шептал Михаил Павлович эти слова. Немощные, именно немощные…
Он прожил тогда в Каменке несколько дней. И все дни были заполнены Пушкиным. Его незабываемым, неожиданно возникающим, словно вспыхивающим смехом, его точными острыми суждениями о русской словесности, его движениями – порывистыми и угловатыми. В общении Пушкин был труден, раздражителен, обижался на каждое неловко сказанное слово. Но Бестужев-Рюмин с восторгом относился к своему кумиру, краснел и смущался, когда Пушкин обращался к нему. Пушкин заметил это и все ласковее поглядывал на застенчивого юношу, так откровенно обожавшего его. Порой улыбался ему ободряюще и даже заговорщически.
В Каменке в ту пору было много гостей: Якушкин, Орлов, Раевские. Вечера проводили в кабинете Василия Львовича Давыдова, ревностного члена тайного общества (о чем, впрочем, тогда Бестужев-Рюмин и не подозревал). Спорили, курили, шумели. Россия, мятеж, революция, свобода – эти слова звучали непрестанно.
Особенно запомнился Бестужеву-Рюмину последний вечер перед отъездом. Споры разгорались все жарче. Чтобы придать разговору порядок, шутя избрали «президентом» Раевского. Высокий, черноволосый, он полушутливо, полуважно управлял течением разговора. Никто не имел права начать говорить, не испросив у него дозволения. И если все-таки шум начинался, Раевский громко звонил в колокольчик.
– Как вы думаете, господа, насколько было бы полезно учреждение в России тайного общества? – вдруг спросил Орлов, испытующе глядя на присутствующих. (Ведь очень немногие из каменских гостей в ту пору знали, что такое общество уже существует.)
Наступила тишина.
Первым заговорил Пушкин. С жаром доказывал он, какую огромную пользу могло бы принести России создание тайного общества.
Якушкин же, один из старейших членов общества, в целях конспирации стал доказывать обратное.
– Да мне нетрудно доказать, что и вы шутите! – обратился он к Пушкину. – Я предложу вам вопрос: если бы теперь уже существовало тайное общество, вы, наверно, к нему не присоединились?
– Напротив! – горячо воскликнул Пушкин. – Наверное бы присоединился!
– В таком случае давайте вашу руку… – медленно и серьезно проговорил Якушкин.
Пушкин порывистым движением протянул руку. Якушкин рассмеялся.
– Но ведь это только шутка!..
Пушкин вскочил раскрасневшийся, взволнованный. В его синих глазах стояли слезы.
– Я никогда не был так несчастлив, как теперь! – с горечью проговорил он, и голос его дрогнул. – Я уже видел жизнь мою облагороженною и высокую цель перед собой. И все это была только злая шутка…
Он быстрым шагом не вышел – выбежал из кабинета.
Бестужев-Рюмин бросился за ним. Он искал Пушкина по всему огромному каменскому дому. Так хотелось сказать ему самые лучшие, самые добрые слова. Но не нашел…
А когда в прошлом году Сергей Муравьев-Апостол оказал Бестужеву-Рюмину высшее доверие и принял его в члены тайного общества, Михаил Павлович спросил, почему не был удостоен этой чести Пушкин.
Сергей Иванович поднял на Бестужева-Рюмина свои задумчивые серые глаза и, помолчав, серьезно сказал:
– Пушкин принадлежит России. Он ее слава и ее гордость. Разве можем мы знать, что готовит нам будущее? Так имеем ли мы право рисковать его судьбой?
…Вот уже виден на взгорье большой двухэтажный дом с пристройками. За ним старый сад, уступами спускающийся к реке.
Милый каменский дом! Он принес Бестужеву-Рюмину исполнение всех его мечтаний. Здесь обрел он верных друзей, здесь встретил ту, что навсегда завладела его душой…
* * *
В доме царила предпраздничная суета. Размещали гостей, дошивали бальные наряды барышням, срезали лучшие цветы в оранжереях, кололи скот, резали птицу.
Екатерина Николаевна, урожденная графиня Самойлова, приходилась племянницей светлейшему князю Потемкину, фавориту Екатерины II. От первого брака у нее был сын Николай Раевский, защитник Смоленска, герой Бородина. Жил он в Киеве, но частенько навещал родное каменское гнездо. Сыновья Екатерины Николаевны от второго брака Александр и Василий жили вместе с нею в Каменке.
Старший, Александр Львович Давыдов, тучный, неподвижный, всегда словно невыспавшийся, был женат на красавице француженке Аглае Грамонт и от нее имел двух дочерей – Катрин и Адель. Он был гурман: сам любил покушать и других попотчевать.
Василий Львович являлся полной противоположностью брату. Веселый, говорливый, живой. Одним из первых вступил он в тайное общество, и с тех пор каменский дом стал местом постоянных встреч членов общества.
Александр со своим семейством занимал нижнюю левую часть большого каменского дома. Василий жил справа, в особой пристройке.
Середину дома занимала сама Екатерина Николаевна. Сюда, в длинную, увешанную фамильными портретами нижнюю гостиную, в часы трапезы собиралась вся семья.
Воспользовавшись предпраздничной суетой, мужчины уединились на половине Василия Львовича, в большом просторном кабинете с тяжелой кожаной мебелью. Сегодня в Каменку съехались Сергей Григорьевич Волконский, Михаил Павлович Бестужев-Рюмин и Сергей Иванович Муравьев-Апостол. Ждали Пестеля, который почему-то запаздывал.
– Не может со своим полком расстаться! – пошутил Волконский, затягиваясь трубкой.
– Полк у него, что говорить, образцовый, – серьезно сказал Сергей Иванович Муравьев-Апостол. – А еще два года назад, когда он принял его, считался худшим во всей Южной армии…
– Усердие Павла Ивановича в пожертвовании собственных денег столь благотворно отразилось на положении полка, что сам начальник штаба граф Киселев нахвалиться не может! – подхватил Василий Львович Давыдов.
– А государь на нынешнем смотру пожаловал Пестелю в награду три тысячи десятин земли, – добавил Волконский. – Да только без крестьян. «Крестьян не дарю, это жестоко!» – изволил сказать государь.
– Жестоко! – с возмущением воскликнул Бестужев-Рюмин. – И он еще смеет говорить о жестокости… Не кажется ли вам, господа, что создание военных поселений сделалось пунктом помешательства нашего императора? История не видела ничего подобного! Взять широкую полосу земли, протянуть ее с севера до Черного моря и превратить крестьян в военнослужащих! Крестьяне восстают, Аракчеев расстреливает их из пушек, запарывает до смерти, и «порядок» торжествует.
От волнения Бестужев-Рюмин чуть заикался, глаза его были сухими и злыми.
В комнате воцарилось молчание, и стало слышно, как за окнами порывами налетает ветер и с легким шумом осыпаются с деревьев последние листья.
– Да, – нарушил тягостное молчание Сергей Муравьев-Апостол. – Мы победили Европу, освободили мир, а сами остались рабами. Внизу, вверху – все неволя, рабство! Ни суда, ни голоса…
– Одна надежда на милость царскую… – зло усмехнулся Василий Львович Давыдов.
– Еще зимой нынешнего года, на съезде нашем, помните, друзья, я спорил с Пестелем, – продолжал Сергей Муравьев-Апостол, – говорил, что не согласен на уничтожение царской фамилии и самого государя императора? А теперь понял, как ни прискорбно начинать новую эпоху в России пролитием крови, без этого не обойтись!
– Жаль, что Пестель запаздывает и не слышит твоих слов! – восторженно воскликнул Бестужев-Рюмин.
…А в доме, за стенами кабинета, продолжались праздничные приготовления, позвякивало фамильное серебро, севрский фарфор и хрусталь баккара, шуршали крахмальные скатерти и салфетки. И никому в голову не могло прийти, что в одной из комнат этого дома, где шла от века установленная, исполненная роскоши и праздности жизнь, люди говорят и думают о том, как разрушить эту жизнь, взорвать устои, на которых она зиждется. Выросшие в барстве, они, казалось, должны были бы стать продолжателями и преемниками дедовских традиций. Как же получилось, что все вышло совсем иначе?..
Они, победившие Наполеона, со славой вступившие в Париж, вернувшись на родину, стали смотреть на все иными глазами.
Было что-то мучительное в контрасте между родиной победоносной вне своих границ и угнетенной внутри.
Поначалу они мечтали, что Александр I по своей инициативе даст народу конституцию, освободит крестьян. Но скоро поняли, что этого не будет.
Тогда-то и зародилась среди русских офицеров мысль о необходимости революционного переворота.
В 1816 году в Петербурге шесть гвардейских офицеров – Александр Николаевич Муравьев, Никита Михайлович Муравьев, Иван Дмитриевич Якушкин, Сергей Петрович Трубецкой, Сергей Иванович и Матвей Иванович Муравьевы-Апостолы – основали первое в истории России тайное революционное общество.
«Союз спасения» – называлось это общество. Само название указывало его цель – спасти Россию. А это значило бороться против царя и крепостничества. Тайная организация пополнялась все новыми членами. Вступил в общество Павел Иванович Пестель.
В 1818 году общество было якобы распущено и восстановлено под новым названием «Союз благоденствия». Оно насчитывало около двухсот членов, и руководила им Коренная управа.
В январе 1821 года в Москве собрался съезд Коренной управы Союза благоденствия. Съезд снова объявил союз распущенным. Под прикрытием этого постановления, облегчавшего отсев ненадежных членов, тайное общество было опять реорганизовано. Возникли два общества: Южное – с центром в Тульчине под руководством полковника Пестеля и Северное – в Петербурге, основное ядро которого составили: Никита Муравьев, Николай Тургенев, Серхей Трубецкой, Иван Пущин и Евгений Оболенский.
Северное общество хотело просветительной работой постепенно готовить народ к перевороту.
Южное видело спасение России в немедленном восстании.
Северяне предполагали предоставить самому народу решить вопрос о преобразовании государства.
Южане хотели произвести это преобразование революционным путем.
Члены Северного общества надеялись вынудить у правительства уступки военной манифестацией.
Члены Южного общества настаивали на том, чтобы свергнуть царскую власть путем вооруженного восстания.
Глава Южного общества полковник Пестель обладал железной волей политика и революционера, шел к цели прямо и неуклонно. Пестель был республиканцем, и большинство членов Южного общества, находясь под его влиянием, считали республиканский строй единственно возможным для России.

Северное общество предпочитало республике ограниченную монархию. Оно не спешило с переворотом, откладывая его до смерти царя Александра I. Правда, программа Северного общества не до конца отвергала цареубийство. Но единой точки зрения на этот вопрос в обществе не было. Самая организация восстания представлялась северянам весьма смутно. Предполагалось после смерти императора предложить сенату – высшему государственному учреждению, ведавшему судебными делами, – образовать временное правление, которое в самый короткий срок созвало бы Великий собор. Все сословия должны были послать на Великий собор своих выборных и установить новый образ правления России…
…– Итак, господа, – обратился Сергей Муравьев-Апостол к окружающим, – мы очень сожалеем, что нам не удалось договориться в Москве о наших совместных действиях. Я предлагаю продолжить этот разговор сегодня. Итак, главная наша сила – армия. Солдаты пойдут за нами.
– Пойдут ли? – с сомнением покачал головой Волконский.
– На край света пойдут! – горячо поддержал друга Бестужев-Рюмин. – Рядовой Апойченко поклялся мне привести целый Саратовский полк без офицеров и на первом же смотре застрелить государя из ружья! Сейчас мы положили за главное – умножать неудовольствие солдат к службе, их ненависть к высшему начальству…
– Это не так уж трудно, – грустно усмехнулся Сергей Муравьев-Апостол. – Достаточно поглядеть на полковника Гебеля. Этот поляк, изменивший своей родине, ненавидит русских солдат. Я однажды видел, как он по земле ползал и проверял, хорошо ли у солдат носки вытянуты. Избивает он солдат так, что палки в мочалку превращаются…
– Вот-вот! – подхватил Бестужев-Рюмин. – А мы внушаем солдатам, что наказание палками противно естеству человеческому! Главная задача – не дать им впасть в уныние, вселить уверенность, что должна и может перемениться их судьба!
Дверь в кабинет приоткрылась, и показалась тоненькая девичья ручка в кисейном манжетике, а следом за ручкой возникла черная головка в крупных локонах с широким голубым бантом на затылке.
– Бабушка сердится, что вы удалились, – сказала она по-французски, мило картавя. – Гости съехались, а вы все разговариваете и трубками дымите…
– Хорошо, Аделюшка, иди! Мы за тобой следом, – ласково поглядев на племянницу, сказал Василий Львович Давыдов. – Да скажи матушке, чтобы не гневалась.
– А на вас сестрица страх как сердится, – хитро сощурившись, сказала Адель, бросив выразительный взгляд на Бестужева-Рюмина, и яркая краска залила его веснушчатое лицо.
* * *
Пестель приехал лишь на следующий день.
Веселье было в самом разгаре. Без устали гремел оркестр, легкие пары кружились в большом зале. Пожалуй, больше всех и лучше всех танцевал в тот вечер Бестужев-Рюмин. Он издавна славился как отличный танцор, и, когда сегодня танцевал с другими барышнями, Катрин поглядывала на него ревниво. Но сейчас он стремительно кружил ее по зале, и она была счастлива. Локоны разлетались, глаза сияли. Позови он ее сейчас – она полетела бы за ним на край света…
– Мишель, – вдруг раздался ласковый голос Сергея Муравьева-Апостола. – Удели внимание и нам, грешным! Пойдем в кабинет к Василию Львовичу. Дама твоя, верно, устала….
– Сильфиды не устают! – весело отозвался Бестужев-Рюмин, однако тут же послушно передал Катрин другому кавалеру и последовал за Сергеем Ивановичем.
Они вошли в кабинет. Табачный дым синими слоями плавал в воздухе. После блеска залы здесь было сумеречно. Музыка еще звучала в ушах Михаила Павловича, и, словно сквозь ее веселую беззаботную радость, услышал он сердитый голос Василия Львовича Давыдова:
– Неужели мы в сотый раз должны обсуждать эти необдуманные проекты? Неужели испанские события вас ничему не научили?
– Научили и очень многому, – с порога заговорил Сергей Муравьев-Апостол. – Павел Иванович сегодня весьма толково доказал, что начинать должно в столице. Риего начал не в столице. Квирога поддержал его тоже весьма далеко от столицы… Мы должны сегодня обсудить, как удачно провести переворот. Я признаю, что Риего сделал ошибку, не перебив своих Бурбонов. Ему не следовало вверять конституцию королю…

– Вот потому-то я и настаиваю на уничтожении всей царской фамилии! – обрадованно сказал Пестель, и голос его зазвучал непривычно живо. До сих пор пункт об уничтожении царской семьи был главным, вызывающим разногласия в мнениях Муравьева-Апостола и Пестеля. – Не то вдруг у кого-нибудь возникнет мысль: «Не найдется ли среди Романовых хорошего царя?» Переворот должен быть совершен сразу и в столице и у нас!
– Да, да, конечно! – согласился Сергей Муравьев-Апостол. – Но я настаиваю: действовать надо скорее.
Или вы забыли случай с князем Сергеем Григорьевичем Волконским?
Ему никто не ответил, но все поняли, о чем идет речь.
Нынешним летом на смотру, когда мимо царя проходила бригада генерал-майора Волконского, сам Волконский, пропуская бригаду, придержал лошадь и встал неподалеку от царя. Бригада прошла, Волконский хотел было отъехать, как вдруг услышал, что царь просит его приблизиться.
– Я очень доволен вашей бригадой, – с любезной улыбкой сказал Александр I. – Азовский полк один из лучших полков моей армии. Днепровский поотстал немного, но и в нем видны следы ваших трудов. – И, не изменяя ласково-покровительственного тона, не убирая с лица сладкой улыбки, добавил:
– По-моему, гораздо для вас выгоднее продолжать оные, а не заниматься управлением моей империи, в чем вы, извините меня, толку не знаете!
Царь отвернулся, давая понять, что разговор окончен.
С тех пор тревога закралась в сердца заговорщиков.
– А все Север… – проворчал Василий Львович Давыдов.
– Петербург надо тревожить частыми набегами! – решительно сказал Бестужев-Рюмин и улыбнулся, радуясь удачному сравнению. – Да, да, господа, мы из своих половецких степей должны тревожить северную столицу.
– Ах ты, новоявленный половецкий хан! – добродушно посмеиваясь, сказал Сергей Муравьев-Апостол. – А ведь он прав, друзья. Кому-то надо ехать в Петербург…
– Хорошо бы поехать вам, Павел Иванович, – обратился Волконский к Пестелю.
– Думаю, что мне это удастся лишь в конце декабря, – ответил Пестель. – А вас, Мишель, я прошу составить доклад тайной директории о переговорах с польским обществом, чтобы я мог руководствоваться им при разговоре в Петербурге.
– Доклад подготовлен! – коротко и деловито ответил Бестужев-Рюмин. – Могу передать по первому требованию.
В январе 1823 года Сергей Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин встретились в Киеве, в доме генерала Раевского, с поляком графом Ходкевичем. Как-то само собой получилось, что разговор коснулся тайных обществ.
– Дошли до меня слухи, что и у вас такое составилось, – вдруг как бы невзначай сказал Ходкевич.
– Не предполагаем отпираться, – негромко ответил Сергей Иванович, пристально глядя на Ходкевича.
Наверное, это было неосмотрительно – так сразу признаваться почти незнакомому человеку. Но какое-то внутреннее чутье подсказывало Сергею Ивановичу, что Ходкевичу можно довериться.
– На откровенность считаю долгом ответить откровенностью, – так же негромко отозвался Ходкевич. – Я тоже являюсь членом общества. Наша цель: борьба за восстановление независимой Польши. Не считаете ли вы, господа, что неплохо было бы наладить связь между нашими обществами?
– Для этого нам нужно согласие большинства членов, – мягко возразил Сергей Иванович.
На «контактах» 1823 года Муравьев-Апостол сообщил о беседе с Ходкевичем и просил полномочий для ведения переговоров. Поначалу его предложение встретили настороженно. Полякам не доверяли. Но Сергею Ивановичу в конце концов удалось доказать необходимость союза с поляками и заключения с ними соглашения, по которому поляки обязывались поднять восстание одновременно с русскими, оказывать всяческую поддержку и установить в Польше такой же строй, какой будет установлен в России. За это новое русское правительство должно было предоставить Польше независимость и передать области «не настолько обрусевшие, чтобы слиться душой» с Россией.
Бестужеву-Рюмину было поручено доложить о переговорах. Члены Южного общества остались весьма довольны этим докладом.
Бестужев-Рюмин был счастлив. Он чувствовал, как за последние месяцы изменилось к нему отношение товарищей. Те, кто раньше – и особенно после его неудачной поездки в Москву – поглядывал на него недоверчиво, теперь относились к нему с уважением и внимательно прислушивались к его мнению.
Вот и сейчас Пестель одобрительно кивнул головой, выслушав краткий ответ Бестужева-Рюмина. Все знали, как трудно добиться признания Пестеля. Знал это и Михаил Павлович, и потому сердце его заколотилось гулко и радостно.
– Ну что ж, друзья! – решительно произнес Пестель. – Как только получу отпуск – в Петербург! Постараюсь расшевелить северян…
– А сейчас, господа, ужинать! – весело воскликнул Василий Львович Давыдов. – У нас сегодня устрицы хороши! Брат за ними специально Шервуда в Крым посылал…
* * *
Иван Васильевич Шервуд весьма охотно исполнял поручения Александра Львовича Давыдова. Охотно прежде всего потому, что, занимаясь ими, можно было легко и хорошо заработать, а Иван Васильевич любил деньги. Александр Львович отчетов не спрашивал, лишь бы устрицы были свежи и подоспели ко времени – к очередному ли семейному празднику или просто к дружескому обеду.
Но была еще одна причина, что удерживала Шервуда возле каменского дома…
Джон Шервуд, или как его называли в России – Иван Васильевич, был сыном механика, по повелению Павла I приглашенного из Англии для работы на первых русских суконных фабриках. Поначалу дела англичанина в России шли успешно, он хорошо зарабатывал, дал детям отличное по тому времени образование. Иван Васильевич владел несколькими языками, был обучен механике.
Но вдруг фортуна изменила Шервудам – с начальством не поладили. Сразу сократились доходы. В 1819 году Иван Васильевич вынужден был поступить на военную службу в 3-й украинский уланский полк. Полковой командир полковник Гревс сразу приметил смышленого англичанина, приблизил его к себе и держал на посылках. Полк расположен был в шестидесяти верстах от Каменки, и Гревс не раз отправлял Шервуда к Давыдовым, с которыми был в приятельских отношениях. То мельницу исправить, то еще чем-нибудь помочь Александру Львовичу в его большом хозяйстве.
Наблюдательный и пронырливый Шервуд давно прислушивался к вольным разговорам, распространенным в Южной армии, к неосторожным офицерским толкам о «перемене в государстве». Не ускользнуло от его внимания и то, что в Каменку регулярно съезжаются одни и те же люди, что после обеда удаляются они на половину Василия Львовича, запираются там, спорят и к ужину выходят взволнованные, разгоряченные.
Иван Васильевич и так и сяк старался втереться к ним в доверие. Но, несмотря на все ухищрения, проникнуть в кабинет Василия Львовича ему не удалось. В противоположность брату, Василий Львович Шервуда терпеть не мог. Шервуд пытался подслушивать – тоже ничего не вышло. Да и опасно – глядишь, заметят, и лишишься прибыльного местечка.
Хитрое сердце Шервуда чувствовало, что тут что-то неладно. За дверью давыдовского кабинета кроется нечто такое, что, разгадай он тайну, придет к нему слава, и выбьется Шервуд в люди. Деньги получит, офицерское звание, о котором вот уже несколько лет мечтает…
Шервуд как ищейка принюхивался, шел по следу. На его белобрысом с водянистыми глазами лице установилось выжидательное и настороженное выражение.
Не будь он шервудского рода, если не удастся ему выслужиться перед русским государем императором!