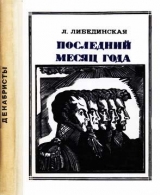
Текст книги "Последний месяц года"
Автор книги: Лидия Либединская
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
Глава пятая
На Юге

Лето 1825 года Сергей Иванович Муравьев-Апостол и Михаил Павлович Бестужев-Рюмин жили, как всегда, в Василькове, уездном запустелом городке-слободке, разбросанном по долинам и холмам. Серые деревянные домики и белые мазанки теснились рядами вдоль узких улиц, спускавшихся к обрыву, где текла речка Стугна, обмелевшая, заросшая тиной и камышом. Темная зелень вишневых садов, а среди них белые хатки – хатка над хаткой, садик над садиком, разгороженные плетнями, увитыми тыквами.
В центре города – базарная площадь. Перед единственным каменным домом, где размещались все присутственные места, привал чумаков. Круторогие волы, лежа в пыли, жевали сено, а чумаки тянули жалобные песни. Зной, лень, тишина. Даже собаки не лаяли и куры не бродили, спали, зарывшись в мягкую горячую пыль. Везде грязь, обрывки соломы, навоз…
И люди в Василькове жили так же сонно и однообразно. Мужчины пили водку, настоянную на вишневых косточках, барышни читали французские романы, приходившие сюда с запозданием на год-другой. Самым большим развлечением в городе бывали вечера, которые иногда устраивал у себя полковник Гебель. Играли в бостон, девушки танцевали с офицерами под клавикорды.
Время проходило в учениях, караулах, разводах. Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин жили на Соборной площади в деревянном ветхом домике с облупившимися белыми колоннами. Вокруг дома сад. В саду копанка, покрытая зеленой ряской. От копанки тянуло болотцем, тиной, прохладой. За садом бахча и пасека, оттуда по вечерам приходили запахи укропа и меда, мяты и арбузов.
Друзья сидели на балконе, и Михаил Павлович, наливая себе чай из красно-медного самовара, говорил громко и возбужденно:
– Помнишь, Сережа, у Радищева: «Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвленна стала»?
Сергей Иванович сидел откинувшись в легкой плетеной качалке, ласково и внимательно глядя на Михаила Павловича.
– Так вот, – продолжал он. – С этого у них все и началось. Братья Борисовы жили с отцом на хуторе и видели, как паны мучают бедных людей. А потом попали они на военную службу и при них забили насмерть солдата. Тогда поклялись они, что такого в России больше не будет. Ну и книги, конечно… Жизнеописания великих мужей Плутарха, греки, римляне…
Еще в корпусе решили они создать тайную секту. Цель ее – уединенная жизнь, изучение природы. Девизом сделали две руки над пылающим жертвенником. Секту назвали Обществом первого согласия. А когда Борисовых произвели в офицеры, они основали в Одессе масонскую ложу «Друзья природы». Вот из этих-то двух обществ и родились «Славяне»…
– Какова их цель? – мерно покачиваясь в качалке, спросил Муравьев-Апостол.
– Соединение славянских племен в единую республику. Вот послушай их правила. Я наизусть запомнил…
Михаил Павлович резко отодвинул от себя стакан, и чай расплескался по домотканой полотняной скатерти.
– «Желаешь иметь сие – с братьями твоими соединись, от коих невежество предков отдалило тебя».
«Будешь человеком, когда познаешь в другом человека, и гордость тиранов падет перед тобой на колени».
«Ни на кого не надейся, кроме твоих друзей и твоего оружия: друзья тебе помогут, оружие тебя защитит».
«Свобода покупается не слезами, не золотом, а кровью».
Сергей Иванович слушал молча. Потом так же молча встал – пустая качалка продолжала качаться, – прошелся по балкону и, подойдя к Михаилу Павловичу, бережно провел рукой по его мягким рыжеватым волосам:
– Горяч ты, друг мой… – негромко и задумчиво сказал он. – Не увлекаешься ли?
– Уверяю тебя, мы найдем в этих людях то, что так ищет Пестель! – нетерпеливо воскликнул Бестужев-Рюмин. – Они готовы на всякую жертву для блага отечества. Бедные армейские прапорщики, они постановили жертвовать десятую долю жалования на выкуп крепостных людей и на учреждение сельских школ. Борисовы сами с хлеба на квас перебиваются, а положенные деньги вносят в кассу общества… Вот посмотри, – он достал из кармана тоненькую синюю тетрадку и протянул ее Сергею Муравьеву-Апостолу. – Прочти! Это клятва, которую они дают при вступлении в общество.
Муравьев взял из его рук тетрадку и, раскрыв, стал читать:
«С мечом в руках достигну цели, нами назначенной. Пройдя тысячу смертей, тысячу препятствий, посвящу последний вздох свободе. Клянусь до последней капли крови вспомоществовать вам, друзья мои, от этой святой для меня минуты. Если же нарушу клятву, то острие меча сего, над коим клянусь, да обратится в сердце мое…»
– Они за каждую букву этой бедной тетрадки готовы пожертвовать жизнью! – возбужденно говорил Бестужев-Рюмин, наблюдая за выражением лица Сергея Ивановича.
– Ну что ж, – медлительно проговорил Муравьев-Апостол, но за этой медлительностью Михаил Павлович услышал скрытое волнение. – Ты прав, такие люди нам необходимы. Так когда и где мы сможем встретиться?
– На днях к нам зайдут руководители общества Соединенных славян. Потолкуем, обсудим главные вопросы. А потом в Лещинском лагере встретимся с остальными членами и решим вопрос о соединении обществ, нашего, Южного, и Соединенных славян.
* * *
Недаром говорят: не было бы счастья, да несчастье помогло. Родной брат полкового командира, под началом которого служил Шервуд, был отдан под суд. И пришлось Ивану Васильевичу ехать по этому делу в город Ахтырку, к графу Булгари.
В Ахтырку приехал он на рассвете. Отыскал квартиру, где жил Булгари. Состояла она из двух небольших комнат: первая что-то вроде прихожей, полутемная, заваленная чемоданами, корзинами и прочим хламом; вторая, что служила спальней хозяину, побольше и посветлее. Дверь в нее была приоткрыта. Шервуд заглянул туда, но тут появился слуга, сказал, что граф еще почивает и потому придется обождать.
Шервуд уселся в полутемной прихожей, закурил трубку и попросил слугу принести стакан горячего кофе. В открытую дверь было видно, что под окном на кровати кто-то спит, закрыв лицо простыней. Шервуд решил, что, верно, это и есть Булгари. Но вот лежавший заворочался, сдернул с лица простыню, потянулся и сел на постели. К удивлению своему, Шервуд увидел незнакомого человека с широким лицом и густой гривой светлых волос. Позевывая и потягиваясь, незнакомец громко спросил, обращаясь к кому-то:
– Спишь, граф?..
– Да нет, все думаю о нашем вчерашнем разговоре… Так что же, по твоему мнению, было бы самое лучшее для России?
– Конечно, конституция!
Шервуд затаил дыхание: «Вот оно! Неужели начинается?..»
Громкий хохот графа прервал его мысли.
– Конституция для медведей! – сквозь смех с трудом выговорил он.
– Нет, граф, нам нужна конституция, примененная к нашим потребностям, к нашим обычаям.
– Хотел бы я узнать конституцию для русского народа! – продолжая хохотать, сказал Булгари.
– Ты не понимаешь меня, – явно начиная сердиться, продолжал незнакомец, и Шервуду было видно, как побурело его лицо. – Послушай, я расскажу тебе, какая конституция была бы хороша для России…
Шервуд, конечно, не знал, что незнакомец почти дословно излагает главу за главой «Русскую правду» Пестеля. Но он был достаточно хитер, чтобы понимать: сочинить конституцию вот этак, сразу – дело невозможное. От волнения он даже курить перестал, боясь пропустить хоть слово.
– Да ты с ума сошел! – пренебрежительно отмахнулся граф. – Или ты забыл, как у нас велика царская династия? Ну куда их девать?
– Перерезать! – неизвестный вскочил и засучил рукава.
– Э, брат, да ты совсем заврался! Их за границей видимо-невидимо. И вообще все это вздор! Поговорим-ка о чем нибудь повеселее…
Скрипнула дверь – слуга принес кофе, – и Булгари, выглянув в открытую дверь, крикнул:
– А, Шервуд приехал! Иди сюда…
– Вот допью кофе и приду, – отозвался Шервуд, мелкими быстрыми глотками отхлебывая кофе. Он чувствовал себя так, словно только что нашел клад. На ладони уже искрится и звенит золото, а человек все еще не верит своему счастью и пробует на зуб монетку: не фальшивая ли?
Успокоившись немного, Шервуд вошел в комнату.
Граф Булгари дружески пожал ему руку и обратился к незнакомцу:
– Рекомендую, господин Шервуд. А это господин Вадковский, – сказал он Ивану Васильевичу.
– Шервуд? – удивился Вадковский. – Иностранец, верно?
– Да, я англичанин.
– Ты до сих пор не произведен в офицеры? – удивился граф Булгари, взглянув на Шервуда.
– Это не вдруг делается, – с достоинством ответил Шервуд. – У нас в поселении третий год обо мне собирают справки. А начали, когда я прослужил положенный четырехлетний срок.
– Везде черт знает что делается! – возмущенно воскликнул Вадковский. – Вы служите в военном поселении? Каково у вас там?
Шервуд понимал: надо во что бы то ни стало войти к доверие к Вадковскому, а это значило предстать перед ним недовольным, вольнолюбцем. И он сказал:
– Солдатам дают мало времени для полевых работ. Замучили постройками. От этого они терпят большие бедствия:
– Значит, поселяне недовольны?
– Очень! Офицерам, конечно, живется лучше. Но вообще все недовольны. Вы же знаете, Аракчеев шутить не любит!
Шервуд видел, что Вадковский не спускает с него глаз. Кажется, он произвел нужное впечатление! И верно, едва он вышел в соседнюю комнату за табаком, как услышал голос Вадковского:
– А Шервуд, должно быть, умный человек?
– Весьма умный, – задумчиво ответил Булгари. – Но бывают моменты, когда я его боюсь.
Слуга сервировал завтрак на маленьком, увитом густой зеленью балкончике. Воздух был еще по-утреннему прохладный и бодрящий. Во время завтрака завязался оживленный разговор. Время летело незаметно, только солнце поднималось все выше, и лучи его становились все горячее.
Булгари поднялся.
– Прошу прощенья, господа, я зван нынче на обед, и мне придется покинуть вас. Отобедайте без меня…
Шервуд и Вадковский остались вдвоем. От выпитого вина разговор делался все возбужденнее и откровеннее.
– Пройдемте в комнату, – предложил Вадковский. – Там прохладнее.
Шервуд молча и послушно направился вслед за ним.
Войдя в комнату, Вадковский вдруг притих, смолк, и Шервуд заметил, как изменилось и побледнело его лицо.
– Господин Шервуд, – сказал он многозначительно. – Я с вами друг, будьте и вы мне другом!
У Шервуда радостно дрогнуло сердце, но он сдержал себя и, стараясь казаться безразличным, проговорил:
– Я счастлив с вами познакомиться.
– Нет-нет! – недовольно воскликнул Вадковский. – Я хочу, чтобы вы были мне другом! Я вверю вам важную тайну….
Шервуд отпрянул от него, сделав предостерегающий жест рукой.
– О, я весьма тронут вашим доверием, – сказал он. – Но, что касается тайн, прошу вас не спешить. Я не люблю ничего тайного…
Вадковский резко повернулся и отошел к окну. Несколько мгновений он стоял спиной к Шервуду, нервно барабаня пальцами по подоконнику, потом так же резко повернулся к нему лицом и крикнул:
– Иначе не может быть! Наше общество без вас быть не должно…
Все ликовало в душе Шервуда. Но он заговорил притворно испуганным голосом:
– Я прошу вас ничего не говорить! Здесь не время и не место. Если вы так настаиваете, я даю слово, что приеду туда, где стоит ваш полк. Честное слово, приеду…
– Жду вас в Курске.
– А вы все о том же?! – неожиданно раздался с порога голос графа Булгари. Он осуждающе взглянул на Вадковского: не слишком ли откровенен этот горячий молодой человек? И обратился к Шервуду: – А нам пора и о деле поговорить, за коим ты ко мне пожаловал…
* * *
Лещинский лагерь раскинулся в пятнадцати верстах от большой почтовой дороги, что ведет из Житомира в Бердичев. Квартиры тесные, хаты битком набиты, и многие офицеры предпочитали жить в палатках или балаганах – легких лагерных строениях.
Собрание общества Славян и Южного общества назначили в деревне Млинищах на квартире артиллерийского подпоручика Андреевича. Жил он на самом краю села, в сосновом бору. За домом обрыв, перед забором заброшенное кладбище. Хозяин, дьячок, перебрался жить в баньку, так что сборищу помешать не мог. Денщика своего Андреевич в тот вечер услал с поручением в Житомир – ни к чему посторонний глаз.
Собрание назначили в семь часов вечера. Приезжавшие оставляли лошадей на деревне и поодиночке, чтобы не внушать подозрений, бором шли к дому.
Уже все были в сборе, а Сергей Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин запаздывали.
Иван Горбачевский – один из руководителей общества Славян – негромко переговаривался с Борисовым:
– Хороший этот Бестужев-Рюмин, – улыбнувшись, сказал Горбачевский. – Недавно присутствовал я на уроке, который давал он солдату Цибуленко. Грамоте обучал…
– Дело нужное, – негромко сказал Борисов.
– Конечно… Долго он бился, пока Цибуленко корявыми пальцами стал выводить большие кривые буквы. Как вы думаете, что он писал?
– Не знаю, – улыбнулся Борисов.
– «Брут. Кассий. Лафайет. Конституция». Я говорю: «Михаил Павлович, не поймет он ничего!» А тот упрямо свое твердит: «Поймет, обязательно поймет! Только терпение нужно…» И такая в словах убежденность, что я подумал: может, правда когда-нибудь поймет?
– Убеждение – великая сила, – задумчиво сказал Борисов, поднимая на Горбачевского большие голубые, немного навыкате глаза.
– Идут! Идут! – раздался возглас.
В хату вошел Сергей Муравьев-Апостол, подтянутый, с высоко поднятой головой. Чуть полноватый, он двигался легко и бесшумно.
Следом за ним быстрым мальчишеским шагом вбежал Бестужев-Рюмин.
– Прошу прощения, господа – сказал Сергей Муравьев-Апостол мягким медлительным голосом. – Неожиданно вызвали в штаб, потому задержались.
Андреевич закрыл окна, и все сели за стол, стоявший посреди комнаты.
Тускло мерцали сальные свечи, и красные отблески ложились на белые мазаные стены.
Председатель собрания очень коротко сказал, что цель нынешней встречи – принять решение о слиянии двух обществ – Южного и Соединенных славян, после чего предоставил слово Бестужеву-Рюмину.
Михаил Павлович заговорил сбивчиво, он то краснел, то бледнел, и от этого яснее выступали рыженькие веснушки на его худеньком остроносом лице. Но вдруг словно что-то переломилось в нем, он весь преобразился, маленькие коричневые глаза стали огромными, он взмахнул рукой, и не было в комнате человека, который в этот миг не бросился бы за ним…
«Восторг пигмея делает гигантом!» – вспомнил Сергей Иванович, глядя на Бестужева-Рюмина.
– Силы Южного общества огромны! – говорил он звонко и отчетливо. – Москва и Петербург готовы к восстанию. Стоит лишь схватить минуту – и все готово восстать! Управы общества находятся в Тульчине, Василькове, Каменке, Киеве, Вильне, Варшаве, Москве, Петербурге и других городах империи! Польское общество находится в сношениях с прочими политическими обществами Европы…
Сергей Иванович понимал, что в словах Бестужева-Рюмина много преувеличений, но он видел, как загорались лица слушателей, и не решился остановить его.
Михаил Павлович закончил свою речь.
– Слово Горбачевскому, – сказал председатель.
Горбачевский поднялся, коренастый, широкий и, выставив вперед крепкую красную ладонь, сказал:
– Мы, Соединенные славяне, дав клятву посвятить свою жизнь освобождению славянских племен, не можем нарушить сей клятвы. Подчинив себя Южному обществу, будем ли мы в силах исполнить ее?
– Преобразование России откроет путь к вольности всем славянским народам! – выкрикнул Бестужев-Рюмин. – Россия, освобожденная от тиранства, освободит своих братьев, учредит республики и соединит их федеральным союзом! У нас одна цель, и наши силы принадлежат вам. Единственное условие – подчиняться во всем Державной думе Южного общества.
– Какая дума?! Из кого состоит? – раздались возгласы.
– Этого мы не можем вам открыть по правилам общества, – возразил Бестужев-Рюмин. – Но вот не угодно ли взглянуть?
Сергей Иванович внимательно и гордо наблюдал за Мишелем. Это была гордость учителя за своего талантливого ученика. Давно ли Бестужев-Рюмин был лишь послушным исполнителем поручений Муравьева и Пестеля? А теперь ему можно спокойно доверить действовать самостоятельно…
Бестужев-Рюмин взял лист бумаги, карандаш и начертил круг. Внутри круга написал «Державная дума», провел от него линии, а на концах линий нарисовал кружочки.
– Большой круг – Державная дума, – говорил он. – Линии – посредники. Малые кружки – округи, которые сносятся с думой через посредников.
Все столпились вокруг него, слушая жадно и внимательно.
– Господа, – раздался голос председателя. – Время позднее, а мы не решили то, ради чего собрались. Принято ли соединение обществ? Голосовать будем?
– Не надо! Принято!
– Господин секретарь, – обратился председатель к тихому чиновнику в потертом зеленом фраке. – Запишите в протокол: общества соединяются.
Слово опять дали Бестужеву-Рюмину. Он заговорил тихо и торжественно:
– Господа! Мне поручено сообщить вам наш план. В следующем, в 1826 году на высочайшем смотру во время лагерного сбора Третьего корпуса члены общества, переодетые в солдатские мундиры, ночью при смене караула вторгшись в спальню государя, лишают его жизни. Одновременно северяне начинают восстание в Петербурге увозом царской фамилии в чужие края и объявляют временное правление двумя манифестами – к войскам и к народу. Пестель, директор Тульчинской управы, возмутив вторую армию, овладевает Киевом и устраивает первый лагерь. Я начальствую Третьим корпусом, иду на Москву. Там лагерь второй. Сергей Иванович Муравьев-Апостол едет в Петербург. Общество вручает ему гвардию – лагерь третий. Петербург, Москва, Киев – три укрепленных лагеря, и вся Россия в наших руках!
Мы навеки утвердим вольность и счастье России! Слава избавителям в позднейшем потомстве, вечная благодарность Отечества!..
Конная артиллерия вся готова, и вся гусарская дивизия, и Пензенский полк, и Черниговский – хоть сейчас в поход! Да и командиры полков на все согласны… Вождь Риего прошел Испанию и восстановил вольность в отечестве с помощью трехсот человек, а мы чтоб с целыми полками ничего не сделали! Да начни мы хоть завтра…
Словно ураган пролетел по собранию. Возбужденные люди вскакивали с мест. То там, то тут слышались возгласы:
– Умрем на штыках!
– На Житомир!
– На Москву!
– На Киев!
– На Петербург!
– Завтра!
– Нет, господа, – раздался спокойный и глуховатый голос Сергея Муравьева-Апостола. – Завтра мы не начнем. – Он покачал головой. В избе стало неожиданно тихо. – Начать завтра, – размеренно продолжал Муравьев-Апостол, – это значит погубить все дело. Ежели слова мои обидны, простите меня. Идучи на смерть, надо сохранять достоинство. Но вот что мы можем сделать завтра – дать клятву явиться с оружием в руках при первом же знаке командира и не щадя жизни биться за свободу. Согласны?
– Согласны! – прозвучал чей-то решительный голос.
Смолкли восторженные крики и возбужденные возгласы. Слова превращались в дело, а дело требовало спокойствия.
На улице была темная низкая ночь. По небу ползли тяжелые тучи. Мягким ковром стлалась под ногами опавшая хвоя. На одном конце длинной сосновой просеки белели хатки Млинищ, на другом – внизу, под обрывом, раскинулись лагерные палатки.
Спали луга и рощи, высились безмолвные зеленые холмы. Как тихо! Только ровное похрапывание коней нарушало ночную тишь.
Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин ехали молча. Сергей Иванович сбоку взглянул на Мишеля. Его бледное лицо было усталым и погашенным.
«Оратор, трибун… – с гордостью подумал Муравьев-Апостол, глядя на него. – Как говорил сегодня! Ежели жив останется, суждена ему большая дорога…»
И от этого «ежели» горестно сжалось сердце. Ведь это он привел юношу на путь, который может окончиться гибелью. Имел ли он на это право? И, подъехав вплотную, он негромко спросил:
– Устал, Миша?
Бестужев-Рюмин поднял на него счастливые влажные глаза, совсем по-детски потерся щекой о плечо Муравьева-Апостола и, словно отвечая на его мысли, прошептал:
– Спасибо тебе! За все спасибо…
– Ну что ты, что ты… – смущенно и беспомощно проговорил Сергей Иванович и, чтобы перевести разговор, добавил: – Минувшей ночью мне что-то грустно стало, я стихи написал, послушай! – И он прочел по-французски: – Я пройду по земле, всегда одинокий и задумчивый, и никто меня не узнает. Только в конце моей жизни блеснет над нею свет великий, и тогда люди увидят, что они потеряли…
* * *
Боялись слежки и потому на следующий день решили собраться в самый безопасный час – перед рассветом. Где-то далеко перекликались петухи, лениво перебрехивались собаки. Изба Андреевича преобразилась. Чисто вымыли пол, выскоблили скамьи, до блеска протерли окна. Стол покрыли белоснежной скатертью. На столе торжественно лежало евангелие в переплете из малинового бархата, а рядом обнаженная шпага. Славяне, вступая в общество, клялись на шпаге и на евангелии.
Собравшиеся бродили по комнате, говорили вполголоса. Настроение таинственной торжественности охватило всех.
Бестужев-Рюмин, сидя в сторонке, что-то быстро писал на листках своим мелким четким почерком. Он хмурился, покусывая оттопыренную губу, ерошил волосы.
«Волнуется…» – взглянув на него, подумал Муравьев-Апостол и вдруг сказал громко:
– Пора начинать, друзья!
К столу подошел, вернее, подбежал Бестужев-Рюмин. Яркая краска заливала его лицо. Он рванул ворот мундира, словно ему было душно, заговорил быстро, сбивчиво. Но мгновение – голос его окреп, слова набрали силу. И уже опять никто ничего не видел, кроме его вдохновенного лица с горящими зеленовато-коричневыми глазами, никто ничего не слышал, кроме звенящего, подчиняющего себе голоса:

– Век славы военной с Наполеоном кончился! Теперь настало время освобождения народов. И неужели русские, ознаменовавшие себя столь блистательными подвигами в войне Отечественной, русские, исторгшие Европу из-под ига Наполеона, не свергнут собственного ига и не отличат себя благородной ревностью, когда дело пойдет о спасении отечества, счастливое преобразование коего зависит от любви нашей к свободе!
Бестужев-Рюмин перевел дыхание и услышал, как легкий вздох прошел по избе. Он понял: сейчас в его власти делать с этими людьми все, что он хочет.
– Взгляните на народ, как он угнетен! – воскликнул он, и у слушателей мурашки прошли по спине при звуке звенящего юношеского голоса. – Торговля упала, промышленности почти нет, бедность до того доходит, что нечем платить не только подати, но даже недоимки. Войско все ропщет. При сих обстоятельствах нетрудно было обществу нашему распространиться и прийти в состояние грозное и могущественное. Почти все люди с просвещением или к оному принадлежат, или цель его одобряют. Многие из тех, коих правительство считает вернейшими оплотами самовластья – сего источника всех зол, – уже давно ревностно нам содействуют. Самая осторожность ныне заставляет вступить в общество, ибо все люди, благородно мыслящие, ненавистны правительству – они подозреваемы и находятся в беспрестанной опасности. Общество по своей многочисленности и могуществу вернейшее для них убежище. Скоро оно восприемлет свои действия и освободит Россию и, может быть, целую Европу!
Порывы всех народов удерживает русская армия, коль скоро она провозгласит свободу – все народы восторжествуют. Великое дело совершится, и нас провозгласят героями века!
И вдруг, отшвырнув лист бумаги, он взмахнул рукой и воскликнул:
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
«Отчизне, родине, матери…» – пронеслось у него в голове.
«Мама, мама! Она бы поняла, все поняла… – думал он, дрожащими руками расстегивая ворот и доставая образок, которым благословила его Екатерина Васильевна. На образе было лицо матери, потемневшее, скорбное, такое, как у всех матерей на свете, когда они тревожатся за судьбы своих детей. Он глядел на это лицо, и чувство вины поднималось в его сердце. – Мама, ты больна, ты звала меня, а я, занятый делами общества, не смог приехать. Мама, прости… – мысленно шептал он. – Я не виноват, я ради родины нашей… Не виноват я, клянусь…»
И вдруг, сам того не замечая, повторил громко:
– Клянусь!
Опомнившись, он продолжал:
– Клянусь умереть за свободу! – он прильнул губами к образку. – Клянусь тебе, Россия, мать… – бормотал он, стараясь изо всех сил не заплакать, и торопливо передал образок Сергею Муравьеву-Апостолу.
Образок пошел по кругу.
– Клянусь!
– Клянусь! – торжественно повторяли собравшиеся.
– Да здравствует конституция!
– Да здравствует республика!
– Умрем за свободу!
«Но почему они все время о смерти? – вдруг подумал Бестужев-Рюмин. – Мы добра людям хотим, почему же должны умереть? Я не хочу умирать! Я жизнь люблю, все люблю…» – сбивчиво думал он и крикнул:
– Зачем умирать?! Мы молоды, наградою нашей будет не смерть, а слава!
– Сражаться до последней капли крови – вот наша награда! – громко и спокойно проговорил Борисов.
* * *
Нет, не тот человек был Джон Шервуд, чтобы упустить счастье, когда оно шло к нему в руки. Не имея богатой родни и знатных покровителей, он хорошо усвоил русскую поговорку о том, что человек – кузнец своего счастья. И еще он запомнил: ковать железо надо, пока оно горячо. И он стал ковать свое счастье.
Летом 1825 года император Александр I с удивлением читал письмо некоего унтер-офицера Третьего украинского полка Ивана Шервуда, в котором тот всеподданейше умолял императора под любым предлогом доставить его в Петербург, дабы имеет необходимость сообщить о важном деле, касающемся лично государя.
7 июля поручик фельдъегерского корпуса доставил Шервуда к графу Аракчееву в село Грузино Новгородской губернии. Село это, раскинувшееся на берегу реки Волхов, было подарено графу Аракчееву императором Павлом.
Шервуд знал, что Грузино – центр военных поселений. По службе ему приходилось бывать в подобных поселениях, но то, что он увидел в Грузино, поразило его.
Поселение тянулось на многие версты. Такая правильность и единообразие во всем, что невозможно было отличить одно село от другого.
Одинаковые розовые домики стояли ровно, как солдаты в строю. Улицы казались бесконечными. По всему пути аллеи тощих берез, одинаково подстриженные. Крылечки все красные, мостики зеленые. Чисто, гладко, словно лаком крыто.
Все должно было быть одинаковым в военных аракчеевских поселениях. Шервуд вспомнил правила, которые ему приходилось изучать. Тончайшие правила на все: какими должны быть метелки, коими улицы подметаются. О стеклах оконных правила. И о свиньях правила. Работы земледельческие тоже по правилам: мужики по ротам расписаны, острижены, обриты, одеты в мундиры. В мундирах под звук барабана выходят пахать. Под команду капрала идут за сохою, вытянувшись, как будто маршируют. Маршируют и на гумнах, где каждый день происходят учения.
Детей с шестилетнего возраста одевали в мундиры. Вот и сейчас, завидев коляску с фельдъегерем, маленькие солдатики вытягивались во фрунт и тоненькими голосами выкрикивали:
– Здравия желаем!
Шервуд заглядывал в окна, мелькавшие мимо, и там видел такое же единообразие – одинаково расположенные комнаты, одинаковую мебель, выкрашенную в дикий кирпичный цвет.
Жизнь в домах тоже расписана: в какие часы открывать и закрывать форточки, когда мести комнаты, когда обмывать младенцев.
Шервуд вспомнил передававшийся из уст в уста рассказ, как однажды, когда государь император посетил Грузино и пожелал отобедать у одного из военных поселенцев, то щи подали такие жирные, а кашу такую румяную, что государь со свитой нахвалиться не мог.
– Нектар и амброзия! – слышались восклицания.
А потом подали жареного поросенка.
Один из флигель-адъютантов, догадавшись, что тут дело нечисто, отрезал поросенку ухо в первой избе, в пятой на то же место приставил – пока государь из дома в дом переходил, жаркое передавали по задворкам.
Мужики аллейки мели, а в поле рожь осыпалась, сено гнило. Кабаки позакрывали, а мужики с горя все равно мертвецки пьют. Кто не пьет, в уме мешается. Недаром ходит по России поговорка: «Спаси, господи, крещеный народ от Аракчеева…»
У Шервуда поджилки тряслись при мысли, что через час-другой ему предстоит предстать пред грозные очи верного государева слуги, который вот уже сколько лет вершит в России все дела. Но Шервуд решил твердо стоять на своем и ничего Аракчееву не открывать.
* * *
Аракчеев, «надменный временщик и подлый и коварный», как навсегда заклеймил его в своей оде Рылеев, в этот послеобеденный час никак не мог заснуть, ворочаясь на жестком диване. Нервы расшатались, и, чтобы привести себя в душевное равновесие, он считал в уме, сколько метелок нужно для грузинского хозяйства. «В кухню господскую, – прикидывал он, – по две метелки в неделю, итого сто четыре штуки в год. В службы людские, не меньше пяти в неделю, а в год – двести шестьдесят… В оранжереи, в конюшни, во флигеля, на год одна тысяча восемьсот девяносто, на пять лет – девять тысяч четыреста пятьдесят, на двадцать пять лет…»
Цифры складывались ровные, послушные. Что может быть успокоительнее послушания и точности?
Аракчееву так понравилось это занятие, что он придумал задачку посложнее. Сколько щебенки нужно для шоссе от Грузина до Чудова, если куча в вышину три аршина тринадцать вершков, а по откосу четыре аршина девять вершков? Но даже его натренированный ум справиться с этой задачей не мог. Аракчеев взял обгрызанный карандаш, клочок бумаги и хотел было приступить к успокоительным вычислениям, как доложили о прибытии Шервуда.
Шервуд вошел в кабинет взволнованный, напряженный, как был с дороги, в пропыленном мундире. Аракчеев поглядел на него строго. Всех людей от взгляда Аракчеева дрожь пробирала, а Шервуд встретил его спокойно. В холодных светлых глазах англичанина ничего не отразилось.
Аракчеев долго расспрашивал Шервуда, откуда он родом, кто отец и мать, давно ли в России.
– Знаешь ли языки, кроме русского?
– Французский, немецкий и английский, – также спокойно, не повышая голоса и не меняя интонации, ответил Шервуд.
– О, братец! – воскликнул Аракчеев. – Да ты ученее меня… Тебе положено бы знать: когда унтер-офицер хочет писать государю императору, он должен передать письмо взводному командиру, взводный – эскадронному, тот – полковому, полковой – бригадному, бригадный – дивизионному, дивизионный – корпусному, корпусной – мне! А я бы представил государю императору.
– Смею ли спросить ваше сиятельство?
– Говори!
– А если бы я не хотел, чтобы ни взводный, ни полковой, ни корпусной, ни даже ваше сиятельство об этом знали, как бы вы приказали мне поступить в данном случае? – нагло спросил Шервуд, понимая, что сейчас решается его судьба.
Аракчеев даже поперхнулся. Кадык на его шее задвигался, он сделал несколько глотательных движений и вдруг сказал неожиданно:
– Ну, братец, в таком случае ты очень умно поступил! Но я все-таки твой начальник, и ты, верно, знаешь, как предан я государю. А потому скажи мне: в чем дело?







![Книга В добровольном изгнании [О женах и сестрах декабристов] автора Элеонора Павлюченко](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-v-dobrovolnom-izgnanii-o-zhenah-i-sestrah-dekabristov-79140.jpg)
