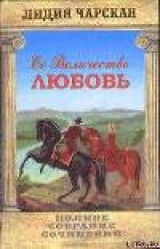
Текст книги "Том 23. Её величество Любовь"
Автор книги: Лидия Чарская
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
Пруссаки опешили в первый момент.
Однако белокурый говорит:
– Но почему же? Я не вижу причины пренебрегать нашим обществом.
– Муся! Ради Бога, Муся! Ты погубишь нас! – лепечет Карташова.
Но девочка только встряхивает в ответ кудрями и говорит:
– Хорошо! Скажи им, Верочка, что мы окажем им эту честь, но я надеюсь, что и они не заставят нас раскаяться в нашей любезности.
Вслед за тем Муся первая с гордо поднятой головой проходит мимо озадаченных пруссаков.
* * *
Комнаты старого дома нынче освещены, как в дни празднеств. В столовой сегодня особенно ярко и светло. Горят все свечи в люстре, все лампочки и бра на стенах. За столом сидят прусские офицеры с ротмистром во главе. Сам он уже немолод, но, по-видимому, не прочь провести время в обществе женщин. Его глаза то и дело обращаются в сторону Веры, которая, по настоянию непрошеных гостей, заняла за столом место хозяйки дома. Муся и Варюша сидят молча, с поджатыми губами. В лице первой запечатлелось выражение ненависти и гадливости, а черты Варюши искажены страхом. Обе они молчат, несмотря на все старания немцев втянуть их в разговор. Маргарита Федоровна не садится; она хлопочет с закуской и ужином, помогая Анусе, ошалевшей от страха. Вся остальная прислуга разбежалась.
Немцы едят так, как будто не имели во рту ни кусочка всю неделю, но пьют еще больше. Поминутно сменяются бутылки на столе и хлопают пробки от шампанского. Их лица раскраснелись, языки развязались. Шутки стали нахальнее, смелее.
Маленькие глазки ротмистра уже все чаще и чаще останавливаются со странным выражением на строгом лице Веры; ему положительно импонирует оригинальная внешность русской. Он любит таких смуглых цыганок с черными глазищами.
Четыре молодых лейтенанта увиваются вокруг девушек. Один из них, с рыжими распущенными, как у кота, усами, особенно липнет к Мусе. И белокурый – тот, что пришел к ним во главе депутации приглашать их к ужину, не отстает. За Варюшей увиваются двое пруссаков: один – совсем еще молодой, другой – толстый, круглый, с осовевшим от вина взглядом. Три других офицера мало обращают внимания на девушек, они занялись ужином и вином.
Вдруг осовелый от шампанского белокурый офицер наклоняется к Мусе, и, прежде чем она успевает крикнуть и отстраниться, горячие, пропитанные запахом сигары и вина, губы касаются ее похолодевшего маленького ушка.
– Что? Как вы смели? Как вы смели? – топая ногами, кричит девушка с исказившимся от отвращения и гнева лицом.
Ротмистр, только что доказывавший Вере всю несправедливость создавшегося о немцах в России мнения, выставляющего их с самой отрицательной стороны, бросает в сторону молодежи быстрый, тревожный взгляд и тотчас же останавливает им офицеров.
– О, ничего особенного! – говорит он. – Не беспокойтесь, барышня, это – только маленькая шутка. Молодежи так свойственно увлекаться. И что в сущности убудет от вас, милая барышня, если вас поцелует один из героев прославленной прусской армии?
Но его блестящая речь пропадает даром; Вера поднимается возмущенная со своего места.
– Послушайте, – начинает она, – мы надеялись, что имеем дело с джентльменами, а вы… а вы позволяете себе оскорблять беззащитных девушек. Стыдитесь, господа!
– Оскорбляем беззащитных девушек? Ха-ха-ха!.. Но вы преувеличиваете, барышня! – смеется ротмистр. – И какое может быть оскорбление в том, что господин лейтенант позволил себе наградить поцелуем понравившуюся ему хорошенькую девушку?
– Но вы забываете, что эта девушка – не какая-нибудь Эмма или Лизхен, маленькая мещанка из предместья Берлина, а русская дворянка. Мы – Бонч-Старнаковские, сударь, – вызывающе говорит Вера, глядя в заплывшие жиром глазки начальника отряда.
– Это подло! Это низко! – бросает в свою очередь Муся. – И если вы осмелитесь еще раз прикоснуться ко мне, то я…
Но слова ее сильнее шампанского ударяют в голову белокурого пруссака. В его мозгу тяжело бродят два хмеля: один – от близости юной девушки, другой – от выпитого через меру вина.
– Бутончик! Белый розанчик! – шепчет он, сопровождая свои слова плотоядным взглядом, и протягивает к Мусе руки.
– Подлый немец! Посмей только, посмей только! Я ненавижу тебя… ненавижу всех вас с вашим ужасным войском, с вашим безумным кайзером… – звенит теперь на весь дом отчаянный крик Муси и, перебежав комнату, она бросается как бы под защиту к Вере.
– Что такое? Что вы сказали? – слышатся со стороны немцев угрожающие голоса.
Теперь офицеры повскакали со своих мест и, шагая неверными, подгибающимися от хмеля ногами, окружили девушек.
– Да знаете ли вы, что за такие слова… – говорит ротмистр, хватаясь за стол и всячески стараясь соблюдать равновесие.
Рев автомобиля, раздавшийся во дворе, прервал угрозу.
– Это – он!.. Наконец-то! – обрадовались кому-то немцы.
В соседней комнате раздались твердые шаги. Зазвенели шпоры, и вновь приехавший молодой прусский офицер стремительно вошел в комнату.
Все взгляды немедленно обратились к нему.
– Наконец-то и вы! Признаюсь, вы умеете заставлять себя ждать. – И ротмистр первый шагнул навстречу вошедшему.
Вера взглянула на него и опешила:
– Рудольф!
Да, это был он. В блестящем мундире штабного офицера, это был тем не менее он, любимый ею Рудольф Штейнберг. Так вот какого гостя ждали прусские драгуны еще сюда!
"О, если так… Великий Боже, не шлет ли его сама судьба к нам на помощь… его, Рудольфа?" – обожгла Веру радостная мысль.
Вера протянуда руки к нему навстречу.
– Рудольф! Рудя! Я знала, что вы вернетесь, что вы вспомните о нас, – шептала, как во сне, девушка, с восторгом и нежностью глядя на офицера.
Но он не двинулся с места, а насмешливо оглядывал ее с головы до ног.
– Что такое? Вы ждали меня? – язвительно переспросил он после бесконечной паузы. – Ждали после того, как ваш драгоценный папахен выгнал меня, как собаку, из своего дома, и не только меня, но и моего ни в чем не повинного отца? Вы очень самонадеянны, если думали, что все это не повлечет за собою наказания, отмщения с моей стороны.
"Что? Что он говорит?… Рудольф? Какого отмщения?"
И после короткого молчания Вера еще раз попыталась обратиться к нему.
– Нас оскорбляют, Рудольф. Заступитесь за нас, – прошептала она тихо.
Штейнберг смотрел на нее по-прежнему насмешливо.
Что? Да разве победители могут оскорблять? Ха-ха-ха! Что такое? Мои товарищи, насколько мне известно, поцеловали вашу сестру? Подумаешь, беда какая! – сказал он уже по-немецки.
– Конечно, этой полоумной девчонке следовало влепить пулю, а не поцелуй за ее оскорбительные выражения о славной германской нации и о главе ее – нашем кайзере, – сказал ротмистр.
– Именно так… пулю, а не поциуиуй… – послышались пьяные голоса.
– Постойте, мы придумаем нечто иное, и это будет во сто раз остроумнее, чем всякое другое наказание, – произнес Штейнберг со своей прежней ужасной улыбкой.
– Ру-до-льф… вы?… И вы тоже заодно с ними? – потрясенно произносит Вера.
– Что значит это "и вы тоже"? Я прежде всего – пруссак и враг славянства, а во-вторых… Но не стоит говорить об этом! Позовите-ка лучше сюда вашу красавицу, старшую сестру. Куда она спряталась? Чего испугалась? – внезапно переходя на русский язык, продолжает Штейнберг. – Я хочу показать моим друзьям, которые по моей рекомендации заехали сюда, хочу показать им жемчужину вашей семьи. Да и сам я не прочь взглянуть на прелестную Китти, после того как мне удалось снискать ее расположение у себя, за границей, – поспешил он докончить, дерзко поглядывая на испуганных барышень.
– Что? – вырвалось у тех четырех сразу.
Дыхание, казалось, остановилось в этот миг в груди Веры.
– Он лжет! Он лжет, этот подлец! Нельзя ему верить ни слова, – неожиданно вырвалось у Маргариты Федоровны, и она, как дикая кошка, рванувшись к Штейнбергу, вцепилась пальцами в его рукав. – Ты лжешь, мерзавец, собака! Чтобы наша барышня, наша красавица, умница… могла…
Но Рудольф даже не взглянул на нее: он так сильно тряхнул рукою, что Марго, как слабая былинка, отлетела в сторону.
Затем, обращаясь к одной Вере, он заговорил снова с циничной усмешкой на лице:
– Вы-то, надеюсь, поверили мне, милейшая фрейлейн, поверили тому, что ваша гордая, прекрасная сестра – Бонч-Старнаковская – а не кто-нибудь другой, заметьте! – променяла на меня господина Мансурова, что она…
– Это – ложь, ложь! Не смейте клеветать на Китти! Низкий, грязный человек! – вне себя закричала Муся и разразилась плачем.
– Вы можете не верить, и я не стану настаивать на этом! – пожав плечами, продолжал Штейнберг. – Мне важно только, чтобы в это поверили вы, фрейлейн Вера. И по вашим глазам я вижу, что вы поверили мне. Правда, о таких случаях честные люди не говорят громко. Но со мною здесь, в этом доме, поступили бесчестно, и это дает мне право в свою очередь не считаться с условностями. Итак, я утверждаю, что девушка из прекрасной русской дворянской семьи, кичившейся своим именем, своими связами, аристократическим происхождением и своим положением в свете, была моей любовницей. Ваш отец не пожелал отдать вас мне в жены и оскорбил меня, как последнего вора и преступника. Ну так вот я и взял у него за это большее: взял в наложницы его гордость, его старшую дочь, вашу сестрицу Китти!
– Да замолчите ли вы, проклятый? – сорвалось с губ Маргариты, тогда как Вера угрюмо молчала с застывшим, как мрамор, лицом.
– Еще одно оскорбление, и я прикажу вас расстрелять, сударыня! В моем лице вы оскорбляете мундир всей нашей прусской армии, – произнес Рудольф спокойно, причем его выпуклые глаза обдали Маргариту уничтожающим взглядом, а рука стиснула эфес сабли.
– Молчите, Марго, молчите, ради Бога!.. Верочка! Верочка!.. Что ты? Что с тобою? – испуганно спрашивала Муся, бросаясь от сестры к Маргарите.
Вера смотрела в самые зрачки Штейнберга и вдруг неожиданно и тихо-тихо как подкошенная упала на пол.
– Это ничего. Маленький обморок. Поваляется и встанет. Во всяком случае, такое ничтожное обстоятельство не должно мешать, господа, уже намеченной программе вечера, – небрежно бросил Штейнберг, обращаясь к своим коллегам. – Насколько я понял вас, эти девчурки позволили оскорбить честь немецкого мундира? – после минутной паузы спросил он у них.
– Хуже, коллега, хуже! Они непочтительно выражались о его величестве, самом всемилостивейшем кайзере, – послышался чей-то нетвердый голос.
– Ага, так-то! Ну, в таком случае я заставлю их искупить эту вину, – продолжал Штейнберг, сдвигая брови. – Пусть кричат «ура» его величеству императору Германии и королю Пруссии.
– Или?
Рудольф, презрительно усмехнувшись, ответил:
– Да разве нет у нас солдат? Пускай расправляются с ними, как хотят!
* * *
В полутемной кухне горела одна только свечка. Рожок на стене был разбит кем-то из пруссаков под пьяную руку вдребезги. Несколько драгун, только что покончив с обильным возлиянием и ужином, были совершенно пьяны и собирались разместиться на покой.
Из комнат к ним сюда доносились крики, шум и женские отчаянные слезы под аккомпанемент пьяного хохота.
Солдаты прислушивались к ним несколько минут.
– Уж эти господа офицеры, – смеясь сказал сивоусый унтер, – умеют, нечего сказать, провести времечко! Давеча обходили все комнаты и забирали все, что можно забрать; оправдывались все реквизицией. Недурное дело – эта реквизиция, право! Управляющего приказали расстрелять за то, что он отказался открыть конюшню, прислугу выгнали из дома, а теперь потешаются вволю – пугают здешних хозяек дома.
– Умора! – воскликнул другой солдат. – Штабный офицер тут приехал, так тот все здесь знает, каждую нитку. Он, говорят, и отряд на постой пригласил сюда, и указывал нашим, где и что спрятано, а теперь никак допрашивает хозяек, не осталось ли у них еще что-нибудь.
– Какое допрашивает, – вмешался в разговор третий, – просто душу отводит. Подходил я послушать у дверей. Штабный велит девчонкам «ура» кричать нашему кайзеру и армии. Ну а те упрямятся. Смех, да и только!
– Стойте, стойте, кажется, идут сюда… Соддаты вскочили и вытянулись в струнку. Уже под самыми дверьми были слышны слезы, мольбы и вопли женщин, а громкий мужской голос, взбешенный и грубый, кричал на весь дом, на всю усадьбу:
– Эй, вы, кто тут есть! Сюда, драгуны! Живо сюда!
* * *
Эти крики, дикий хохот и угрозы достигли слуха больной Софьи Ивановны. Пламя костра, разложенного на дворе, освещало, как зарево, ее комнату.
В спящем сознании больной медленно и лениво проползла мысль-догадка:
"Где-то горит!.. Где-то пожар! Надо сейчас же, скорее поднять, разбудить дочерей".
Больная сделала усилие встать. Как тяжело двигаться. Она встала с постели, кое-как нашла и надела капот… туфли.
– Китти… – жалобно прошептала она, – где ты, голубка?
Вдруг остро и назойливо толкнулась в спящее сознание мысль: "Это Китти кричит… Зовет на помощь… Надо идти, скорее идти… надо… помочь!"
Медленно и тяжело шагая, Бонч-Старнаковская пошла, хватаясь за встречные предметы, ища в них поддержку.
Она тихо вышла из спальни, миновала коридор, затем комнату Китти, приоткрыла дверь и заглянула туда. Там не было никого, комната была пуста. А крики по соседству все усиливались.
"Теперь Мусичка как будто кричит, – с трудом соображала больная, – ее голосок… Зовет на помощь".
– Не пущу! Не дам в обиду, не дам! – пролепетала она и живо распахнула дверь, за которой звенел раздирающий душу крик.
Пятеро пьяных, едва имеющих силы стоять на ногах, немецких солдат метались по буфетной, распластав руки, стараясь схватить две тонкие, маленькие фигуры, то и дело быстро ускользавшие у них из-под пальцев.
Муся и Варюша, несколько минут тому назад втолкнутые к пьяным драгунам, с отчаянием кружились по комнате, стараясь миновать руки солдат.
"Нет, нет! Лучше смерть, нежели этот ужас, – вихрем пронеслось в голове юной хозяйки Отрадного. – Ведь не побоялись же мы с Варей ослушаться их, не кричали же мы по их требованию «ура» Вильгельму. Так неужели же теперь мы задумаемся пред тем, что выбрать, неужели не сумеем предпочесть смерть позору?"
Муся, сделав последнее усилие, бросилась в угол, чтобы миновать сидящего на табурете немца.
Вдруг потные, противные руки схватили ее.
– А-а-а! – вырвалось воплем ужаса из горла Муси. – А-а-а… спасите, спасите!
Но огромная ладонь в ту же минуту зажала ей рот, а лоснящееся от пота лицо, дыша винным перегаром, низко-низко склонилось над ее лицом.
– Ну-ну. Зачем так кричать? Зачем так биться? Лучше обними меня, сердечко мое! – прозвучал над нею пьяный голос.
– Верочка! Верочка! Спаси! Марго! Варя! – иступленно крикнула Муся, отчаянно отбиваясь.
В следующий миг такой же крик, но более жуткий, пронесся по всем закоулкам большого дома.
Дверь буфетной распахнулась наотмашь, и все находившиеся здесь солдаты замерли с испуганно вытаращенными глазами.
– Кто это? Дьявол? Привидение? Ведьма? Исчадие ада, наконец? – послышались возгласы.
Она была действительно страшна, эта женщина: худая, высохшая, как скелет, в белом, сидящем на ней, как на вешалке, халате, с седыми волосами, разбросанными по плечам, с жуткой, блуждающей улыбкой и с совершенно пустым взглядом безумных глаз. У нее было желтое, как воск, лицо и огромные, распухшие ноги. И, улыбаясь своей страшной улыбкой, она лепетала одно и то же:
– Не пущу, не пущу, не пущу!
Всю жизнь будут помнить девушки тот ужас, ту панику их мучителей в минуту появления Софьи Ивановны. Они заметались по буфетной, отыскивая оружие, бормоча что-то бессвязное.
Варя и Муся воспользовались этой сумятицей и выскочили через буфетную на террасу, а оттуда – в сад.
Там они притаились в отдаленном углу в стенах старой беседки, неподалеку у пруда.
* * *
Вера очнулась и открыла глаза, когда октябрьское утро уже светило в комнату. Она с трудом подняла голову.
Всюду вокруг валялись пустые и битые бутылки, коробки от консервов, куски хлеба, следы ночного пиршества отпечатались на всем. Но в комнате никого не было; только на одном из стульев лежала второпях забытая кем-то из немцев каска.
Девушка с трудом приподнялась на ноги и, едва находя в себе силы двигаться от слабости, вышла в гостиную. Здесь все носило следы разрушения и погрома: разбитое зеркало, сорванные портьеры, исчезнувшие ковры.
И в ее комнате, и у Китти, и у девочек все было также разграблено и опустошено. Были выдвинуты ящики комодов, где теперь и следа не оставалось от белья, опустошены платяные шкафы и буфеты; все они наглядно говорили о происшедшем здесь.
Двигаясь, как автомат, Вера пошла дальше, в спальню матери, и, к своему ужасу, не нашла в ней больной.
Она позвонила. Никто не явился на зов. Позвонила еще раз – то же молчание царило в доме, точно все вымерло в нем.
С ледяным холодом в сердце девушка прошла дальше, через парадные комнаты в людскую и осмотрела ее.
Там тоже не было ни души.
На пороге буфетной что-то резко белело на паркете.
Вера приблизилась к огромному, распластанному на полу предмету и с тихим стоном отступила назад. На нее смотрели незрячие, мертвые, уже успевшие остекленеть, глаза Софьи Ивановны.
Вера ничего не могла сообразить; мозг словно застыл у нее, и она почти без сознания опустилась на стул.
Прошло полчаса.
Постепенно Вера стала приходить в себя и сознавать все, что произошло.
– Все кончено, – проговорила она вслух самой себе, и странно прозвучал ее голос среди мертвой тишины дома. – Все кончено… Мама скончалась, Мусю они забрали с собою, конечно, Варю тоже. О, они не пощадили бедных детей! И все это наделал Рудольф, он – главная причина всех бедствий!
Губы девушки произносили это имя, и леденящий душу ужас волною захлестнул все ее существо. Рудольф, тот, кого она любила и кого ценила, как лучшее сокровище в мире, оказался величайшим негодяем, преступником, гадиной, о которой страшно подумать даже. Он никогда не любил ее; она теперь только поняла это.
И что он сделал с бедняжкой Китти? Да, сейчас она, Вера, знает, что из-за него случилось непоправимое за границей с ее сестрой. Недаром же Китти всю передергивало при одном имени Рудольфа в последнее время. А ее отказ Мансурову, беспричинный, ничем не вызванный отказ? А эта резкая перемена в ее внешности, ее внезапное поступление в отряд Красного Креста. Да, несомненно, злодей не солгал.
А если все обстоит именно так, то стоит ли жить после этого? Их мать умерла – может быть, умерла ужасной смертью, видя бесчестие младшей дочери. И Муси нет? Что они сделали с обеими девочками? Куда подевали их? И Марго нет тоже. Проклятый! Это он погубил их всех, он, когда-то любимый так мучительно, так нежно!
"Неужели же и теперь я люблю его?" – И Вера задрожала от одной этой мысли.
Любовь… Неужели еще не умерло в ней это чувство к заведомому негодяю и злодею? А если нет, так пусть же она погибнет, нежели жить дальше с этим полным ужасов адом в душе!
Она вышла из сада и побрела по знакомой аллее. Обрывки мыслей плыли вместе с нею в ее усталой, измученной голове.
Вот и пруд, холодный и молчаливый, с суровой ласковостью играющий на солнце. Голые ветлы отражаются в нем. И серое небо тоже.
Вера остановилась на берегу пруда, посмотрела с минуту в воду, и оттуда опять взглянуло на нее смуглое лицо с трагической складкой около рта, черные глаза, полные мрака, и сурово сдвинутые брови.
– Бабушка, это – ты? Иду! Иду к тебе, родная! – прошелестело над прудом.
Или то играл ветлами осенний ветер?
* * *
– Верочка! Вера! – послышался отчаянный вопль со стороны сада, и Муся, а за нею Варюша и Маргарита Федоровна побежали со всех ног к пруду.
Но Вера не слышала этого вопля, этого призыва живых. Ее душа уже заглянула за грани иного мира. Короткий всплеск, широкие круги на воде – и все было кончено.
Муся долго рассказывала потом, исходя в слезах, как увидели они Веру, как поняли, зачем она явилась сюда, как мчались предупредить несчастье и не успели спасти сестру.
Немцы ушли из Отрадного внезапно. Кто-то пустил слух, что идут казаки. Разграбив и забрав с собою все, что было возможно забрать и разграбить, они бежали.
После их ухода понемногу стала стекаться бежавшая в панике прислуга.
Тело Веры скоро отыскали в пруду и схоронили вместе с телом Софьи Ивановны – пока что, до поры, до времени – в саду усадьбы. Погребли рядом и жертву немецкого варварства, никому не сделавшую зла, управляющего усадьбой. Его флейта теперь замолкла навсегда.
С первою же представившеюся возможностью Муся с Варей Карташовой и Маргарита Федоровна, чудом спасшиеся от несчастья, поспешили уехать из этих жутких мест в Петербург, к убитому горем, вдвойне осиротевшему Владимиру Павловичу. Только там они узнали о поражении наглых тевтонов под Варшавой и беспорядочном отступлении немецкой армии.
Когда этот момент наступил, Владимир Павлович Бонч-Старнаковский с младшей дочерью вернулся в Отрадное за телами дорогих усопших и перевез их в столицу, в фамильный склеп.
* * *
Снова пестрый город, снова суета, движение, звонки и глухое завыванье трамваев, патрули, транспорты раненых, партии пленных – и огромное белое здание под флагом Красного Креста.
К этому белому зданию подъезжает простая сельская галицийская тележка без рессор, неистово грохочущая по мостовой.
– Сюда! Сюда! Остановитесь, пожалуйста! – взволнованно говорит молодая женщина, которую галичанин-возница подвозит к крыльцу.
Зина, прокружив с добрую сотню верст, прежде чем попасть снова в этот старый чудесный город, подъехала к крыльцу главного лазарета, где работает Китти. Когда она хотела пробраться на передовые позиции, ее не пустили. Анатолий ничего не ответил на ее письмо. Ей посоветовали уезжать обратно и переждать. Но, прежде чем попасть сюда, частью по железной дороге, частью в этой ужасной одноколке, пришлось долго кружить, избирая путь, не занятый войсками и обозами, отважно и безостановочно продвигающимися вперед. Наконец Зина попала снова в эти шумные улицы, но с какою ужасною тревогою на душе! Ни весточки, ни единого слова от любимого человека. Где он? Что с ним? Она ничего не знала о нем. Теперь оставалась последняя надежда на Китти. Хоть что-нибудь, да должна она была знать про брата!
Сердце Зины трепетало, когда она вошла в уже знакомый подъезд с развевающимся над ним флагом с Красным Крестом.
– Боже мой, Зиночка, на тебе лица нет, родная! – и Китти нежно обнимает кузину.
Ланская смотрит на нее и не узнает двоюродную сестру. Это – не Китти, а лишь ее тень. Как исхудала и изменилась она!
– Пустяки, работы много, – отвечает она на тревожный вопрос Зины. – Вот кончится война, отдохну, отосплюсь, растолстею. А ты-то… ты на себя взгляни, Зинушка! Милушка, или случилось что?
– Ужасно, Китти! Просто не знаю, что и подумать. Я ничего не знаю о нем. Я так и не видела маленького Толи.
– Зиночка!.. Так разве ты не знаешь? А я думала, что тебя уже известили, – смущенно роняет Бонч-Старнаковская.
– Чего не знаю? О чем известили? Что такое стряслось? Говори скорей, говори все!.. Ради Бога не мучь, Китти!
Китти отвечает:
– Зиночка, милая, успокойся! Толя жив. Успокойся, Зина, голубчик!.. Он только ранен. И он – здесь.
Китти, взяв двоюродную сестру за руку, ведет ее куда-то.
Но Ланская решительно не может дать себе отчет, куда ее ведут, не видит ни кроватей, ни раненых, ни санитаров, ни сестер, ни врачей. Только одно лицо, одни глаза она видит.
– Зи-и-на-а! – долетает до нее слабый, надорванный голос.
Лицо поражает своим измученным видом, своей худобой. Огромными кажутся глаза. Черная отросшая бородка, заострившийся нос, впалая грудь и крестик Георгия, приколотый поверх сорочки на этой исхудалой груди.
– Зи-и-на!
Ланская останавливается в двух шагах от постели, с минуту молча смотрит на это дорогое лицо, на впалую грудь, на крестик – отличие героя. И вдруг горячая волна безграничной нежности и муки ударяет ей в сердце, толкает ее к больному, бросает возле него на колени. Вслед затем, обхватив его руками, она, не будучи в силах сдержаться, плачет навзрыд.
Зина плачет долго-долго, со сладким отчаянием, с безнадежной радостью.
А раненый нежно повторяет на разные лады одно только единственное слово:
– Зи-и-на!
Наконец Ланская приходит в себя от легкого прикосновения его пальцев.
– Любимый мой, герой мой, счастье мое! Зачем ты тогда не приехал, не ответил, не позвал меня? Я страдала, потому что любила. Ведь я любила и люблю тебя, ненаглядный!
– Милая! Я не мог… Война… поручение… А потом… потом меня ранили, Зина, – тихо говорит Анатолий.
* * *
Теперь Зина сидит долгими часами у постели раненого. Скоро она повезет его в столицу. Безногий, обездоленный, он ей дороже во сто крат того здорового и жизнерадостного Анатолия, каким он был прежде. Теперь у нее в жизни новая, прекрасная цель: дать счастье несчастному, своей нежностью, заботами и любовью заставить его забыть о горе, отнявшем так много у него, такого еще молодого, полного жизни.
Китти не может смотреть без слез на эту трогательную пару. Она не ожидала от Зины, легкомысленной кокетки и эгоистки, какою у них считали в семье Ланскую, такого удивительного самоотвержения, такой жертвы.
И Китти припоминается другой подвиг самоотречения, другая жертва. Весь трагический ее роман с Мансуровым теперь постоянно проходит у нее в голове, особенно с тех пор, как Анатолий рассказал ей, кому он обязан своим спасением, кто подобрал его под пулями неприятеля, презирая опасность. О, этот великодушный Борис! Толя нескольво раз звал в бреду Мансурова и теперь все чаще и чаще говорит о нем. Из этих разговоров Китти вынесла вполне твердое убеждение, что ее встреча с Борисом теперь неизбежна.
И, действительно, вот они стоят один против другого. Китти не смеет поднять на него взор, и сердце ее полно отчаянья и любви.
Пользуясь краткой передышкой в работе, она тут, подле Бориса, приехавшего навестить Анатолия, пока их часть, меняя расположение позиций, идет мимо города.
Мансуров смотрит на опущенную золотую головку, на смущенные глаза и истаявшее личико, видит волнение и радость, охватившие Китти.
– Екатерина Владимировна, скажите! Ведь то был сон, мучительный и страшный кошмар?
Китти смущенно взглядывает на него.
– Да, кошмар, Борис, да!
– И вы не забыли меня?
– Никогда, Борис, никогда! – твердо отвечает Китти.
– А тогда, когда говорили те жестокие, те жуткие слова, тогда…
– Я говорила их против своей воли, Борис.
– И…
– И любила вас, Борис, не переставая, все время, все время.
Мансуров весь загорается радостью; от волнения он почти задыхается и лишь с трудом находит силы спросить:
– Дитя мое, так почему же?
Китти на минуту задумывается, видимо, борясь с собой. Наконец она тихо говорит:
– После, после, Борис. Я вам скажу об этом лишь тогда, когда окончательно исчезнет мой кошмар, когда дальнейшие труд, искупление, великая любовь и страданье за других окончательно сотрут мои собственные муки.
– О каком искуплении вы говорите, дорогая? Что бы ни было, какая бы страшная вина ни лежала на вас, я не смею даже говорить, заикаться о возможности прощения. Вы выше всего этого, Китти. И верьте мне, радость моя! Когда бы вы ни позвали меня, я приду к вам и почту за счастье, за особую честь назвать вас тем же, кем вы были раньше для меня.
– Благодарю вас, Борис. Я принимаю от вас это счастье, но пока, милый, дай мне довести мое скромное, маленькое дело, дай мне исполнить свою задачу до конца! Я должна на время забыть наше личное счастье и послужить тем, кто беззаветно идет на великий подвиг самоотречения, а там я – твоя, и уже навсегда, до могилы.
– Я буду ждать, Китти. Я запасусь терпением, дорогая, – говорит Борис, целуя бледные руки любимой женщины.
Они расстаются снова, но каждый уносит с собою радость облегченного страдания и пламя новой надежды.








