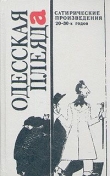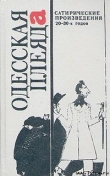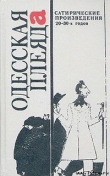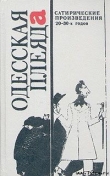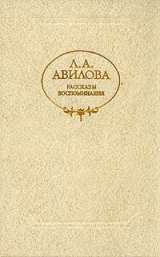
Текст книги "Воспоминания"
Автор книги: Лидия Авилова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 9 страниц)
[После 1916 года]
Я вернулась из Петрограда со свадьбы Нины в конце марта 1917 года. Знакомые, которые встречали меня на улице, не узнавали меня. Я стала старая, худая. А я не узнавала Москвы и чувствовала себя в ней чужой, как тень прошлого, изгнанного или раздавленного.
…По вечерам меня часто тянуло в привычные места, туда, где мы гуляли вместе с Мишей, к нашей тихой Спиридоновке, к нашему особнячку с садиком, где Миша сажал деревца. Ведь я еще могла видеть огни нашей люстры в гостиной и лампы с орлом в столовой. Я могла видеть наши занавески, картины, слышать, как лает Тилька в саду или на дворе. Еще жили в этом доме родные мне души: Олюшка, Маша. Но я шла не для того, чтобы видеться с ними, чтобы использовать то, что еще осталось реального. Я шла за обманом, за мечтой. Так легко было воображать, что ничего, ровно ничего не случилось, что все по-старому: Миша жив и сидит дома, ждет меня. В столовой накрывают стол к чаю. Дети, может быть, на балконе или разбрелись по своим комнатам. Ничего не случилось и ничего не изменилось, потому что привычно горят наши лампы и освещают знакомые обои, отражаются огни в нашем зеркале… Как же может быть, что уже нет нашей жизни в нашем доме?
…Когда Ниночка оправилась от болезни, мы вместе уехали в Клекотки.
Едва мы успели приехать, как пришла большая толпа мужиков. Они стали во дворе и ждали, а я вышла к ним на крылечко, еще не зная, как и о чем мы будем говорить. Но только что я показалась, как все руки поднялись и все головы обнажились. Сама не зная зачем, я сбежала со ступенек и вошла в их толпу. «Матушка, – говорили мне, – матушка… И узнать-то тебя нельзя! Царство ему небесное… Любили мы его…» Очень ярко помню и никогда не забуду, как один большой белокурый мужик ласково говорил: «Спи у нас спокойно! Спи спокойно! Мы тебя убережем, мы в обиду не дадим… Спи спокойно!» И другие говорили что-то в этом роде: «Чтобы никаких гуляниев в саду! Не допустим! Замучалась! Отдохни! Мы тут… Мы все тут…»
Что-то таяло в груди, становилось тепло, но не радостно, а мучительно больно…
И точно в тихом непрерывном сне прошли два месяца. «Спи, спи спокойно!» Разъехались все мои, и я осталась одна. О, эти длинные, длинные осенние вечера в моем кабинетике, со спущенными шторами, с горящей на письменном столе лампой, с бодрым, молодцеватым тиканьем стенных часов с розой над циферблатом в коридоре, за стеной. Были ночи тихие, точно мертвые, были ночи бурные, когда сад стонал и трещал, и в окна стучал ветер, а на дворе метались с лаем собаки. Но какая бы ни была ночь, я знала, что меня ждет всегда одно и то же, что это неминуемо: тихо и темно было во всем большом пустом доме, а я слышала пение, и пел Ниночкин милый, грустный голосок, и я не могла не слушать его. Я старалась читать или писать, но незаметно оставляла и книгу и тетрадь и слушала, слушала… И самое мучительное было то, что тогда припоминалось мне все, что пережила моя Ниночка, сколько выстрадала, сколько намучилась, и никого в жизни, никогда не жалела я такой щемящей жалостью, никогда в жизни, никого не любила я с таким отчаянием… Но, точно требуя справедливости и укоряя, появлялось исхудалое, строгое лицо Миши, мелькала словно обтаявшая фигура Левушки, открывались и исходили кровью все мои раны, а я сидела неподвижно и слушала и не могла не слушать.
Я «сбежала» из Клекоток в начале железнодорожной забастовки, когда пассажирские поезда уже переставали ходить, и попала в теплушку с солдатами, в поезд, который едва остановился у нашей станции, так как о нем по телеграфу известили, что в нем много пьяных и буйных и что солдаты громят буфеты. Меня подняли в вагон на руках, и я вползла в него на четвереньках. За мной побросали мой багаж, и мы сейчас же тронулись. Поздно было думать о том, что могло меня ожидать! Я сбежала, потому что не могла больше выносить Ниночкиного пения и моих мыслей и моей жалости.
Вот когда я поняла, что сердце может иногда ощущаться как маленький ледяной комочек!
Когда я решилась оглянуться, я увидела, что солдаты спокойно сидели и лежали. Некоторые пили чай, другие курили и переговаривались тихими голосами. Ни пьяных, ни буйных. Простые серьезные спокойные лица, и в тех взглядах, которые я поймала на себе, – равнодушное любопытство или покровительственная улыбка. Ни тени недоброжелательства. Я робко предложила папирос. Приняли с благодарностью, и тогда завязался разговор. Я уже не боялась усесться поудобнее, оглянуться повнимательнее, заручиться обещаниями, что на станции, где мне предстояла пересадка, мне помогут вынести мой багаж. Но на следующей же остановке к нашему вагону подбежала толпа чем-то очень возбужденных, громко кричащих солдат, и уже они полезли к нам, подстрекая друг друга… Но мои спутники быстро задвинули дверь теплушки и, ободряя меня, говорили: «Ничего! Небось!.. Ишь, сволочи!» Поезд неожиданно двинулся, потом опять остановился… На платформе ругались, кричали, бегали… Потом стало тихо, и поезд пошел.
И когда мы подошли к той станции, где мне надо было выходить, меня вынесли на руках осторожно и бережно. Так же бережно выгрузили и сложили на платформу мои вещи и ласково пожелали мне доброго пути. Никто из этих солдат наверное, никогда не вспоминает о седой женщине в трауре, которую они оберегали и приласкали, и я уже не помню ни одного лица, но какую богатую милостыню подали они моей душе! Сколько веры вернули!
Тихо, мирно, почти счастливо жилось мне в моих милых комнатках в маленьком городишке на берегу маленькой реки[77]77
Город Михайлов на реке Проне в Рязанской губ., где жила вдова брага Лидии Алексеевны Маргарита Николаевна Страхова, по второму мужу Бурмина.
[Закрыть]. Я мечтала прожить там всю зиму и только съездить погостить к детям в Москву. Нина и Левушка приезжали ко мне, мы с ними гуляли, говорили без конца, и тогда я не могла желать более полного счастья. Но обстоятельства изменились: за мной приехали Левушка и Ниночка и увезли меня в Москву. Как сейчас помню, как тонко и пронзительно свистел ветер в форточку моего окна, заклеенного бумагой. Мы с Ниной лежали и ждали, когда нам придут сказать, что пора ехать на вокзал. Поезда ходили с большим опозданием, и со станции обещали дать знать по телефону, когда поезд будет уже достаточно близко. Извозчики были наняты заранее. Ночь была очень светлая, но лунный свет был не яркий, а какой-то молочный, ровный, как в белую ночь. Ветер рвал и метал, и, когда мы вышли на крыльцо, мы сейчас же схватились за шляпы, согнулись, зажмурились… Не было снегу, но не было и грязи: подморозило, подсушило. И на земле, и на небе и в воздухе была какая-то муть. На мосту ветер был так силен, что мне казалось, что нашу пролетку может опрокинуть и что лошадь падает в ту сторону, куда отлетал ее хвост. В белой мути река неприветливо чернелась.
На вокзале мы узнали, что тот поезд, с которым мы собирались ехать, идет переполненный мешочниками и что их будут ссаживать. С этими мешочниками уже много боролись последнее время, но они не уменьшались, а увеличивались в числе. Мешки выбрасывали из вагонов прямо на платформы, реквизировали, мешочники протестовали, отбивались силой. Часто им удавалось подхватить свои мешки и втащить их в тот вагон, который уже был очищен и куда милиция уже не должна была вернуться. Происходило настоящее сражение с невообразимой суетой, с криками, бранью и даже иногда выстрелами. Сесть в такой поезд было совершенно невозможно, и мы с Ниночкой даже ушли в контору, чтобы не присутствовать при такой сцене. Но и в контору вбежал какой-то человек, спасаясь от ареста. Лицо у него было и перепуганное и озлобленное. Он поднял руки и закричал: «Это что ж такое? Это что ж делают?» – повернулся и опять убежал. Потом послышались выстрелы. Когда поезд пошел, этот человек догнал его и влез на ходу. Убегая, он стрелял.
Мы сели в следующий поезд, когда уже было совсем светло. Здесь было, вероятно, не меньше мешочников, так как вагоны были буквально завалены мешками, и надо было лезть через целые горы мешков. И опять их выкидывали, опять кричали, отнимали, отбирали… С невероятным трудом, при помощи милиции, мы добрались до купе, где мне удалось втиснуться на диван, а Лева и Нина уселись на полу, на вещах. И вплоть до Москвы мы уже не трогались с места, почти не шевелились. В Москву приехали поздно вечером, и вдруг всем нам стало весело: здесь уже выпал снег и установился первый санный путь. Под молодым чистым снегом улицы казались такими уютными, веселыми. Люди и лошади – бодрыми, фонари – яркими. Мы покатили на санках.
И вот я опять в Москве…