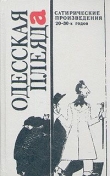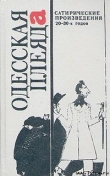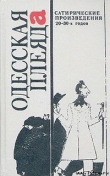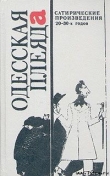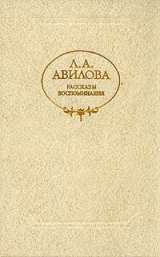
Текст книги "Воспоминания"
Автор книги: Лидия Авилова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
Боборыкин[43]43
Боборыкин Петр Дмитриевич (1836–1921), писатель.
[Закрыть], Вейнберг[44]44
Вейнберг Петр Исаевич (1830–1908), поэт и переводчик, председатель Литературно-театрального комитета.
[Закрыть] и Исаков. Три Петра. Они говорили мне: положитесь на нас, как на каменную гору. Ведь Петр – это камень. Вейнберг, впрочем, только один раз взялся поддержать меня, но и то неудачно[45]45
Лидия Алексеевна имеет в виду помощь П. И. Вейнберга в постановке ее пьесы «Любовь» (см. ниже).
[Закрыть]. Боборыкин и Исаков действительно стояли за меня горой. Это были настоящие друзья. Как-то я сказала Петру Дмитриевичу Боборыкину: – А у меня только что был Петр Николаевич [Исаков]! – Боборыкин фыркнул: – Вас посещает этот «испанский дворянин»? – А в другой раз Исаков спросил: – Правда, что к вам зачастила «Адамова голова»?
Миша говорил мне: – Не принимай всерьез своих успехов. Ерунда! Будет только смешно, если ты о себе вообразишь. У тебя счастливая наружность, вот и все!
Но мне не вообразить хотелось. Мне так необходимо было что-то оформить из себя. Я <…> издала книгу[46]46
«Счастливец и др. рассказы». Лишь в 1914 г. была издана вторая книга Л. А. Авиловой «Образ человеческий». В 1914 г. Лидия Алексеевна была избрана членом Общества любителей российской словесности при Московском университете.
[Закрыть]. Она имела успех. Уж это было не «счастливая наружность». Однако на вторую книгу Миша денег не захотел дать. Так и осталось. И я пропала. Безвозвратно.
Я <…> стала бывать в союзе и ходила туда почти каждую пятницу и с большим удовольствием. И сколько приятных и полезных знакомств завязалось именно там. H. M. Михайловский сам предложил мне проглядеть мою новую повесть и, если подойдет, поместить ее в журнале. И она подошла. Там же я познакомилась и на всю жизнь подружилась с П. Д. Боборыкиным. Познакомилась с Маминым-Сибиряком, со Станюковичем, Вейнбергом и со многими другими.
Вот если бы я писала свои воспоминания с мыслью их напечатать, мне было бы очень трудно и скучно писать, а для себя (и если дети прочтут после моей смерти), не все ли равно, что и как я напишу. А вспоминать мне интересно. Буду вспоминать попросту. Главное, не могу я разделять очень распространенную точку зрения, что писатели – это люди замечательно интересные. Нисколько! Писатели сами ищут интереса, а для публики часто интересничают. И делают это вынужденно, потому что от них ждут того, чего у них нет. Простые смертные, по-моему, бывают гораздо интереснее писателей, но, конечно, бывают и писатели интересные люди. Я подходила к ним с общепринятой точкой зрения, с замиранием и преклонением. Но это только в первое время, когда не составила своего собственного мнения. Потом скоро составила. Мамин-Сибиряк был какой-то странный. Я часто не понимала, что он говорит. Сядет рядом со мной и начнет что-то мямлить путаное: «Знаете, как вы пишете? Точно кошечка ползет… ползет, ползет…» А я Мамина-Сибиряка и сейчас с удовольствием перечитываю. Станюкович заявил мне, что он будет у меня бывать, потому что он чего-то во мне не понимает. И ему нужно понять, и он не может быть спокойным, пока не поймет. Вероятно, он очень быстро понял, и я перестала его интересовать. Наше дальнейшее знакомство не состоялось. Очень он мне не нравился, и заинтересовать его у меня не было никакого желания.
Мне кажется, но может быть, я ошибаюсь, что в союзе бывал и Луначарский. Во всяком случае я его только видела, но никогда не сталкивалась.
По средам у меня стал бывать П. Д. Боборыкин. Он стал моим настоящим другом, и чем старше он становился, тем больше я ценила его дружбу, потому что сам он сильно изменился. Петр Дмитриевич в Швейцарии с начала войны[47]47
Имеется в виду первая империалистическая война 1914–1918 гг.
[Закрыть]. Я могу судить о нем только по письмам. Он все больше и больше смягчается, думает о близкой смерти и, оглядываясь на жизнь, думает о ней с меньшей гордостью и горечью. Но до чего он остался одинок в жизни! Все друзья его умерли.
Да и много ли у него было друзей? К людям он был строг и разборчив, не баловал их лаской, и сам мало видел ласки. Совершенно случайно я затронула в нем струну, которая редко звучала: интимную, пожалуй, даже немного сентиментальную. Он поверил моей дружбе и так горячо откликнулся на нее, что совершенно изменил мое представление о нем: «Крепко целую ваших детей» – написал он мне в последний раз. В общем его мало любили и ценили, а какой это культурный, образованный, гордый, странный, обиженный и хороший человек!
Буду продолжать свои «литературные воспоминания». Меня они забавляют. Пусть выплывают клочками, отрывками, непоследовательно и беспорядочно. На хронологию у меня памяти нет, а лица и людей я помню хорошо, а особенно хорошо я помню житейские мелочи. Досадно, что у меня нет под рукой моих бумаг и книг, а особенно желтого ящичка с письмами[48]48
Здесь Лидия Алексеевна еще не знает, что ящичек безвозвратно утерян.
[Закрыть]. Много там писем от разных людей, промелькнувших и исчезнувших. И людей, которые сыграли немалую роль в моей жизни. Хотя бы Гольцева Виктора Александровича.
Пятницы в союзе бывали разные. Были простые, пустые пятницы, с чаем, с разговорами; были пятницы по повесткам, с выборами, с обсуждением текущих вопросов, были «большие дни», когда поднимались захватывающие вопросы, бурлила кровь, кипели страсти. Это было, например, когда обсуждалось исключение Суворина из числа членов за помещенную им статью в Новом времени. Эта пятница осталась в моей памяти каким-то позорным пятном. Члены союза подходили к столу и записывались – за или против исключения, конечно, после горячего, бурного обсуждения. И что делалось! Страсти до такой степени разгорелись, что эти члены отталкивали друг друга, вырывали перо… Происходила какая-то свалка. Таким же, но менее бурным вечером были выборы Чехова. Его «Мужики» восстановили против него народнический элемент. Но его все-таки выбрали. Как могло казаться возможным забаллотировать такого писателя! Считать его недостойным быть членом союза! Для меня это было совершенно непонятно, и я объясняла гонение на него только его близостью к Суворину. Так, конечно, и было.
Еще одну пятницу обсуждали литературную конвенцию. И я помню свое чувство глубокой и горькой обиды. Оказывалось, что Россия, в смысле литературы, почти ничего не давала другим странам, но брала от них много и не могла не брать, так как это было необходимо. Платить за это необходимое – это значило сделать книгу еще дороже, это значило ввести новое затруднение в дело образования. Обмен не мог пополнить расхода. Надо было продолжать давать даром, чтобы продолжать брать даром. Давать – почти ничего. Брать – много. Вот заключение, которое я вывела из этого совещания, и как это было неприятно, обидно и грустно!
Как-то случайно выдалась пятница с танцами. Кто-то сел за рояль, заиграл, начали танцевать. Танцевал даже Михайловский, и на меня особенное впечатление произвел его танцующий пиджачок, насквозь пропитанный передовыми, возвышенными, благородными стремлениями, приспособленный к сидению за письменным столом и вдруг воспринимающий биение сердца от вальса. Но ведь все люди и все человеки, и хотя я всегда побаивалась Михайловского, я знала, что сердце его билось не от одних писательских мыслей. Сплетни были у нас достаточно развиты.
Был вечер с музыкой, и выступали на нем Эля и Алеша[49]49
Сестра Л. А. Авиловой Елена Алексеевна, которая хорошо пела, и брат Алексей Алексеевич, пианист и композитор. Елена Алексеевна петь училась в Дрездене, но ученье не закончила. Алексей Алексеевич был студентом консерватории, учеником Н. А. Римского-Корсакова, подавал большие надежды, но консерваторию не окончил; Павел Алексеевич Страхов, несмотря на великолепные данные, певцом не стал; Федор Алексеевич был композитором-дилетантом, талантливым пианистом, но музыка его была известна лишь в узком кругу: он увлекся толстовством. Таким образом, то обстоятельство, что Лидия Алексеевна не развила в полной мере своего писательского таланта, что она неоднократно подчеркивает, находит объяснение в общем «дилетантизме» семьи, при наличии в ней разнообразных талантов. Эта талантливость вместе с духом «дилетантизма» восходит еще к деду Лидии Алексеевны Афанасию Николаевичу Кузмину, который, не будучи профессиональным писателем и музыкантом, писал стихи и играл на виолончели.
[Закрыть]. Чуть ли это не было встречей Нового года, но так, что к 12-ти все вернулись домой, а в союзе встречали, так сказать, предварительно. На этом-то вечере я и познакомилась с Боборыкиным, до сих пор мы только встречались, но не разговаривали.
Из союза потянулись для меня нити по редакциям. Я уже давно много писала в Ниве, но меня это положение не удовлетворяло и только давало заработок. Редактором был Ростислав Иванович Сементковский, и он же писал критические статьи. Первый рассказ, который я ему принесла, был «Ветер шумел», и он обратил на меня внимание. «Вот вы как пишете!» – сказал он. Я поняла, что я пишу хорошо, и сейчас же принесла «Лишнее чувство» и т. д. В Ниву я очень охотно писала и очень легко. Никогда мне ничего не возвращали, пока редактором был Сементковский. Светлов относился ко мне уже совсем иначе, хотя и на него я пожаловаться не могу. Но это уже было не то!
И вдруг в Вестник Европы приняли мою повесть «По совести». Вот когда опять было захватывающее торжество! Приехал ко мне Боборыкин и рассказал, что «молодой секретарь» Вестника Европы Слонимский в восторге от моей повести и настаивает, чтобы ее напечатали всю целиком в декабрьском номере. «Молодой секретарь, – говорит Боборыкин, – значит в редакции гораздо больше, чем Стасюлевич». Мое дело было решено, и я отправилась знакомиться с Стасюлевичем и Слонимским как автор принятой статьи. Даже не знакомиться, а переговорить о чем-то, я уже не помню о чем. Но никогда еще в жизни я не испытала такого конфуза! Вот когда я действительно мечтала провалиться в предъисподнюю! И виной была опять-таки моя застенчивость.
Когда я вошла, в редакции были и Стасюлевич и Слонимский. С Слонимским я уже встречалась, а Стасюлевича видела в первый раз. Высокий, худой, благообразный, очень симпатичный… Но он ничего не помнил о моей повести «По совести» и о том, что она уже не только принята, но уже и в наборе, а расспрашивал меня, по какому вопросу я принесла статью. Что-то у нас ничего не выяснялось, и Слонимский пришел ко мне на помощь. Я как-то совсем растерялась. Слонимский напомнил Стасюлевичу, что повесть моя уже печатается, недоразумение стало объясняться, и я стала оживать и так ожила, что лучше бы мне на свет не родиться! Стасюлевича звали Михаил Матвеевич. Я это прекрасно знала, но от возбуждения язык меня не послушался, и я сказала: «Да, Михаил Стасюлеевич… – и почувствовала, что что-то неладно, быстро поправилась: – Стасюлей Матвеевич!» Слонимский видел мое отчаяние! Я думаю, что он понял, что перед ним самая несчастная и опозоренная женщина на свете. Но удержаться от смеха он все-таки не мог, как ни старался. Ах, как это было ужасно! И как я была уверена, что я уже никогда, никогда не перешагну порога редакции Вестника Европы!
Но все обошлось, как все обходится, и забылось, как все забывается! Я не раз заходила в редакцию, а теперь они оба покойники, и Стасюлевич и Слонимский. Сколько покойников! Скольких я пережила! Совсем некому будет вспоминать обо мне, когда я умру!
В Вестнике Европы мне платили 100 руб. за лист, в Ниве тоже 100, но скоро накинули четвертную. А Русские ведомости по собственному почину стали платить 15 коп. за строку, и это мне казалось очень щедрым. Писание доставляло мне только удовольствие, а труда никакого. Несмотря на заветы моего учителя Гольцева, я так и не научилась работать, а писала с маху, прямо набело, обдумывая по мере того, как писала. Редко приходилось переписать какую-нибудь одну четвертушку листа. За «По совести» я получила 700 руб. <…>
А вот я теперь думаю: почему мои рассказы нравились? Из тех, которые я перечислила, ни одного не было по-настоящему хорошего. Что тогда вкус, что ли, был другой? Ушли мы вперед? Вероятно. Вероятно, средний уровень очень повысился. Тогда еще была любовь к «слезе» в литературе. И Чехов давал мне советы, которые тогда я плохо понимала: «Будьте холодны, когда пишете». Лучше всего я поняла этот «холод» не на Чехове, а на Бунине. Я не хочу сказать, что это холодный писатель, но он в совершенстве владеет секретом писать холодно, а вызывать самое сильное впечатление. Я бы сказала, что он открыл новую школу, и очень хорошо взялась бы доказать это. Но это была бы серьезная работа, а где мне теперь, несчастной, браться за серьезное! Вот записывать анекдоты – это я могу…[50]50
В то же время Лидия Алексеевна писала: «Читала Бунина „Суходол“. Ни одного рассказа, или почти ни одного, без убийства. Даже естественная смерть и та неестественна, так как кто-нибудь способствовал ей. Убивают спокойно, даже радостно, даже ласково. Это как будто в духе народа – убивать. Даже животные убивают со злобой, наслаждаясь убийством и страданием. Только один Сверчок умел любить сильно и бескорыстно и горевал о своем сыне, о своем „товарище“ много лет. Это единственный человеческий образ. Тяжелая книга!» (Дневник, 1921, янв.).
[Закрыть]
Моя мечта была написать пьесу. Городецкий особенно поощрял меня. «У вас диалоги для пьесы. Да возьмите хотя бы ваши „Наследники“ – это готовая пьеса. Я ручаюсь, что вы можете, что вам удастся». Я поверила и написала «Любовь». Хуже я ничего сделать не могла, но тогда я этого не понимала. Раз написано, надо стараться провести свое детище через все чистилища и потом идти в театр смотреть, как публика ее примет. Но до публики было еще далеко, а вот как бы добиться одобрения театрального комитета? Сказала я о своей мечте Боборыкину. Он замахал руками: «Врагу не пожелаю ставить пьесу! Я это все прошел, я знаю. Не может быть ничего ужаснее…» Он стал рассказывать, как ставил свои пьесы, как исстрадался и измучился, а чем больше он рассказывал, тем больше мне хотелось. Но говорить о своем желании было уже бесполезно. Петр Дмитриевич уже завелся, говорил и говорил, и, как всегда, уже не замечал, что не я, а он сам отвечает себе на свои вопросы, а что я уже охрипла от молчания. Когда он являлся, ему всегда сейчас же подавали чай, и он пил его маленькими глотками, торопливо бросая чашку на блюдечко, чтобы ничто не мешало ему говорить. Пил он чай очень сложно: в чашку клал много сахару, наливал сливок и заедал вареньем и печеньем. Причем печенье всегда клал прямо на стол, а не на тарелочку и крошил его пальцами. У него была манера: в разгаре разговора хлопать ладонью по столу, крепко вытирать на столе круглое пространство, и потом тереть себе этой же ладонью лицо. И все это очень крепко, с энергией. <…>…Да! Про пьесу! Ничего не удалось с Боборыкиным, тогда я зазвала к себе Исакова. «Нет ничего проще, – сказал он мне, – Вейнберг Петр Исаевич в театральном комитете. Хотите, я с ним переговорю? Он ее положит вне очереди, одобрит и т. д.» <…> Он очень горячо принялся мне помогать. Пьесу он прочел, одобрил и сам провел через цензуру. «Да мне же это ничего не стоит!» Помню, как он один раз пришел ко мне очень удивленный. Он получил мою записку, в которой я писала: «П[етр] H[иколаевич]! Вы давно у меня не были и, если бы не моя Любовь, я бы и не стала звать Вас. Но мне так хочется поговорить с Вами о Любви» – и дальше в этом же роде. Он был удивлен и смущен, а я встретила его, как всегда, весело и просто.
– Что вы мне за странную записку написали? – И так явно было, что он попался, что он забыл, что пьеса называется «Любовь», а понял мое послание иначе, впрочем, ничего не понял. Потом он мне отомстил, но не очень удачно, слишком драматично.
Перед тем, как передать пьесу в театральный комитет, мы с Петром Николаевичем решили попросить Савину[51]51
Савина Мария Гавриловна (1854–1915), артистка Александрийского театра.
[Закрыть] согласиться взять в ней роль. Сестра Надя была знакома с Савиной, и мне это облегчало мою задачу. Я пошла к Савиной со своей пьесой. Так мне было досадно: не застала ее дома. Спускаюсь по ее лестнице и думаю: или мне оставить эту затею? Как вдруг к подъезду подъехала карета, и швейцар ринулся к ней со всех ног. Я остановилась и стала ждать. Мария Гавриловна медленно поднималась, опустив голову. Прошла мимо меня и не взглянула, а я подумала: «Теперь или никогда!» и тихо окликнула ее: «Мария Гавриловна!..» Господи, что с ней сделалось! Она вскрикнула, закрыла лицо рукой и прислонилась к перилам. «Кто это? Зачем? Что надо? Боже мой!» Я испугалась, стала извиняться, успокаивать. «Но я не разговариваю с незнакомыми! Нет-нет… Это ужасно!» <…> Я ей сказала, что я Надина сестра и назвала себя, чтобы сразу стать знакомой. «Душечка! – вдруг ласково сказала она, – но вы совсем душечка и сестра Ваша душечка! Ну, идемте ко мне, я очень рада!» И по ее глазам я увидела, что совсем, она не испугалась и что вся эта сцена была разыграна так, для впечатления. Сидела я в ее комнате, на тахте, она меня расспрашивала про Надю, про меня, потом вдруг какого ужасно устала, прилегла, а меня просила не уходить, а посидеть и еще что-нибудь рассказать. Потом усталость прошла внезапно, как страх.
Дня через два-три я опять пришла спросить про пьесу, и она опять назвала меня душечкой и торжественно поднесла мне свое согласие играть в моей пьесе. Конечно, это делалось не благодаря достоинствам моей пьесы, не ради меня, не ради Нади даже, а просто потому, что она рассчитывала, что родственная для меня Петербургская газета найдет способ поблагодарить ее за любезность (Надя писала театральные рецензии и всегда восхищалась Савиной, не за страх, а за совесть). Но все равно я достигла своей цели. Не могло быть сомнения, что «Петры» проведут меня, и вот осуществите моя мечта, и я увижу свою пьесу на сцене. Вечером я топила камин и загадала: догорит головешка до конца – все сбудется, не догорит – провалится. А головешка горела жарко, и не было ей причины гаснуть. Я ее подбодряла, торопила. Но она погасла. И мне в первый раз пришло в голову, что хотя все идет гладко, а может кончиться гадко. Но это казалось невероятным.
«Через неделю принесу вам радостную весть, – сказал Исаков, – согласие Савиной ускорит постановку». Через неделю он с недоумением спросил меня: «Да где же Ваша пьеса? Ее перед заседанием искали, искали и не нашли». – «Но я ее передала!» – «Очень странно! Хотели ее читать, и уже теперь было бы решение, но ее не нашли». И опять искали и не нашли, а я не могла дать другого экземпляра, потому что на другом не было печати цензуры. И пропала пьеса. А еще немного спустя я получила извещение из Москвы: мою несчастную «Любовь» читали в Московском комитете и забраковали. И не удивительно.
А в Петербурге она прошла бы. Ее бы вывезли. Головешка-то была права и подготовила меня к неожиданному удару.
Отправили пьесу в Москву случайно. Вейнберг положил ее сверху, чтобы она попала в ближайшую очередь, не зная, что предстоит отправка в Москву. Она и попалась.
Зачем это я была у Вейнберга? Не помню! У него все стены были плотно увешаны портретами литераторов, поэтов, философов. И все в одинаковых размерах. Как-то случалось, что мне ко многим приходилось ходить, да я этого и не избегала, несмотря на свою застенчивость. Прийти с делом, с определенным разговором и не страшно. И чем больше у меня появлялось знакомых, тем легче мне было бывать даже в очень многолюдных собраниях. А тогда был целый ряд юбилеев, и их праздновали в ресторанах обедами по подписке. Например, юбилей Савиной, Вейнберга, Боборыкина… Торжественно прошел юбилей Петра Дмитриевича Боборыкина. Я сидела рядом с Кони[52]52
Кони Анатолий Федорович (1844–1927), либеральный судебный деятель и публицист.
[Закрыть], недалеко от юбиляра, почти напротив его через узкий стол, и все речи говорили за моей спиной, через мою голову.
Очень весело было на юбилее Шапир[53]53
Шапир Ольга Андреевна (1850–1916), писательница.
[Закрыть] в Северной гостинице. Гораздо проще, но очень весело. Тогда я познакомилась с Яворской. Впрочем, нет! Вру! Я познакомилась с ней раньше, на каких-то соединенных обедах трех газет: С[ына] О[течества], Северного Курьера, который редактировал муж Яворской князь Барятинский, и еще какой-то третьей. Многое я забыла. Был тут какой-то союз этих трех газет, и вырабатывались программы. Речей, речей за обедами! Яворская любила и умела говорить. Она непременно хотела заставить говорить и меня, но я никогда не решалась.
Яворская… Нет, не хочу о ней писать. Она была в Москве на гастролях. Кажется, и сейчас еще здесь [54]54
На тетради помета: 1918 г.
[Закрыть]. Неужели еще не старая? Ведь она приблизительно моего возраста. А хороша бы я была на сцене в роли Фру-Фру[55]55
«Фру-фру» – французская мелодрама Мельяка, которая была популярна среди русских театралов еще в 70-е годы XIX века. Упоминается в драме А. Н. Островского «Таланты и поклонники». Имя героини использовано Л. Н. Толстым как кличка лошади Вронского в романе «Анна Каренина».
[Закрыть] или что она там играет?
На юбилее Шапир какой-то Берлин все писал и пересылал мне за столом стихи. Я их читала, но не одобряла. Между прочим, он мне прислал сравнение между Яворской и мной. Яворская сидела рядом со мной и как раз спросила: «Что это он вам все пишет?» Я, не читая еще и увидав ее имя, сказала: «Что-то про вас!» Тогда она взяла у меня листок и стала читать. Ну как мне могло прийти в голову, что незнакомый мне какой-то Берлин напишет мне что-то нелестное для своей знакомой Яворской? Я так привыкла, что все мужчины в нее влюблены, что была уверена, что и это стихотворение для нее очень лестно. И до сих пор помню начало:
Яворская и Вы – какое сочетанье!
Ну, мы вместе и прочли. Оказалось, что совсем не «сочетанье», а бог знает что. Сконфузила я человека, а Яворскую, наверное, навеки поссорила с Берлиным. Он назвал ее каким-то «темным страданьем», и я долго старалась понять и не могла, что это такое. Может быть, даже и не обидно? Вот сейчас вспомнила вторую строку:
Яворская и Вы – какое сочетанье!
Сиянье светлое и темное страданье…
Даже интересно, как такие мелочи выплывают из памяти, из какой-то черноты…
Л. Н. Толстой, Чехов, Горький… Вот об них мне не хочется сейчас писать. С Горьким я была мало знакома. Была у него один раз, и он у меня просидел вечер[56]56
В одном из неопубликованных писем А. П. Чехову Лидия Алексеевна пишет об этом посещении: «В прошлом году у меня был Алекс[ей] Макс[имович] Горький, сидел вечер, пил чай…» (февр. 1904 г.).
[Закрыть]. Надя, сестра, просила меня позволить ей вместо горничной подать нам чай («Я надену фартучек, чепчик… Пожалуйста…»). Но мы вышли пить чай за общим столом в столовой.
Писатели не интересны… Ну, а этот? Говорит он еще лучше, чем пишет, и, нет, – несомненно – это удивительный человек!
Я сейчас думаю: почему же мне не хочется вспоминать и писать именно об этих трех? И я себе это объясняю. Мне всегда были неприятны воспоминания маленьких людей о больших. Притягивают к себе они эту величину, приравнивают, примеряют. Выходит какое-то «сочетанье». И это несносно! Ничего такого особенного эти большие маленьким сказать не могли, а дорого сказанное только потому, что сказано ими. Значит, и запомнить особенно нечего. Отношений равных быть не может, в особенности в случайных нечастых встречах. Я отдаю себе очень ясный отчет: почему Горький ко мне приехал? почему он горячо и много говорил? Да просто потому, что я тогда была молода и я ему понравилась. Будь я умней в десять раз, талантливей в сто крат, но будь у меня очки на носу и закрученная косичка на затылке, никаких Горьких у меня бы не бывало! Уж это верно! И разве это не понятно? И разве я сама не была под обаянием этого выдающегося человека и разве я не могу сказать в свое оправдание, что я постаралась быть приятной и красивой, чтобы он не жалел, что сам дал мне так много: счастье восторга перед личностью человека.
Лев Николаевич, конечно, не замечал моей наружности, и, конечно, она не могла влиять на его отношение. Но ведь и отношений не было. Было то, что он узнавал меня при встрече, справлялся о моих занятиях, считал мои рассказы «хорошими» и даже как-то прочел вслух один мой рассказ. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что в этом случае, будь у меня очки и косичка, он отнесся бы ко мне еще лучше, еще внимательнее и теплее. Мне кажется, что это так. Но значит, и на него моя наружность влияла. Я могла бы вспомнить о многих наших встречах, о целом дне, проведенном мной и Ниной в Ясной Поляне, но я охотнее, за этот день, вспомню о Черткове. Л[ев] Н[иколаевич] слишком определенная величина, и мне ли искать в нем чего-либо нового, незамеченного раньше? Насчет Черткова я на себя полагаюсь. Тут – что мое, то мое, и я искала его понять и получила неожиданные впечатления. Нет, когда обыкновенные люди рассказывают про великих, это, право, очень напоминает рассказы путешественников про очень известные достопримечательности. Поехал какой-нибудь Иван Иванович и увидал, скажем, Капитолий. Ну, что же интересного в том, что он увидел? Ведь и глядел, несчастный, чужими глазами. Ведь и подходил напичканный уже теми чувствами, которые он обязан был испытывать. Вот я и не хочу вспоминать о «великих», прошедших мимо меня. А если и пишу, что понравилась Горькому, то не для того, чтобы унизить его и притянуть-таки к себе, а потому, что это объясняет наше знакомство, а я не хочу напускать тумана…
Чехов… О нем искренне я вспоминать не могу и не хочется.! Про Чехова я не сказала бы, что он великий человек и великий писатель. Конечно, нет! Он большой, симпатичный! талант и был умной и интересной личностью.
Горький – яркий талант и оригинальный человек.
Толстой – великий писатель, великий мыслитель (?)[57]57
Лидия Алексеевна, в противоположность брату Федору Алексеевичу, не разделяла философского учения Л. Н. Толстого, «толстовства». Поэтому после слов «великий мыслитель» она поставила вопросительный знак.
[Закрыть], великий человек. Нет величины больше его в литературном свете.
Случается, что талант точно освещает, пронизывает всю личность писателя. Он сильней личности и точно силится, поднять ее до себя. Это – Чехов.
Случается, что талант и личность одинаково сильны, ярки, помогают друг другу, выражаются каждый по-своему, сплетаются, сливаются. Это – Горький.
Но когда и талант и личность не только велики, сильны, могучи, а когда они еще совершенны (подчеркнуто Л. А.), когда дух их поднимается над человечеством и приближается к божескому, – тогда это Толстой[58]58
Эти высказывания Л. А. Авиловой не вполне точно приведены в примечаниях к повести А. П. Чехова «О любви» (Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем, т. 10. М., Наука, 1977, с. 385).
[Закрыть].
Позлее Лидия Алексеевна Авилова уточнила свою характеристику А. П. Чехова:
«…Но те, кому выпало на долю знать лично Ан[тона] Пав[ловича], те, у которых отношение к нему было свободно от всяких примесей, вроде соперничества, зависти или каких-либо личных счетов, те сохраняют в своей памяти образ человека исключительного по своему благородству, большого человека, печально и ласков коснувшегося их душевных ран. Он не знал „нормы“, но он чувствовал „уклонение от норм“, и он сделал свое дело писателя: он верил и другим оставил веру в то, что жизнь может и должна быть прекрасной, когда уклонение от норм уже не будет иметь места».