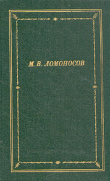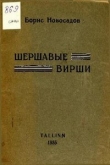Текст книги "Пейзаж души: «Поэзия гор и вод»"
Автор книги: Ли Бо
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
Вместе с Ся-двенадцатым поднимаемся на Юэянскую городскую башню 與夏十二登岳陽樓
Вместе с дядей Хуа, шиланом из Ведомства наказаний, и Цзя Чжи, письмоводителем Государственного секретариата, катаемся по озеру Дунтин 陪族叔刑部侍郎曄及中書賈舍人至游洞庭五首
Захмелев, мы с дядей, шиланом, катаемся по озеру Дунтин 陪侍郎叔游洞庭醉後三首
Песня о большой дамбе 大堤曲
В Цзянся провожаю друга 江夏送友人
Остров Попугаев 鸚鵡洲
У башни Желтого журавля провожаю Мэн Хаожаня в Гуанлин 黃鶴樓送孟浩然之廣陵
Мелодия прозрачной воды 淥水曲
Осенние раздумья 秋思
Раздел 7. «Волшебный персик Сиванму я посажу у дома»Перед домом к вечеру раскрылись цветы 庭前晚開花
Подражание древнему (№ 11 из цикла) 擬古十二首其11
В горах отвечаю на вопрос 山中問答
Сосна у южного окна南軒松
Таинственный исток наверх выносит (№ 26 цикла «Дух старины») 碧荷生幽泉(古风其26)
Еще текут весенние потоки (№ 52 цикла «Дух старины») 青春流驚湍(古风其52)
В саду угрюмом орхидеи цвет (№ 38 цикла «Дух старины») 孤蘭生幽園(古风其38)
Разгоняю грусть 自遣
С осеннего склона посылаю советнику Чжану из Палаты императорских регалий и «Призванному» Вану 秋山寄衛慰張卿及王徵君
Весенним днем прихожу к омуту в ущелье Лофу 春日游羅敷潭
Глядя на снег, подношу брату – начальнику уезда Юйчэн對雪獻從兄虞城宰
Написал, взобравшись на камень посреди стремнины, когда брел вдоль Белой речки в Наньяне 游南陽白水登石激作
Бреду вдоль наньянского родника Цинлэн 游南陽清泠泉
Ранняя осень в Тайюани 太原早秋
Раздел 8. «Все персики в цветах у Луских врат»Плыву на лодке у Врат восточного Лу 東魯門汎舟二首
В гостях 客中
Подражание древнему (№ 9 цикла) 擬古十二首其九
Волна качает пару белых чаек (№ 42 цикла «Дух старины») 搖裔雙白鷗(古风其42)
Раздел 9. «Отдалился зыбким сном Чанъань…»Провожаю секретаря Лу в Долину лютни 送陸判官往琵琶峽
На закате думаю о горах 落日憶山中
Провожаю Цая, человека гор 送蔡山人
Поднимаюсь на пик Великой Белизны 登太白峰
Поднимаюсь на городскую башню в Синьпин 登新平樓
Весной возвращаюсь на гору Чжуннань, где отшельничал у Дракона в соснах 春歸終南山松龕舊隱
Короткое стихотворение о кургане Дулин 杜陵絕句
Пою о цзинь-цветке 詠槿
Пою древо гуй 詠桂
Я восхожу на Лотосовый пик (№ 19 цикла «Дух старины») 西上蓮花山(古风其19)
Потоки Цинь по склонам Лун бегут (№ 22 цикла «Дух старины») 秦水別隴首(古风其22)
Мир Путь утратил, Путь покинул мир (№ 25 цикла «Дух старины») 世道日交喪(古风其25)
Дух осени Жушоу злато жнет (№ 32 цикла «Дух старины») 蓐收肅金氣(古风其32)
Взойди на гору, посмотри окрест (№ 39 цикла «Дух старины») 登高望四海(古风其39)
Зеленой плетью слабой повилики (№ 44 цикла «Дух старины») 綠蘿紛葳蕤(古风其44)
В саду востока персики цветут (№ 47 цикла «Дух старины») 桃花開東園(古风其47)
Пою на реке江上吟
Мой меч при мне, гляжу на мир кругом (№ 54 цикла «Дух старины») 倚劍登高臺(古风其54)
Раздел 10. «За небом Елан. Как дорога туда далека!»С пути на юг в Елан посылаю домашним 南流夜郎寄內
Спозаранку выезжаю из города Боди 早發白帝城
Учусь у Древности думать о приграничье 學古思邊
Раздел 11. «Я знаю мудрость, что несет вино»В одиночестве пью под луной 月下獨酌四首
За вином вопрошаю луну (по просьбе старого друга Цзя Чуня) 把酒問月 (故人賈淳令予問之)
В одиночестве пью вино 獨酌
Весенним днем в одиночестве пью вино 春日獨酌二首
Жду не дождусь вина 待酒不至
Праздник Девятого дня 九日
В день Девятый я пил на Драконьей горе 九日龍山饮
А вот что было на десятый день девятой луны九月十日即事
Выпьем! 將進酒
Подношу стихи, прощаясь в Гуанлине 廣陵贈別
Пью и пою 對酒行
Сянъянская песнь 襄阳歌
Раздел 12. «Уйду в туман Пэнлайский на восток!»В песне изливаю свои мысли о вознесении 懷仙歌
Поутру любуюсь зарей над морем 早望海霞邊
В рассветный час смотрю с горы Тяньтай 天台曉望
Вот так я думаю давно 古有所思(一作有所思)
Песнь Юань Даньцю 元丹丘歌
Вольный стих 雜詩
Наблюдаю за рыбками в пруду 觀魚潭
В былые дни на Журавле святой (№ 7 из цикла «Дух старины») 客有鶴上仙(古风其7)
В Восточной Бездне тонет Хуанхэ (№ 11 цикла «Дух старины») 黃河走東溟(古风其11)
На севере – Пучина-Океан (№ 33 цикла «Дух старины») 北溟有巨魚(古风其33)
Зеленых кущ Великой Белизны (№ 5 цикла «Дух старины») 太白何蒼蒼(古风其5)
Я как-то путешествовал туда (№ 20 цикла «Дух старины») 昔我游齊都(古风其20)
Посылаю У, горному старцу, к ручью Наслаждения луны 寄弄月溪吳山人
О том, кто рвал аир на Сун-горе 嵩山採菖蒲者
Песнь горам и водам, нарисованным шаофу Чжао Янем на стене в Данту 當涂趙炎少府粉圖山水歌
Импровизируя, подношу «призванному» Яну口號贈楊徵君
С утра я к Морю Пурпура пришел (№ 41 цикла «Дух старины») 朝弄紫泥海(古风其41)
Часть 2
«Так мастер задумал и кистью исполнил своей»
(исследования)
Пейзажная лирика Ли Бо как самовыражение поэта
С.А.Торопцев
Начнем с терминологических уточнений. То, что мы понимаем под пейзажной поэзией, не совсем адекватно тому термину шаньшуй ши, каким китайские филологи определяют этот жанр. Для нас пейзаж – это то, что мы объективно видим вокруг себя, вне себя, отделенное от себя. Это может быть панорама природы или урбанистическая картина. Духовное слияние с изображаемым пейзажем в русской поэзии – дополнительное и отнюдь не обязательное усилие поэта, пытающегося разрушить преграду между собственным Я и окружающим миром, это показатель некой особости для поэта данной картины мира, воспроизведенной им. Когда я сообщил своему китайскому коллеге (его статью вы можете прочитать в нашем сборнике) о намерении переводить «пейзажные стихи» Ли Бо и при этом употребил китайскую кальку фэнцзин ши, он в ответе попросил уточнить, имею ли я в виду шаньшуй шиили нечто иное.
Слово ши(стихи, поэзия) показывает на форму выражения мысли, а шаньшуйозначает «горы [и] реки» и может употребляться в любом пласте речи. Вне поэзии это чаще всего не слово, а словосочетание или даже два самостоятельных слова (и в таком случае при транскрибировании их следует писать через дефис или отдельно друг от друга, то есть шань-шуй, шань шуй). В поэзии и живописи шаньшуй– слово, термин, для которого топонимический слой – лишь тонкая поверхность, прозрачная пленка, открывающая глубину – мировоззренческую, философскую, эстетическую, психологическую.
Тем не менее соединение «гор» и «рек» в единую семантическую единицу даже еще до поэзии и живописи обретает в общем ментальном восприятии, помимо топонимической, еще и мировоззренческую окраску. Оно показывает сакральность, духовную чистоту, внутреннюю близость того предмета, к которому прилагается как характеристика. Отношение к близкому другу, понимающему движение твоей души, определяется словосочетанием шаньшуй и( и– мысль, дума).
Филологически справедливо поступает М.Кравцова, вводя в свои исследовательские тексты [2]2
М.Е. Кравцова. Поэзия вечного просветления. СПб.: Наука, 2001.
[Закрыть]термин шаньшуйшив транскрипции (или в переводе «поэзия гор и вод» – именно так, а не «о горах и водах», потому что они тут не объект, а субъект, можно сказать, «соавтор»; я бы только отделил в транскрипции последний слог шипробелом, показав сложносоставность термина в целом). Термин непременно должен сопровождаться комментарием, разъясняющим его глубинный смысл – ведь именно эти глубины уводят китайского читателя за пределы чистого литературоведения. Нельзя – именно в контексте этой «исповедальной» поэзии – не уточнить еще и этимологию слова ши(стихи, поэзия): иероглиф складывается из графем «речь, слово» + «храм», что восходит к древним ритуальным песнопениям, а позже – к нормативированному Конфуцием «Канону поэзии» (Ши цзин).
Итак, предмет нашего анализа – шаньшуй шивеликого китайского поэта 8 века Ли Бо. Та часть его поэзии, в которой он, отстраняясь от цивилизационных напластований, искал «чистоту» ( цин) изначального духовного облика мира, созвучного той Древности, к которой стремилась его душа. Конечно, чуть ближе (знакомей) русскому слуху прозвучал бы такой перевод названия этого жанра, как, допустим, «пленэрная поэзия», если бы не слышался в этом какой-то кокетливо-манерный отзвук, чего у понятия шаньшуй шиникоим образом нет; напротив, в нем присутствует трепетность, благоговение души, не созерцающей природу вокруг человека, а слитой с ней, собою цементируя неделимую триаду «Небо-Человек-Земля».
Остановимся на условном переводном варианте «пейзажная лирика», памятуя, что взор китайского поэта блуждает между «горами», «водами» и собственной душой. Даже пребывая в замкнутом городском пространстве, он постарается где-то усмотреть холмик или речушку, пусть даже в ней и отражается каменное варварство или она едва заметна вдалеке («И плывут по реке облака и стена городская»; «Парчовый город солнцем озарен. / По башне поднимается рассвет. /…/ Вечерний дождь давно ушел к Санься, / Кружатся два потока по весне»).
Таким образом, китайская пейзажная лирика есть обращение поэта к природе как хранителю изначальной естественности, придававшей величие той Древности, в какой еще присутствовали Совершенномудрые, впоследствии покинувшие Землю и улетевшие в сакральное Занебесье, не передав потомкам «эстафету» высоконравственной природной чистоты («Мужей достойных вкруг себя не вижу – / С дерев опала прошлая краса»).Цель поэта в этом священнодействе – сформулировать свой мировоззренческий идеал и противопоставить его современной ему действительности, исковерканной цивилизацией как противному высокой обрядной Культуре вмешательству чуждого Небесной Чистоте человека.
Из всего этого с очевидностью следует, что средневековый китайский поэт не воспроизводил посредством слов увиденную им природу, а обращался к природным картинам – увиденным непосредственно или чаще воссозданным с помощью памяти или воображения – ради, прежде всего, того, чтобы использовать их как средство передачи собственного душевного импульса или с их помощью сформулировать мировоззренческий, нравственный или эстетический идеал. Пейзажная лирика – духовное действо, попытка вернуть человека в структуру утраченного гармоничного сакрального созвучия «Небо-Человек-Земля».
Жизнь поэта – поиск. Это можно назвать странствием. Или путешествием – как кому больше нравится (при явных целеполагающих отличиях этих двух слов друг от друга – первое есть вынужденное блуждание по чужим, порой чуждым местам, второе – передвижение во имя интеллектуального познания и по приятным душе пространствам – сближает их идея движения, чуждая застывшей, самодовольной, самодостаточной статичности).
Впрочем, Ли Бо познал и странствие, и путешествие. Странником он оказался на Земле, низвергнутый – по легенде – со звезды Тайбо (второе имя поэта, данное ему по достижении совершеннолетия, звучало так – Ли Тайбо) и отторгаемый идеализируемой им, но духовно чуждой ему верховной властью; путешественником оказывался в занебесье, где жаждал очутиться среди святой чистоты и где часто левитировал в своих сновидческих стихотворениях.
Те картины, какие он наблюдал вокруг себя во время этих странствий и путешествий, он и фиксировал в поэтических строках. Их каждую можно рассматривать и анализировать имманентно, автономно от прочих стихотворений и даже от всей линии жизни поэта. Такой структуральный анализ даст тонкое понимание мгновения и будет весьма полезен для познания духовного мира поэта. Но если на этом не остановиться и вплести бусинку в нить рядом с другими, тогда они взаимно подсветят друг друга и придадут общей картине нюансы, не видные по частностям.
Как по отдельному пейзажному стихотворению мы можем воспроизвести духовное и физическое состояние поэта в момент создания этих строк, так и по всему объему пейзажной лирики, выстроенной в определенную систему, мы в состоянии реконструировать тот путь, какой душа поэта преодолела в хронотопе своих земных блужданий. Я не берусь сделать это в данной статье, она – лишь начало, и хотя бы относительно адекватная реконструкция – впереди как дальняя цель. Ведь для этого необходимо проштудировать весь корпус поэзии Ли Бо, соотнеся его с линией жизни поэта. Включенные же в данную книгу пейзажные стихотворения – лишь выборочная (хотя и достаточно представительная) часть его наследия, отражающая его основные земные и небесные маршруты.
Земное бытие Ли Бо прошло в борении страстей – между чистотой естественности и возведенными человеком конструкциями цивилизационной организации, которые он не отрицал в корне, но хотел видеть непорочно пришедшими из изначального, еще доформенного небесного Дао. Но последнее желание у него так и не нашло адекватного объекта.
Ничтожную долю поэтического наследия Ли Бо составляют городские картины. Ему явно не хотелось поэтизировать город, который в его стихах встает преимущественно в негативном контексте («Развеет дымку утренний петух – / Вельможи во дворец спешат толпой. / … / Шарахаются путники с дорог, / Надменный дух превыше Сун-горы»). «Идеальный» же город (чаще всего Чанъань – место пребывания «Сына Солнца», то есть императора) он упоминает обычно, находясь не внутри него, а снаружи, когда «смотрит на запад», пребывая среди «гор» и «вод» («Гляжу на запад зря – один я в целом свете! / Кому же тут светла сиротская луна?»; «Я здесь в одном челне с изгнанником лоянским / И с ханьским Юань Ли: подлунные святые, / Мы вспомнили Чанъань, где знали смех и ласку… / О, где ж они теперь, те небеса былые?!»).
Что более владело душой Ли Бо из природных феноменов? Среди исследователей давно распространено мнение, что на главенствующее место у него выходит луна. Она действительно – весьма и весьма распространенный объект его поэтического вдохновения. С позиций статистики с этим мнением спорить трудно. Она – друг, верный и надежный, сопутник, поверенный мыслей.
А главное, видимо, в том, что луна – объект уникальный, единственный (как и солнце, но вся китайская поэзия, не только Ли Бо, больше поэтизировала луну), и где бы поэт ни находился, он видит все ту же луну. Более того, ту же, какую видели предки в лелеемой Древности. Луна – объединитель как в пространстве, так и во времени. Создается впечатление, что Ли Бо, с одной стороны, тяготился постоянством, длительным пребыванием в одном и том же месте, его тянуло в путь, с другой же – странствование по чужим местам, вечный статус «пришельца» тоже был ему в тягость. И тут поэта выручала луна, соединяющая его с отчим краем и далекими друзьями. Она транслировала другу думы поэта о нем («Зарыдала кукушка, и пух тополей отлетел, / Говорят, Вы в Лунбяо, отставлены нынче от дел. / Я тревогой своей поделюсь с лучезарной луной, / Чтоб она унесла ее в этот далекий удел»), спускалась к поэту с небосклона, распластывалась у постели пятном, похожим на осенний иней («Сияние луны простерлось к лож – / Иль это иней осени, быть может?»),плыла рядом по реке или озеру («И зеркальцем луна, с небес слетая, / Легла на воду в облачный мираж»; «Над южным озером ночная мгла ясна. / Ах, если бы поток вознес нас к небесам! / Сама спустилась к нам осенняя луна, / Мы запаслись вином, плывем по облакам»)и скрашивала одиночество, порой даже участвуя в хмельном пикнике вместе с отделившейся от поэта (но не бросившей его) тенью («Среди цветов стоит кувшин вина, / А я один, нет никого со мною. / Взмахну бокалом – приходи, луна! / Ведь с тенью нас и вовсе будет трое»).
Но стоит подчеркнуть, что луна достаточно четко отделена от самого поэта. Луна двойственна: с одной стороны, она создание небесное и лишь временно соучаствует в земном бытии поэта. С другой – луна разделяет земную жизнь Ли Бо, она важна для него не «там», в небесах, а «здесь», на земле, и потому-то он постоянно опускает ее с небес на водные пространства Земли.
Порой луна вставлена у Ли Бо в мистический или философский контекст, однако тональность все-равно исключает ту торжественность, тот пиетет, какой видится в теме, например, гор, в конце концов низводя философичность до интимности застолья («А луна в небесах-то когда появилась? – / Вот о чем я спрошу, отставляя бокал. / Всех манящее, нам недоступно светило, / Неотрывно глядящее издалека. / Над дворцом киноварным блестящим зерцалом / Зависает, раздвинув заслон облаков, / Тот, кто видел, как ты из пучины вставало, / Не поверит, что к утру сокроешься вновь. / Белый заяц толчет там бессмертия Зелье. / Осень… Снова весна… Но Чан-э все одна. / Где луна, на которую предки смотрели? / Вот она: им светила – и смотрит на нас. / Мы приходим, уходим, как воды в движенье, / Каждый видит луну, что вот так же ясна. / Пусть же в час возлиянья и в час песнопенья / В золотистых бокалах искрится луна!»). Преимущественно же луна функционирует в контексте психологическом, включаясь в настроение поэта, какое владеет им в момент создания стихотворения («Ночью город исчез, только ты здесь, мой друг, / Тихо плещутся воды, вливаясь в Дунтин. / Грусть мою прихвати, гусь, летящий на юг, / Поднимись ко мне, месяц, из горных лощин. / Мы сойдем на плывущие к нам облака, / По бокалу вина поднесут небеса, / И порыв освежающего ветерка / Унесет нас, хмельных и веселых, назад»).
К горам отношение совсем иное. Они – на противоположном психологическом полюсе. Луна участвует в движении конечного земного бытия поэта, горы – в покое его души, устремленной в занебесную вечность. Важно заметить, что какую бы версию места рождения Ли Бо ни принять (основная земная – тюркский каганат на берегах реки Чу), пусть даже легендарную – звезда Тайбо (имеющая земное отражение – вершину Тайбо), горы вошли в его сознание с первого земного мгновения. Это некие опорные столпы, не позволяющие миру рухнуть. Они представляют на Земле вечное Небо. Символом этого служит «дуплекс» гор Куньлунь: земная вершина с гротами бессмертных и святых фей (во главе с «богиней-матерью» Сиванму, Владычицей Запада) и ее небесный аналог с местом пребывания Верховного Владыки Шанхуан, в чей блистательный дворец, именуемый Высшей Простотой, Ли Бо заглядывал в сновидческих левитациях («На облаке в предельные края / Тысячелетней яшмой поплыву, / Достигнувши Начал Небытия, / Перед Владыкой преклоню главу. / Он к Высшей Простоте меня зовет / И жалует нефритовый нектар. / От отчих мест на много тысяч лет / Меня отбросит сей волшебный дар, / И ветр, не прерывающий свой бег, / За грань небес умчит меня навек»).
В 727 году в горах Шоушань, где среди даосов-отшельников Ли Бо погружался в их мудрые каноны, он написал стихотворение: «„Что Вас влечет на Бирюзовый Склон?“ – / Лишь усмехнулся, и в душе покой: / Здесь персиковый цвет со всех сторон, / Нет суетных людей, здесь мир иной».Всего 4 строки, а звучат жизненным манифестом. В ряде изданий к общепринятому названию стихотворения «В горах отвечаю на вопрос» добавлено уточнение – «…на вопрос мирянина» ( сужэнь), то есть рядового человека, не вникающего в мироззренческие тонкости и не понимающего, что горы – нечто большее, чем просто элемент земной поверхности.
В этом стихотворении горы у Ли Бо «бирюзовые», что в рамках даоской символики означает сакральную святость. Горы – путь к Небу, соединение Земли с Небом, в горных гротах, считали даосы, есть выходы в иное пространство, в инобытие – «не среди людей», как буквально звучат эти слова в последней строке стихотворения. Цветы персика – это тоже не натуралистический мазок живописца, а мировоззренческая характеристика, восходящая к поэме Тао Юаньмина (5 век), в которой некий рыбак случайно заплыл к «Персиковому источнику», где люди, чудесным образом отгороженные от суетного мира, жили безмятежно и счастливо.
Для Ли Бо горы – это прежде всего так называемые «Знаменитые горы», сакрализованные вершины, восхождение на которые было своего рода паломничеством, приобщением к миру даоской мистики. Это хорошо показано в одном из ранних стихотворений, в котором молодой, романтически настроенный поэт на Крутобровой горе (Эмэй) в родном крае Шу попадает в таинственный мир своих грез: «Распахнутость небес, зеленый мрак – / Цветист, как свиток живописный, он, / Душой купаюсь в заревых лучах, / Здесь таинством я одухотворен, / Озвучиваю облачный напев, / Коснусь волшебных струн эмэйских скал. / В магическом искусстве был несмел, / Но вот – свершилось то, что я искал. / Свет облака в себе уже ношу, / С души мирские узы спали вдруг, / И мнится мне – на агнце возношусь / К светилу белому в сплетеньи рук».
К горам у Ли Бо отношение трепетное. Он не допускает никакого панибратства (как по отношению к луне). Для него возможно выпить на склоне горы, но это не пикник по веселому «лунному» типу, а ритуальное действо, введенное в рамки обрядной традиции, – преимущественно в осенний праздник «двойной девятки» (девятый день девятого лунного месяца), когда люди поднимались на склоны гор и под ветвями кизила поминали далеких друзей и родных чашами вина, настоянного на желтых хризантемах («Ну, что за дивный облачный денек! / Чисты ручьи в сияющих горах, / В кувшине зелье – что зари глоток, / Настоянный на желтых лепестках. / На камнях, соснах – седина веков, / Поднялся ветер, загудел струной, / Взгляну в фиал – и на душе легко, / И усмехаюсь над самим собой. / Сбил ветер шляпу. Я хмелен совсем. / Мир – пуст. Так песней помяну друзей»).
Даже мало чем примечательная невысокая горушка Цзинтин, к которой Ли Бо прилепился сердцем лишь потому, что ее любил родственный Ли Бо по поэтическому духу поэт 5 века Се Тяо («Уходит ввысь Цзинтинская гора, / Я здесь живу, как завещал поэт / В стихах, как будто созданных вчера, / Хотя его уже столетья нет. / Всхожу по тропам в чистоту луны, / Внизу у городской стены – Циншань, / Там только стайки уточек видны, / Крича, напиться из реки спешат»), настолько близка ему, что он чуть ли не сливается с ней в единое существо или, по крайней мере, их души находятся в невероятно доверительных отношениях, глубоко понимая друг друга («Последних птиц не стало в вышине, / И сиро тучка на покой слетела. / Лишь мы с Цзинтин остались в тишине – / Друг на друга видеть нам не надоело»). И в итоге начинает и здесь искать мифо-поэтическую реальность: «С Цзинтинских склонов я смотрел на юг – / В небесных взгляд мой растворялся далях. / Пять-шесть святых здесь появились вдруг / И, говорят, не раз затем бывали».
Важное место в «пейзаже души» занимает море. Уже самой безбрежностью водного пространства этот объект земной географии взывает к патетичности, и нередко большое озеро (типа Дунтин) Ли Бо именует «морем», заставляя лишь по контексту определять, о чем идет речь. В образ моря заложен подтекст широких жизненных перспектив («Трудны пути идущего, трудны! / Куда ведут обрывистые горы? / Но час придет, и я не убоюсь волны / И выведу свой челн в безбрежные просторы»).Но от моря нередко идет угроза («Летит за феей моря злобный вихрь, / Волной сдвигая камни Врат Небесных»).
«Четыре моря» – образ столь невероятного пространства, какое окинуть одним взглядом возможно лишь из космоса, что доступно только бессмертным святым («Кто оперен – тот время покорил, / Витает с Фениксами на просторе, / Небесный свод лежит у этих крыл, / Волною дыбятся четыре моря… / Мирское все оставив позади, / Как их настичь за облачною гранью?! / Наш век – сто лет, и я – на полпути / А дальше все сокрыл туман бескрайний»).Море в стихах, помимо собственно пейзажной, имеет еще и сакрализованную окраску. В мифологическом мировоззрении Хуанхэ (Желтая река) стекает с небес и уходит в море («Вы видели, как Желтая река с Небес стекала / И безвозвратно исчезала в море?»),и тем самым море соединяется с небом. В Восточном море мифологическая традиция расположила острова бессмертных – Пэнлай и другие («Я полон мыслей о святых в Лазурном море на востоке, / Там воды ледяные, там ветра, / На Пэн и Ху летит волна-гора, / Кит извергает струи. Мне не подступиться»).
Видимо, горы и море очерчивали сетку сакральных координат – вертикаль и горизонталь, на пересечении которых и располагалась душа поэта, ожидая своего часа вознесения («Куда лечу, Журавль, над синим морем, / Стремясь к востоку, где душе вольней? / Пэнлай все ближе, и святые смотрят, / Встречая песней с Яшмовых ветвей»).
Константными вехами пейзажной лирики являются времена года, от них идет та или иная живописная палитра, сезонные элементы пейзажа, звуки психологической гаммы. А среди сезонов, привлекающих живописующий взор поэтов, на первый план выходит ось «весна-осень», явно преобладающая по частоте упоминаний над осью «лето-зима». Внутри же основной оси бесспорным лидером является осень. Это в той или иной степени характеризует весь массив китайской поэзии. Творческое восприятие, минуя сезоны устоявшихся красок, устремляется к периодам катаклизмов, бурлений, перемен.
Такой художественный акцент вполне ложится на традиционный мировоззренческий слой. Само непрерывное движение времени обозначается в языке словосочетанием чунь-цю, то есть соединением в одно понятие слов «весна» и «осень». В традиционном мировосприятии осень соотносится с западом, а запад – это «страна мертвых», умирание природы, в том числе и закат человеческого бытия. Но это отнюдь не финальный рубеж. Закатившееся солнце утром поднимется вновь, пожухшие цветы весной опять раскроются. Умирая, естественное существо закладывает основу для зарождения новой жизни. Уход в «страну мертвых» – не бесповоротное погребение бренного тела в землю, а освобождение духа от земных оков, воспарение его. «Страна мертвых» находится на сакральной горе Куньлунь, которая является выходом в небесное и занебесное пространство обитания святых бессмертных, именно на ней высится Дворец Небесного Владыки, и его не раз в сновидческих левитациях, зарифмованных в строках и чаще приуроченных к осени, посещали поэты.
Так что «страна мертвых» – это, в сущности, «страна бессмертных». А «бессмертие» – метафизический переход из конечного и определенного в своих сковывающих формах земного состояния в принципиально иное психофизическое бытие, не имеющее ни зримых форм, ни конечных пределов, ни однозначной локализации.
Жажда именно этого состояния влекла Ли Бо, и с годами земных разочарований все больше, к даоским штудиям, таящим мистические секреты обретения «бессмертия», по осени он уезжал на Осенний плес, где на склонах гор искал сурик – минерал, из которого даосы готовили Злаченые пилюли, позволявшие взойти на Речную ладью – сакральный экипаж вознесения («Искателей сурика, нас ожидает ночлег / На утлом челне среди лотоса листьев зеленых. / Распахнуто небо полночное, и человек / В сверкании звездных потоков стоит, ослепленный»).
Бесстрастная статистика объективно показывает: даже по достаточно приблизительным подсчетам, не претендующим на окончательную точность, слово «осень» встречается в стихах Ли Бо 312 раз, «весна» – 245, «лето» – 21, «зима» – 12. Пусть это не всегда указание на время года, а, допустим, словосочетание цяньцю(«тысячи осеней») в значении длительного промежутка времени. Но и в таких абстракциях временной подтекст сохраняется, так что когда психологическая интонация требует от поэта грусти, он выбирает «осень», а когда радости – «весну» в аналогичном словосочетании цяньчунь(«тысячи вёсен») с тем же словарным значением, но совсем иным эмоциональным контекстом.
Бывает и обратное – слова «осень» в тексте нет, но вся образная система, элегический настрой, выплескивающиеся чувства грусти, заката, увядания рисуют нам осенний пейзаж. С учетом вот такого не прямого, а образного обозначения осени в поэтическом контексте статистический контраст даже с «весной», а уж тем более с «летом» и «зимой» станет гораздо более рельефным. И мы с полным правом можем сказать: Ли Бо – поэт осени.
Не определены ли эти осенние интонации Ли Бо моментом его появления на свет? Об этом у исследователей нет даже предположений. Но легенда сообщает нам, что перед его рождением на мать упал белый луч Венеры, а одно из традиционных наименований этой планеты – Золотая звезда ( цзинь син). В китайской натурфилософии белый цвет и золото (металл) – элементы запада и осени. Так что подспудная связь новорожденного будущего поэта с осенью все-таки просматривается. Можно добавить и другое имя Венеры – «Тайбо»: созвучное названию известной горы, вершину которой Ли Бо, как он зафиксировал в одном из стихотворений, «покорил до лучей заката», оно стало вторым именем поэта (Ли Тайбо). А закончил свое земное существование Ли Бо именно осенью – вскоре после красочного осеннего праздника, озаренного сияющим колесом его неизменного друга-луны. Легенды, которые хотя и не всегда повторяют факты воспринимаемой нами реальности, но умеют проникать в глубинную суть, оставили нам такую символичную картину земного финала Ли Бо: хмельной и печальный, он шагнул в пятно луны на речной глади, а вынырнул уже верхом на мифическом «ките» Гунь и, подобно столь лелеемой им птице Пэн, взмыл в небесные выси вечности.
Ли Бо не чистый пейзажист (да и в живописи, которая в художественном пространстве Китая тесно связана с поэзией, пейзаж как жанр оформился лишь к 7 веку), а прежде всего лирик, и потому красочная палитра его «гор и вод» не замыкается в этих горах и водах, а ищет выход на чувства автора, непосредственно или косвенно связанные с какими-то его личными жизненными ситуациями. И «осень» в стихах Ли Бо меньше всего есть обозначение сезона, она интровертна – как прежде всего картина души поэта, в котором этот сезон со всеми его эмоциональными характеристиками обосновался, скорее всего, постоянно, а не только в данный момент (что прочитывается даже в том случае, когда произведение написано весной или изображает приметы весны: например, стихотворение «Весенним днем в одиночестве пью вино» он заканчивает так: «Да только этот дивный край, боюсь, / Осенняя к утру объемлет грусть»).
Функциональные связи у поэтической «осени» достаточно велики: сезон года; время жизни; обозначение заката жизни; метоним чувства грусти, печали; время как ограниченная часть физического бытия человека, с окончанием которого наступает вневременная бесконечность; чередование временных промежутков, не имеющее предела: «Что-то осень мне тихонько шепчет / Шелестом бамбуков за окном. / Этот древний круг событий вечный / Задержать бы… Да не нам дано»(в этом плане понятие «осень» и входит в словосочетание чунь-цю – «вёсны-осени»; в русской традиционной ментальности в этом же значении соединяются иные сезоны – восклицание «сколько лет, сколько зим!»).
Сезонность, разумеется, первична, это внешний слой понятия, с которым оно и входит в поэтический текст со всеми своими красочными атрибутами: желтизной опадающих листьев, шумящими ветрами, белесым туманом, окутавшим бамбуки, особенно яркой в это время года круглой луной. В живописном мастерстве Ли Бо вряд ли уступает даже Ван Вэю, который был велик не только как стихотворец, но и как художник. «Городок у реки – как на дивной картине: / Очарована синею бездной скала, / Два моста – разноцветие радужных линий, / Два потока – сверкающие зеркала».
Однако Ли Бо не ограничивается внешним красочным слоем пейзажа. О метафизическом смысле белого цвета тут уже упоминалось; но ведь и желтый выходит на натурфилософский уровень – один из пяти основных цветов, он не имеет прямого соотнесения с каким-либо временем года, но как метоним золота (металла) сближается с осенью, а через даоскую мистику – и с занебесными высями бессмертия. Поэтому желтые лепестки хризантем, которые опадали в чаши с вином тех, кто осенний праздник «двух девяток» ритуально проводил в горах, нельзя воспринимать только как живописный штрих.