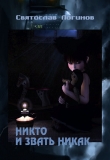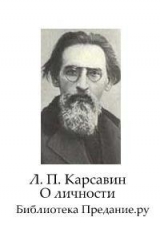
Текст книги "О личности"
Автор книги: Лев Карсавин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
Так как в основе своей знание инобытия является знанием о нем как о целом, это инобытие не таит от нас в дальнейшем никаких принципиальных неожиданностей. Бели бы вещь была, например, актуальною, сознающею себя и самодвижною личностью, мы бы о том, наверное, знали; а раз мы этого не усматриваем, вещь, без сомнения, не личность, но – только вещь. Не нужно расслабленного умиления перед тайнами, которое всегда оборачивается грубейшим материализмом. Знание мужественно, твердо и ясно. Оно не отрицает тайны, но трезво и безбоязненно видит в ней не что–то трансцендентное или абсолютно запредельное, вопреки этой запредельности время от времени почему–то прорывающееся в мир. Оно видит в тайне то, что зовет к постижению и постоянно постигается как недоступное до конца несовершенному бытию его совершенство и Богобытие. Страшная тайна обволакивала языческий мир, но Христос «разрушил преграду» (methorion), и мы живем в Божьем мире чудес, как в своем родном доме [76]76
Имеется в виду преграда между язычниками и народом Божиим. О ее разрушении говорится в Послании к ефесянам: «Ибо Он (Христос) есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду» (Еф 2, 14). Однако у Павла здесь слово fragma, а не methorion; последнее вообще не употребляется в Новом Завете.
[Закрыть]. Только язычник боится «потустороннего» и влечется к нему, чтобы, познавая его, превращать его в опостылое и пошлое «здешнее».
Именно опредмеченность знания и навык рассматривать мир как систему элементов, хотя бы и под именем «органического целого», мешают правильному пониманию симфонической личности. Наиболее естественный и в качестве рабочей гипотезы очень удобный окказионализм (§ 23) осложняется смутным восприятием конкретного единства мира, взрывающего жалкую оболочку системы. А это смутное восприятие порождает мистическое в дурном смысле понятие причинности, оборачивающееся материализмом. Не приходится удивляться тому, что само единство или «дух» мира начинают понимать как особое тело, взаимодействующее с «телом» мира. В силу же многозначности термина «дух» (§ 22) дух симфонической личности мира ставится в ряд с индивидуальным духом. И таким образом над конкретным миром воздвигается полное подобие его, только бесконечно обескровленное и обесцвеченное, – духовно–телесный же мир, ошибочно почитаемый духовным. Его представляют себе как иерархическое царство духов, причинно взаимодействующих друг с другом и конкретным миром. Но для него этот конкретный мир, собственно говоря, не нужен: можно конкретный мир и совсем отрицать, как можно воображать совершенную самостоятельность «духовного», называя его царством «духов бесплотных» или ангелов (§ 22). Только ни к чему хорошему такое воображение не приведет.
25
Обычно проблема взаимоотношения духа и тела ставится и решается (?) применительно к индивидуальной личности. Но именно обычная ее постановка легкомысленна и делает ее проблемою мнимою. В самом деле, предварительно не отдают себе отчета в смысле употребляемых терминов: «дух», «душа» и «тело», – так что остается в конце концов неясным, взаимоотношения чего разыскивают. Если же и задумываются мимоходом над смыслом терминов, так под «духом» и «душою» разумеют в лучшем случае духовно–телесное существо, в худшем же – просто другое тело. К тому же самым беспечным образом смешивают внутреннее опознание тела или порядок самознания с внешним или порядком знания. В связи с отсутствием этого различения, естественно, не различают тела собственно–индивидуального от симфонически–индивидуального и симфонического. Телесное смешивается с духовным, инобытное – с моим.
Само взаимоотношение рассматривается в категориях, выработанных на условно–абстрактном изучении вещного мира, категориях, очень удобных и полезных в своей узкой сфере, но неприменимых за ее границами: в конкретно–целостном познании бытия. Это делает всякую теорию взаимодействия между духом и телом более или менее скрытым материализмом. Материалистичны уже понятия взаимодействия и взаимоотношения, и – не только потому, что с ними невольно ассоциируются представления о «внешнем» мире, а и потому, что в них понятие духа утрачивает признаки неучастняемости, неделимости, единства и единственности. Этот материализм становится очевидным, когда взаимодействие начинают понимать как причинное, считая притом излишним метафизический анализ причинности или вместо фигового листа украшая ее прилагательным «психическая». Сюда же относятся психофизический параллелизм, который в конце концов низводит человека на степень обезьяноподобного существа, и наиболее лукавая форма его, скрывающаяся за различением «причин» и «поводов». Различение само по себе очень наивное. Если для данного духовного или психического акта данный органический или физический факт, называемый его «поводом», не необходим, этот «повод» существенно не связан с актом и, являясь чистою случайностью, не заслуживает даже упоминания. Если же он необходим, то он не что иное, как «часть» причины, другая «часть» которой заключается в самом действующем «духе», и перед нами психофизический параллелизм, тщетно взывающий о его метафизическом истолковании. Если же сверх того мы допустим, что нет психического акта без повода, мы обязаны будем признать, что нет в психическом субъекте ни свободы, ни инициативы. Он тогда действует столь же свободно, сколь свободно стреляет солдат по команде «пли» или даже – ружье солдата, когда солдат нажимает собачку. Завидная свобода!
Как единство самого моего тела, дух ему не противостоит, но он и оно – одна и единая моя личность, – единая в качестве духа, множественная и разъединен» ная в качестве тела. Правда, сама моя личность в качестве своего «определенного первоединства» противостоит себе как своему множеству и телу (§ 8—10). Но определенное первоединство, являясь источником и началом множества–тела, порождает его и в нем, как са~ ма личность, рождается или саморазъединяется, погибает и воссоединяется или воскресает. Однако оно вне акта порождения в саморазъединение–самовоссоединение личности никак не вмешивается, хотя, будучи самою личностью, с ним едино и в нем наличествует. Оно не взаимодействует с телом: не воздействует на него и не испытывает его воздействий. И тем не менее оно противостоит множеству–телу как единство–дух. Противостоит же оно не только как пребывающее вне, но и вполне конкретно: как противостояние отожествляющегося с ним момента – прочим, отчуждаемым моментам, в чем и смысл того, что мы назвали «производностью» взаимопротивостояния моментов. Здесь определенное первоединство едино с порожденным им моментом, а в нем является как стяженное и символизируемое им единство прочих за вычетом противопоставленных. Вот если мы обезличим нашу личность да еще станем отрицать и определенное первоединство, тогда мы действительно окажемся лицом к лицу с множеством взаиморазъединенных моментов и, не усматривая его производности, сможем установить соотносительные изменения моментов, но не сумеем пойти далее констатирования факта. И удовольствуемся ли мы минимумом метафизического объяснения – окказионализмом – или предпочтем мистическую туманность причин и поводов, мы неизбежно будем низводить на плоскость множества моментов и считать одним из них смутно воспринимаемое нами их единство.
Я представляю себе, т. е. в конце концов познаю, мое тело. Это представление не копия моего тела во мне познающем, а само мое тело и в то же самое время я сам. В этом представлении я уже воссоединяюсь с моим телом и составляю единство с ним. Но я с ним и разъединен и до конца разъединения не превозмогаю, в чем сказывается бессилие или призрачность моего знания, к тому же опредмеченного (§ 24). Опредмечено же оно не потому, что ложно, а потому, что мое тело не только мое (§ 22). Таким образом, познание мною моего тела – мои саморазъединенность и относительное само–воссоединение, а не воздействие на меня моего тела или – меня – на мое тело. И я как познающий здесь вовсе не дух, а духовно–телесное существо. Удивляют меня философы, которые толкуют о самопознании вкривь и вкось, а в различении духа и тела пытаются уничтожить всякую возможность самопознания. Действительно, какое же само–познание там, где вместо личности внешнее соотношение духа и тела и отожествляемый с личностью дух познает не себя, но внешнее ему тело? Впрочем, правильное понимание очень затруднено тем,, что наше тело в силу нашего несовершенства всегда дано нам уже возникшим и порождающая тело деятельность духа легко истолковывается как только его преобразующая.
Я хочу двинуть моею рукою, и моя рука двигается. В моем хотении содержится моя целевая, т. е. предвосхищающая будущее, активность и более или менее ясное представление о процессе ее конкретизации и о ее результате или цели. Следовательно, «хотение» мое некоторым образом содержит уже в себе свою осуществленность и все свое свершение, не образы их, но их самих. (Скорее уж, само оно их образ.) В хотении моем я раскрываю себя как всевременного, хотя оно – лишь момент многомоментного процесса и содержит в себе последующие моменты не так, как обладает самим собою, не в актуальности настоящего, а – в качестве будущего. Таким образом, хотение не причина движения руки, а один из моментов (пускай даже – начальный) сопровождающего единый духовно–телесный процесс взаимопротивостояния между «духом» и «телом». Поскольку я опознаю мое хотение, оно – мое познавательное качествование. И подобное истолкование вовсе не делает меня пассивным созерцателем происходящего во мне. Не во мне происходит духовно–телесный процесс, но он и есть я сам. А кроме того, я активен и в опознании совершаемого мною как само мое разъединение–воссоединение. Выло бы также неправильным определять описываемый процесс как «натуральный» и «необходимый». Все опознанное тем самым приобретает характер прошлого, неотменимого и неизменного. Описываемый же процесс не вне личности, а сама из всевременности во временность развертывающаяся личность, которая становится иною, т. е. возникает и создает себя. Именно наш анализ и вскрывает конкретную и настоящую самодвижность или свободу личности, усиленно уничтожаемую философами с помощью причин и поводов (см. мою статью «О свободе» [77]77
«Мысль».СПб., 1923, № I.
[Закрыть]).
Данному объяснению нимало не противоречит существование неосуществившихся актов. Ибо в каждом моменте стяженно содержатся вся личность и, следовательно, все аналогичные акты, а знание несовершенной личности не может быть совершенным и безошибочным. С несовершенством же познавательного качествования, да и с онтическим значением его, связано и то, что это качествование не предстает как непрерывное. Так, возможно, что тот либо иной духовно–телесный процесс протекает «бессознательно». И если органический процесс сопровождается так называемою «потерею сознания», здесь перед нами не воздействие тела на дух, а просто – перерыв в самосознании, естественный уже потому, что оно – знание, а знание – прерывность. Видимость причинно–следственной связи получается от того, что существует некоторое соответствие не между духом и телом, а между определенными духовно–телесными процессами и перерывами самосознания. Предполагаем, что тут обнаруживается бессилие несовершенной личности актуализовать высшую как себя самое, по крайней мере – актуализовать вполне. В этом случае индивидуальная личность ниспадает до уровня зачаточно–личной, как бы растительной жизни. Надо понимать, что бытие личности не исчерпывается высшими своими планами – сферою самосознания, что оно в значительной мере животно и растительно, даже вещно и что перерывы самосознания вовсе не представляют собою какого–то редкого явления.
А из этого явствует, что перерывы самосознания по преимуществу относятся к области соотношения индивидуальной личности с вещным инобытием, с животным же и человеческим – постольку, поскольку и они вещны. Так мы приходим к мнимому взаимодействию индивидуального духа с внешним миром. Пытаясь это взаимодействие объяснить, обычно совершают иогическую ошибку, известную под именем «quaternio terminorum» [78]78
Букв, «учетверение терминов» (лат.) – построение неправильного силлогизма с числом терминов, не равным трем.
[Закрыть]. – Противопоставляя духовно–телесную личность внешнему миру, в то же самое время отожествляют эту личность с душою, духовно же телесную душу отожествляют с духом. Удар палкою по голове рассматривают так, словно он приходится прямо по душе. Взаимообщение людей, их беседы склонны сводить на колебания воздуха и барабанных перепонок, не замечая, что в словах есть смысл и, во всяком случае, не вещное содержание. Грань между индивидуумом и внешним миром проводят там, где предположительно начинается предполагаемая его душа, словно отрицая индивидуально–личное качество его тела, душу же его тем не менее за границы этого тела не выпуская. При подобной установке нельзя прийти к сколько–нибудь ценным выводам. Правильная же установка является установкою на симфоническую личность; и мне кажется, что после всего сказанного в § 23 и 24 нет надобности в дальнейших разъяснениях.
Признавая личное сознание и самосознание (§ 15а) высшею ступенью индивидуально–личного бытия и, с другой стороны, связывая перерывы самосознания с отношением личности к вещному инобытию, мы отнюдь не склонны «развеществлять» знание. Напротив, определенность знания связана именно с вещностью, с физически–пространственною распределенностью мира (§ 24). Если бы мир не был личным бытием, симфоническою личностью, т. е. если бы не было и личностей индивидуальных, вещи оставались бы абсолютно разъединенными: недаром же физика не может существовать без, правда – жалких, остатков симфонической личности, называемых физическим пространством. Но тогда бы единство вещей, не соединяя их, не было и внутренним их единством. А без единства не было бы ни вещей, ни частей, хотя рыжебородый дурень до сих пор понять этого не может [79]79
Личность «дурня», увы, нами не установлена; читатели приглашаются к собственным изысканиям.
[Закрыть]. С другой стороны, если бы мы каким–нибудь чудесным образом изъяли из мира вещное бытие, мы бы тем самым исключили всякую вещность и из личного тела, т. е. из самого личного бытия. А тогда бы личное бытие расплылось в неопределенности и алогичности, т. е. стали [бы] невозможными сознание, знание и оно само.
Итак, знание – необходимое внтически условие вещного бытия, а вещное бытие – необходимое следствие самостановления и самоопределения личности. Мир не может существовать без вещности, вещности же не может быть без самознания, сознания и знания, без личного бытия (§ 15). Конечно, вещность – предельная умаленность личного бытия. Но она – необходимый момент в развитии мира как личности и во всеединстве мира. Она есть и должна быть, хотя и превозмогается и должна быть всецело преодолена. И несовершенство мира в том, что вещность его не только преодолевается, а еще и не преодолена. Не преодолена же она потому, что не доведена до конца; и в том, что мир недостаточно определен. И вследствие закоснелости мира в этой его недостаточности физическая пространственность и вещность и предстоят нам как проклятие нашего бытия, как страшные, дьявольские чары.
Другая сторона несовершенства личности – в том, что существуют потенциальные личности, которые только вещны, и что вещность как бы слагается еще и в особую, словно замкнутую в себе и противостоящую актуальному личному бытию, несмотря на то что и в нем она есть, сферу.
26
Всякая личность развивается, т. е. самовозникает, достигает апогея и погибает. Но, как несовершенная, она не знает настоящих начала, апогея и конца: всегда уже возникла, еще не погибла, отстоит от своего апогея. Этим мы нисколько не отрицаем фактов: эмпирических рождения, смерти и относительного расцвета (§ 13).
Неудивительно, что человек не знает ни своего начала, ни своего конца. Для этого он должен стать выше их, т. е. прежде всего и не быть. Не быть же индивидуум может лишь постольку, поскольку он из этого момента социальной личности превращается в другой момент, т. е. поскольку он уже не собственно индивидуум, а социальная личность. Начало и конец индивидуума установимы лишь по отношению к другим индивидуумам, т. с. только в лоне социальной личности. Но то же самое следует сказать и о социальной личности, как и об индивидуируемых ею высших личностях и о самом мире в целом. Могут ли тогда быть вообще какие–нибудь, хотя бы и несовершенные, начало, апогей и конец?
Мир, как все тварное бытие и одна симфоническая личность, несомненно, должен иметь начало, апогей и конец. Иначе бы нигде в нем не было и несовершенных начала, апогея и конца. А без конца и начала че было бы определенности. В рождении индивидуума рождается мир, в смерти его весь мир умирает. Пользуясь довольно грубою метафорою, можно сказать, что в миг своей смерти все люди, которые жили, живут, могут и будут еще жить, – современники. Только так и можно понять правду раннехристианского упования на близость конца мира и признать неложность слов Христа об этом конце.
Начало, апогей и конец мира взаимоотличаются и во временном их качествовании; но они не временем определяются и в существе своем не временные миги. Иначе пришлось бы рядом с миром, т. е. рядом со всем тварным бытием, предполагать еще какое–то бытие, за ним – третье и так далее до бесконечности. Очевидно, что объяснения надо искать в отношении мира к Богу. А это отношение не является временным, ибо тогда бы время оказалось Богом, Бог же – каким–то вторым относительным, тварным бытием.
Мир относится к Богу, как самодвижное («свободное») творение к своему свободному Творцу. – Вечно сущий Бог перестает быть, дабы возникла и стала Богом, т. е. Им самим, тварь. Он отдает Себя твари, которая тем самым самовозникает (без «само» – тварь не была бы свободною). Тварь самовозникает и, осваивая Бога, обожается, становится самим Богом на место самого Бога. Став же Богом, она уже не может (ибо свободно хочет быть Богом, а не философом–еретиком) не отдавать себя Богу. Она свободно отдает себя Богу, которого уже нет, жертвенно умирает, дабы Он снова был, а ее снова не было. Но Бог всегда есть, а тварь не есть, есть и не есть. Божье «не есть» включено в Божье «есть» и его не отрицает. Существует глубочайшее онтическое различие между «не есть, которое из есть и после есть», и «есть, которое после не есть и из не есть», различие между Богом и тварью (§ 13, 17).
Здесь налицо некоторый порядок и некоторое онтическое последование. – Сначала – только один Бог, потом – Бог умирающий и тварь возникающая, потом – только одна тварь вместо Бога, потом – тварь умирающая и Бог воскресающий, потом – опять один только Бог. Но все «сначала» и «потом» и сразу: Бог есть и Богочеловек. Так нет бесконечного кружения. Возникновение твари есть и умирание ее, и ее воскресение из небытия, так что жертвенное умирание Бога, причаствуемое тварью, которая в этом Богопричастии возникает и есть, – начало и конец всего. Это онтическое последование всевременное. Временное же последование – модус всевременности. Равным образом (§ 13) и пространственность – модус и качествование всепространственности, соотносительное другому ее качествованию (модусу) – единству.
В разъединении твари с Богом – начало всяческого начала и конца твари, т. е. и внутреннего ее разъединения. Здесь последнее основание процесса развития, движения от начала чрез апогей к концу, как и возможности различать и познавать эти три момента развития. Здесь же начало временного последования, соотносительного сразу–данности всех временных мигов. Но сразу–данность является в нас более ограниченною, чем последование. И эта обусловленная несовершенством твари ущербность ее «натурально» (не только эмпирически, а и метаэмпирически) для твари непреодолима.
Несовершенство твари мы уже определяли как недостаточность ее единства с Богом и внутреннего ее единства, т. е. – как ее «преимущественную разъединенность». Но эта недостаточность единства вместе с тем является и недостаточностью разъединенности или определенности (§ 25). А отсюда опять–таки следует, что в несовершенном тварном бытии невозможно точно установить начало, апогей и конец чего бы то ни было и что в нем точно определимых начала, апогея и конца нет и на самом деле.
Несовершенное личное бытие не обнаруживает точного разъединения и точному определению не поддается. Если мы и устанавливаем в нем периоды и моменты развития, – ни один момент, ни одно событие не являются резко и точно выделимыми и определимыми. Везде и всегда мы усматриваем непрерывное вырастание их из прошлого, так что не найти их начала, и непрерывный переход их в будущее, так что не найти их конца. Все это предрасполагает нас к тому, чтобы легко и быстро, слишком поспешно соглашаться с описаниями душевной жизни только как непрерывного процесса.
Однако, если бы личное бытие являлось чистою непрерывностью, оно бы представлялось безличным, неразличимым и непознаваемым, чего на самом деле нет. Его, пожалуй, можно изобразить в виде непрерывной линии, но линии с довольно резкими утолщениями или даже – в виде ряда узлов, связь между которыми несомненна потому, что мы ее усматриваем косвенным путем.
Развитие индивидуальной личности прерывается благодаря взаимообщению ее с другими личностями и вещами; но взаимообщение это всегда предполагает развитие высшей личности, которое в данном случае мыслится уже как непрерывное. Развитие наивысшей социальной личности – человечества – получает, однако, характер прерывности в меру взаимопротивостояния между человеком и природою. Практически трудно поэтому представить себе развитие личности (как индивидуальной, так и социальной) «в чистом виде», абстрактно.
Я очень хорошо знаю, что мое индивидуальное развитие непрерывно. Иначе оно бы не было моим, не «составляло» моей единой личности. Поэтому я встречаюсь как с чем–то само собой разумеющимся с тем фактом, что нигде и никогда не наблюдаю в моем личном развитии полного начала или полного конца чего бы то ни было. Замечаю, что, «это» мое состояние уже началось, что «то» мое состояние уже кончилось; но никогда не усматриваю самого начала и самого конца, никогда не могу локализовать их во времени и даже недоумеваю перед неизбежно всплывающею и неустранимою мыслью о том, что у них есть начало и конец. Всякий момент моего развития характеризуется расплывчатостью своих контуров, неуловимо вытекает из предшествующего и неуловимо же переливается в последующий.
Даже допустив, что мое личное бытие является абсолютною множественностью (– допущение, как мы знаем, неверное), я вынужден буду представлять себе мое развитие в виде причинного ряда. В этом ряду не будет ни одного непричиненного и непричиняющего момента, сколько бы я ни разъединял моменты на новые и сколько бы ни увеличивал их число. Правда, соответственно росту разъединения будет уменьшаться разрыв между соседними моментами, и образ моего развития будет стремиться, как к своему пределу, никогда не достижимому, к образу развития непрерывного. Но, очевидно, я не стану, подобно какому–нибудь физику, пользоваться категорией причинности, не вникал в ее смысл; равным образом не унижусь я до успокоения вместе с кантианцем на слепой вере в трансцендентальность этой категории. Если же я стану исследовать ее природу, я необходимо приду к убеждению в тожестве причиняющего с причиняемым, вернее – к убеждению в их единстве. И тогда – поскольку двуединство есть и единство – непрерывность моего развития сделается самоочевидною. И таким образом выяснится, что причинное объяснение покоится на единстве личности, которая остается собою во всех своих моментах и непрерывно превращается из одного в другой вопреки их разрыву.
Убежденный в непрерывности личного моего развития, а может быть, еще и не в меру увлеченный Бергсоновою метафизикою, я обращаюсь к этому развитию и пытаюсь опознать его во всей его конкретности. Я начинаю «вспоминать» свою жизнь. И вот где–то, близко к началу ее, я вижу себя еще ребенком: как я вечером лежу на кровати отца, за его спиною. Рядом с кроватью ночной столик, на нем керосиновая лампа с ее желтовато–красноватым светом. Отец читает мне «Сон Татьяны». Вижу в общем его фигуру и лицо, жест его правой руки, когда он произносит: «Вот череп на гусиной шее вертится в красном колпаке»; слышу интонацию, рассчитанную на вразумление младенца, немного, стало быть, нарочитую; вижу умышленно расширяемые глаза, пенсне. Ощущаю себя ребенком, хотя и хорошо знаю, как в этой «преувеличенности» или! «аффектированности», поскольку я ее воспринимаю и оцениваю, сказываются позднейшие периоды моего развития.
Вновь переживаемый мною сейчас момент моей жизни не ограничен началом и концом. Но все же он явственно выделяется в прошлом: словно светлый кружок на темном фоне. Знаю, что он связан неразрывно и с предшествующими ему, и с последующими; и все–таки непосредственно никакой его связи ни с теми, ни с другими не усматриваю. Он выделен, вырван: до него и после него – «забытое». И если я перехожу к обозрению всего процесса моей жизни, мне предносится лишь ряд таких же обособленных картин. Сначала мне казалось, что это – дефект моей индивидуальной психики и что правы авторы разных «историй душ». Мало–помалу я убедился, что правота на моей стороне, а они – выдумщики. В самом деле, устанавливаемые мною связи между «картинами» всегда – мои «предположения» и «построения», а не «переживания» в том же смысле, что и сами «картины». Да ведь то же я наблюдаю и непосредственно, вовсе не «вспоминая», а находясь в самом процессе развития. Я замечаю, например, как неуловимо сходит на нет целый период моей жизни, замкнутый в себе, несмотря на то что у него нет ни конца, ни начала, и как одновременно нарастает другой, уже начавшийся, хотя и неведомо для меня – когда. Как же иначе, раз я познаю мое развитие, условием же знания является разъединенность? Но знание – качествование бытия, и прерывность должна быть объективным фактом.
Периодизация личного бытия обладает онтическим основанием. Вопреки несомненной непрерывности развития, «события» – не менее несомненная реальность. Это справедливо для всякой личности: социальной столько же, сколько индивидуальной. Развитие определяется началом, апогеем и концом. Будучи же качествованием всего бытия, оно «повторяется» и во всяком его моменте. Но в силу единства бытия существо не в том, что всеединым бытием «повторяется», вернее же – осуществляется всеедино. Личное бытие – диалектический процесс, в конкретности же своей – процесс исторический.
Относя на долю несовершенства недостаток непрерывности, необходимо на долю того же несовершенства отнести и недостаток прерывности (ср. § 13). Совершенное личное бытие не множественно, но и не едино: оно всеедино, что и отражено его несовершенством.
27
В совершенстве своем все сущее лично. Поэтому особенного внимания заслуживает именно социальная личность. Социальных личностей много, и бывают они личностями разного иерархического порядка (что не исключает их этической равноценности), или разной степени «общности»: от первичной социальной группы до человечества как высшего олицетворения мира. Они различаются по специфическому личному своему качествованию, по своей «идее» и еще – по степени своего относительного совершенства (ибо несовершенство личностей тоже не может быть одинаковым). Самоочевидно, что более совершенный индивидуум – момент в «вертикальном» ряду более совершенных социальных личностей, которые, иерархически соотносясь между собою, все в нем индивидуируются и живут. Так, совершеннейший человек должен принадлежать к совершеннейшим семье, социальной группе, народу, культуре. Но, разумеется, критерием совершенства здесь может быть только критерий абсолютный, т. е. Богочеловечество.
Всякое взаимообщение двух или более индивидуумов – беседа или даже просто мимолетная встреча – уже предполагает некоторую социальную личность, их двуединство, триединство, многоединство, без которого невозможно ни взаимопознание, ни какое бы то ни было взаимообщение. Эта социальная личность могла до данной «встречи» индивидуумов совсем не существовать, возникнуть или родиться только в самом факте их «встречи». Она может не «пережить» их «встречи»: умереть в их разлуке. Она может быть «социальною эфемеридою», неожиданно появляющеюся, чтобы сейчас же исчезнуть, лишь легкою зыбью взволновав индивидуальное существование. Но она была и потому всегда есть. Не индивидуумы ее «составили», «сложили» или «склеили», ибо она – условие и существо их недолгого единства. Она в них индивидуализовалась и на миг сделала их своими моментами, однако – не как извне налетевшая стихия, а как они сами, на миг переставшие быть моментами других социальных личностей и ставшие ее моментами. Индивидуум, как, скажем, момент семьи, а в нем и чрез него – сама его семья начали становиться моментом новой социальной личности, умирать в качестве семьи, чтобы родиться чем–то другим, начали становиться, но так и не стали.
«Случайное» и недолгое общение «незнакомых» людей, митинг, «собрание», одушевляемая «одним» чувством или импульсом толпа: все это – социальные эфемериды, в разной степени себя осуществляющие. Рядом с ними можно наблюдать множество социальных личностей, которые обладают более длительным и развитым существованием, хотя и проявляют себя лишь время от времени. Назовем их «периодическими» социальными личностями. Посредством неуловимых переходов они связаны, с одной стороны, с социальными эфемеридами, с другой – с относительно развитыми и стойкими, «постоянными» социальными личностями, хотя в известной степени всякая личность периодична, то явственно себя актуализуя, то приближаясь к потенциальному состоянию. Так, периодическими социальными личностями будут ученое или спортивное общество, партийный съезд, съезд советов и т. д., «постоянными» – разбойничья шайка, семья, правительство, народ и т. п. Но и постоянная личность может быть очень ограниченною и «безжизненною», а периодическая достигать многообразного самораскрытия.
У всякой социальной личности есть основное ее задание или – по отношению к высшей, индивидуируемой ею личности – основная ее функция. От многообразия и полноты этой функции зависит и полнота самой социально–личной жизни. Так народ и семья определяются очень обширными, почти всеобъемлющими заданиями. Они должны индивидуализировать в себе все бытие, а не качествовать лишь немногими его качествованиями. Благодаря этому они могут достигать высокой степени личного бытия и явственно выражаются в своих индивидуумах. Внутри себя они функционально–органически членятся и функционально определяют взаимоотношения своих индивидуумов. Естественно, что в таких развитых личностях легко обнаружима и их телесность: известное биологическое единство, общий этнический уклад, взаимообщение с одною и тою же «средою». И трудно, действительно, преувеличить значение того, что люди живут в одной и той же обстановке, едят одну пищу, дышат одним воздухом. Ведь это все и есть их общее тело, телесная сторона их взаимообщения. (Отсюда понятно, почему эмигранты должны либо перерождаться, либо вырождаться, и тем скорее, чем они рассеяннее.) Напротив, сословие, не переставая быть социальной личностью, Обладая «общим» миросозерцанием, «общим» социально–психическим укладом, уже функционально ограничено и отрицает многие качествования других сословий. Еще ограниченнее, функциональнее и как личность потенциальнее современный класс. Он – элементарное, зачаточное образование, довольно точно выражаемое тем примитивным понятием, которое выдвигает исторический материализм, более определяемый бытием, чем он сам подозревает. Говоря вообще, чем ограниченнее функция, тем менее актуализуется личное бытие в социальной группе, ею определяемой, и тем менее индивидуум эту социальную группу выражает.