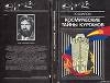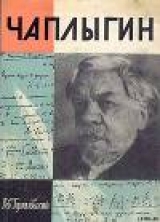
Текст книги "Чаплыгин"
Автор книги: Лев Гумилевский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
9
ДОКТОРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ
Но Муза, правду соблюдая,
Глядит, – а на весах у ней
Вот эта книжка небольшая
Томов премногих тяжелей.
Фет
Докторскую диссертацию свою Сергей Алексеевич писал летом 1901 года в Крыму.
Шли последние годы мирового благополучия. Не было ни войн, ни революций. Александр III стал именоваться «царем-миротворцем». Наследовавший ему Николай II начал царствование приемом депутатов от всех сословий, которым сказал:
– Мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления; пусть все знают, что я, посвящая все силы свои благу народному, буду охранять начала самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный покойный родитель.
После раздачи серебряной медали в память «царя-миротворца» всем, кто служил в его царствование, новый царь собрал в Гааге представителей европейских государств на мирную конференцию. Конференция декларировала необходимость улаживать конфликты мирным путем, учредила Международный третейский суд и предложила участникам сократить вооружения. Грубый окрик в адрес русской интеллигенции был смягчен указом о ежегодном ассигновании 50 тысяч рублей для оказания помощи нуждающимся ученым, писателям, публицистам через специальную комиссию при Академии наук.
Люди ложились спать с уверенностью, что учредившегося благополучия уже ничто не может нарушить, и, встав с постелей, спокойно возвращались к размеренной, благополучной житейской суете. Землетрясения, эпидемии, неурожаи, наводнения относились к событиям, имевшим «местный характер», и мирового благополучия не нарушали.
В Крыму это благополучие сказывалось во всем.
Когда-то греческая, потом татарская, затем турецкая крепость Ялта, став уездным городом Таврической губернии, приобрела все черты курортного города: появились гостиницы, пансионаты, магазины, бульвары, скверы, набережная. В осенне-летний сезон население увеличивалось вдвое, и обычно скучный, провинциальный город оживал. Сосредоточивалась публика на набережной, у пристани, особенно по вечерам, когда приходил пароход. Среди гуляющих встречалось много генералов и немолодых дам в вечерних туалетах.
За полгода до приезда Чаплыгина в Ялте сгорел городской театр.
Кроме кофеен, набережной, городского сада, деваться было некуда. Утрами Сергей Алексеевич уходил в горы, совершая свои длинные, задумчивые прогулки. Днем шел к морю, в сторону от города: он прекрасно плавал и заплывал так далеко, что на берегу собиралась толпа.
Когда он возвращался, раздавались аплодисменты.
На набережной в книжном магазине можно было купить газеты, почтовую бумагу, марки. Там же Сергей Алексеевич писал свои короткие письма домой. Возвращаясь в гостиницу, он зажигал на столе одинокую свечу и писал диссертацию.
Диссертацию Сергей Алексеевич назвал коротко и просто: «О газовых струях». Но по своему содержанию она шире своего названия, и полученные в ней результаты имеют общий характер. Но, как это часто бывает едва ли не со всеми гениальными произведениями, работа Чаплыгина была полностью понята и оценена много позднее первого появления ее в печати.
Механикой жидкостей и газа Сергей Алексеевич занимался и раньше, исследуя струйные течения. Струйная теория лежала в основе изучения законов движения тел в жидкости. Общий метод решения задач о струйных течениях несжимаемой жидкости разработал Жуковский в 1890 году. А в 1899 году Сергей Алексеевич выступал в Московском математическом обществе с докладом «К вопросу о струях в несжимаемой жидкости». Основываясь на работе своего учителя, он иным способом решил задачу о струйном обтекании пластинки потоком несжимаемой жидкости. Таким образом, вопрос о струйных течениях в жидкости был не нов. Задача о струйном обтекании тел газом, наоборот, до Чаплыгина едва была затронута. Болезненная чуткость к нерешенным проблемам побудила Сергея Алексеевича взяться за исследование газовых струй в поисках методов для решения задачи о прерывном течении газа.
В своем классическом исследовании «О газовых струях» Сергей Алексеевич прежде всего с математической убедительностью показал, что характер задачи резко меняется в зависимости от скорости потока. Если скорость потока относительно погруженного тела значительно ниже скорости звука, во всяком случае не превышает половины скорости звука, то есть примерно 440 км в час, то воздух можно считать несжимаемой жидкостью. Сжимаемость его при таких скоростях настолько ничтожна, что для практических расчетов в технике с ней можно не считаться.
Это обстоятельство чрезвычайно упрощало задачу, так как уравнения, определяющие движение жидкости, неизмеримо проще уравнений движения газа.
В своей диссертации Чаплыгин дает гениальное по простоте решение. Оно состоит в том, что если известно решение некоторой задачи теории струй для случая несжимаемой жидкости, то решение аналогичной задачи для газа получится в виде такого же ряда, все члены которого получат лишь некоторые дополнительные множители.
Сергей Алексеевич говорил, что диссертацию свою он написал легко, в «один присест», по его выражению. Решение поставленной задачи принесло ему такое душевное удовлетворение, что о каком бы то ни было практическом значении найденного им метода он не думал, хотя, несомненно, не исключал такой возможности для грядущей техники больших скоростей.
Докторскую диссертацию Чаплыгина можно бы назвать математической поэмой – так она содержательна, проста, логична и ясна. Сначала выводятся основные уравнения и область их применения, а затем исследуются свойства функций, после чего решаются задачи истечения газа из бесконечно широкого сосуда и давления газового потока на пластинку.
В заключение дается приближенный метод решения задач о газовых струях.
Классическая работа Чаплыгина не только не утратила своего значения до настоящего времени, но, наоборот, приобретает все большее и большее значение. Сергей Алексеевич получил в своей работе такие далеко идущие результаты, что его по справедливости называют основоположником газовой динамики – одной из важнейших дисциплин современной механики.
В конце декабря 1901 года в Петербурге происходил XI съезд русских естествоиспытателей и врачей. В качестве члена съезда Сергей Алексеевич выступил в секции математики и механики с докладом «О струевых течениях газов». Доклад произвел впечатление новизной и богатством высказанных в нем мыслей, на что обращали внимание все выступавшие в дискуссии.
Защита диссертации состоялась на физико-математическом факультете Московского университета 26 февраля 1903 года. Оппонентами выступали Б. К. Млодзеевский и Н. Е. Жуковский. Первый оппонент отметил недостаточность рассуждений относительно разделения свойств течений в случае дозвуковых и сверхзвуковых течений. Второй оппонент остановился на умении диссертанта преодолевать очень серьезные математические трудности при рассмотрении вопроса.
Сейчас, когда авиация занимает все большее место в нашей жизни, нет надобности объяснять колоссальное значение работы Чаплыгина.
Но как можно было оценить эту работу в те годы, когда самолеты еще не поднимались в воздух и не находилось ни одной области техники, которая могла бы воспользоваться гениальным решением молодого ученого?
Ученую степень доктора прикладной математики Чаплыгину присудили, и Совет университета незамедлительно это присуждение утвердил, но из лиц, присутствовавших на защите, кажется, только один К. А. Тимирязев почувствовал всю глубину мысли докторанта. Человек, одаренный необыкновенной чуткостью в делах науки, первым назвавший И. П. Павлова «великим русским физиологом», Климент Аркадьевич, поздравляя Чаплыгина, сказал ему:
– Я не понимаю всех деталей вашего исследования, которое лежит далеко от моей специальности, но я вижу, что оно представляет вклад в науку исключительной глубины и ценности!
Чутье не обмануло Тимирязева.
Получение докторской степени побудило Сергея Алексеевича заявить факультету о своем желании принять участие в конкурсе на замещение кафедры механики.
К этому времени состоялась публикация ряда новых работ Чаплыгина. Сюда относятся посвященные трудному вопросу динамики твердого тела с одной закрепленной точкой два сочинения: «Новое частное решение задачи о вращении тяжелого твердого тела вокруг неподвижной точки» и «Линейный частный интеграл задачи о движении твердого тела, подпертого в одной точке».
К проблемам общей механики относятся интересные работы «О параболоидном маятнике» и «О принципе последнего множителя». В первой работе изощренный математический ум Сергея Алексеевича дает изящное решение задачи о движении материальной точки по параболоиду.
Всего к поданному на факультет заявлению Сергей Алексеевич приложил шестнадцать опубликованных работ. Кроме диссертаций, ранних и перечисленных работ, в это число вошли еще две работы, касающиеся вопроса о вихревом движении жидкости.
В статье «О пульсирующем цилиндрическом вихре» он дал решение задачи об изменяющемся со временем эллиптическом вихре посредине массы жидкости, находящейся в вихревом движении.
Во второй статье «Один случай вихревого движения жидкости» Сергей Алексеевич исследовал новый, возможный случай движения кругового вихревого столба, заполненного вихревыми нитями различных напряжений. Этот столб, по объяснению автора, находясь среди жидкости, движущейся невихревым движением, создает поступательное движение, подобно вихревому шару.
Представленные на конкурс работы Чаплыгина декап факультета передал на отзыв Н. Е. Жуковскому.
Напомнив о своих отзывах по поводу ранних работ Чаплыгина, получивших премию имени Н. Д. Брашмана и премию Д. А. Толстого, Николай Егорович отмечает, что «в своих диссертациях автор выказал много оригинальности и математического таланта».
«В своей докторской диссертации Сергей Алексеевич разрешает недоступную до его исследования задачу о движении газовых струй. Ему удалось остроумным приемом сблизить свое решение с хорошо разработанной теорией струй в несжимаемой жидкости. Насколько в своей магистерской диссертации Сергей Алексеевич выразил свое искусство в геометрическом толковании задач механики, настолько в своей докторской работе проявил он себя тонким аналистом, умеющим преодолевать значительные тематические трудности рассматриваемого им вопроса».
После специального обзора новых работ соискателя на кафедру механики Николай Егорович дает такое общее заключение:
«По характеру этих работ Сергей Алексеевич является выдающимся представителем нашей московской школы теоретических механиков, поставившей себе целью детальное исследование насущных задач теоретической механики и их геометрическую интерпретацию. Предлагаемые им научные методы исследования имеют всегда налицо свое оправдание в ряде достигнутых результатов и знаменуются множеством доведенных до конца интеграции в задачах, которые прежде представлялись недоступными».
Комиссия, рассматривавшая представленные на конкурс заявления, заслушав отзыв Н. Е. Жуковского, вынесла такое суждение:
«Комиссия полагает, что Сергей Алексеевич стоит в ряду лучших русских ученых по теоретической механике и является одним из блестящих представителей московской школы математиков, разрабатывающих наглядный геометрический метод исследования».
Далее следовала характеристика Чаплыгина как педагога:
«Что касается педагогических талантов Сергея Алексеевича, то они хорошо известны членам комиссии по его профессорской деятельности в Инженерном училище и на Высших женских курсах. К этому комиссия считает нужным прибавить, что по своей находчивости и отзывчивости к чужой мысли Сергей Алексеевич известен также как прекрасный руководитель практических занятий студентов».
Комиссия в составе профессоров Н. Е. Жуковского, Б. К. Млодзеевского, А. К. Соколова и В. П. Церасского признала избрание С. А. Чаплыгина на кафедру механики Московского университета весьма желательным, и 13 декабря 1903 года Сергей Алексеевич был избран, а в январе 1904 утвержден в звании экстраординарного профессора.
Прочное положение в Московском университете, завоеванное теперь, побудило Чаплыгиных переселиться поближе к основному месту работы. Подходящая квартира нашлась в доме № 5 по Кривоникольскому переулку. Встал вопрос и об уходе из Технического училища, чтобы профессорская деятельность не убила бы в педагоге ученого.
10
НЕОЖИДАННОЕ ОТКРЫТИЕ
Мысль! Великое слово! Что же и составляет величие человека, как не мысль? Да будет же она свободна, как должен быть свободен человек.
Пушкин
Русская женщина никогда не подвергалась такой дискриминации со стороны мужчины, как женщины других народов. Бесправие крепостного состояния одинаково распространялось и на мужчин и на женщин.
Рабыней своего мужа она не была. И, по свидетельству иностранцев, не выходя из терема, направляла по своему разумению хозяйственную и государственную политику. В борьбе с домостроем русская женщина шла впереди других наций. И это не только боярыня Морозова или царевна Софья, но тысячи других женщин, таинственно и властно правивших домом и семьей.
Из теремного затвора девушки вырывались одиночками, и тогда мир узнавал о первых русских женщинах – революционерах, математиках, врачах, юристах, химиках: об Анне Жаклар, Софье Ковалевской, Надежде Сусловой, Анне Евреиновой, Юлии Лермонтовой.
Русское студенчество, передовая профессура не раз выступали с требованием допуска женщин наравне с мужчинами во все высшие учебные заведения. Военно-медицинская академия проводила прием женщин явочным порядком. Общественность добивалась разрешения частных высших женских курсов, и время от времени самодержавное правительство вынуждено было уступать этим требованиям, а потом, как это принято у всех деспотов, отнимать данные права.
Так, в 1886 году Министерство народного просвещения предписало прекратить прием слушательниц на все высшие женские курсы, мотивируя это распоряжение необходимостью пересмотра вопроса о высшем женском образовании. Через три года разрешен был прием на Петербургские высшие женские курсы, но руководство ими из рук общества, их создавшего, было передано в руки директора, назначенного министерством. Русская общественность отвергла новый порядок. Существовавшие в Москве Лубянские высшие женские курсы и частные курсы профессора Горье закрылись. При научных обществах стали читать лекции по отдельным предметам. В то же время не прекращались настойчивые требования о возобновлении высших женских курсов в других городах страны.
В апреле 1900 года Государственный совет вынес решение об учреждении в Москве высшего женского учебного заведения университетского типа. К началу учебного года министерство выработало устав Московских высших женских курсов. Целью их ставилось углубление знаний, полученных в средних учебных заведениях. Оканчивавшим курсы никаких прав не предоставлялось, существовать они должны были на собственные средства. Организационно курсы ничем не напоминали университет, и даже общепринятые высшей школой термины, как «факультет», «декан», «ректор», в уставе отсутствовали.
Все это не столько разочаровывало организаторов и первых студенток, сколько, наоборот, пробуждало энергию сопротивления.
Среди первых лекторов, открывших в январе 1901 года занятия на Московских курсах, были Сергей Алексеевич Чаплыгин и Владимир Иванович Вернадский – известные поборники высшего женского образования. На много лет вперед с Высшими женскими курсами связал свою жизнь и деятельность Сергей Алексеевич, неожиданно открывший в себе административно-хозяйственный талант, чуть не затмивший его математический гений.
Помещением для курсов первое время служили две квартиры, уступленные владельцем жилого дома в Мерзляковском переулке. Одну из них, сняв перегородки в большой комнате, переоборудовали в аудиторию историко-филологического факультета. Соседнюю, небольшую, комнату определили как аудиторию математического факультета, а третью, совсем небольшую, комнату назвали приемной, где помещались одновременно канцелярия, директор, декан, толпились слушательницы и профессора во время перерывов.
Вторую, небольшую, квартиру заняла инспектриса, обязанная следить за поведением студенток. Тут же уместилась химическая лаборатория профессора Реформатского, оборудованная на его собственные средства. Никакого имущества, пособий, лабораторий курсы не имели, а профессора предоставляли для занятий курсисток университетские лаборатории, кабинеты, музеи.
Получалось так, что практические занятия по астрономии шли на Пресне в университетской обсерватории, по физике – в Инженерном училище на Бахметьевской улице, по химии – в Мерзляковском переулке, по минералогии и геологии – в минералогическом кружке у Вернадского в университете на Моховой, и курсистки метались с одного конца Москвы на другой, с лекций на практические занятия и с практики на лекции.
Профессорский коллектив вопреки всем препятствиям, поставленным уставом курсов на пути их развития, вел преподавание вровень с университетским, ни в чем не уступая, и создавал собственные учебно-вспомогательные учреждения. Проведению такой учебной политики в высшей мере содействовали подготовленность слушательниц и исключительное трудолюбие.
Первые свои лекции на курсах Сергей Алексеевич читал в математической аудитории Мерзляковского переулка. Кафедру заменял маленький коричневый столик рыночного производства, а восемь слушательниц первого приема размещались на садовых скамейках.
С напряженным вниманием на лицах недвижно сидели перед суровым профессором курсистки и жадно ловили каждое его слово. Бескорыстная преданность знанию своеобразно подчеркивалась внешним видом студенток; простотой одежды, гладкими прическами. По соглашению друг с другом они строго преследовали пудру, косметику, и самое появление инспектрисы здесь прозвучало бы грубостью оскорбительного контроля.
Сергею Алексеевичу нетрудно было установить в своей аудитории, как в дружной семье, по определению И. М. Сеченова, «ту свободу и непринужденность в связи с порядочностью, которые даются семье только образованностью ее членов, порядочностью преследуемых целей и любовным отношением старших к младшим».
Сергей Алексеевич знал всех своих слушательниц не только по лицам и именам. Он знал, кто как живет, о чем мечтает, к чему стремится. Иван Михайлович Сеченов, по рассказам Чаплыгина, имел очень верное представление о вновь учрежденных женских курсах.
Неизменный пропагандист высшего женского образования, Сеченов в свое время читал лекции и в Петербурге на Бестужевских курсах и позднее, будучи профессором Московского университета, на женских курсах «Общества воспитательниц и учительниц». «Отец русской физиологии», выйдя в отставку в 1901 году, читал на Пречистенских курсах анатомию и физиологию. В частных курсах без организованного правительственного контроля он видел «прообраз народных университетов» и, относя к ним Высшие женские курсы, неизменно расспрашивал Сергея Алексеевича обо всем, что там происходит.
Сергей Алексеевич в те годы любил ходить в гости, любил, когда приходили к нему. У Сеченова собирались люди «высокой порядочности», и Сергей Алексеевич встречался здесь с К. А. Тимирязевым, Н. Д. Зелинским, Н. А. Умовым, М. Н. Шатерниковым, с А. В. Неждановой, в те годы еще ученицей консерватории.
На вечерах у Сеченова гостеприимный хозяин почти никогда не возвращался в беседах к тем идеям, которые составляют его всемирную славу. Вообще, раз высказав какую-нибудь мысль печатно, он уже считал излишним далее ее развивать. Об этой необычности работы Сеченова напомнил слушателям Иван Петрович Павлов на одной из своих лекций. Называя сеченовскую идею о рефлексах головного мозга «гениальным взмахом сеченовской мысли», он заметил:
– Интересно, что потом Иван Михайлович более не возвращался к этой теме в ее первоначальной решительной форме!
Но однажды, оставшись случайно наедине с Чаплыгиным, коснувшимся в разговоре последних достижений механики, Иван Михайлович обратил его внимание на то, что все наши представления об окружающем мире, как бы сложны и красочны они ни были, строятся в конце концов на основе тех элементов, которые даны нам системой наших мышц.
– Поэтому, – пояснил он, – когда мы анализируем явление, стараясь перейти от сложного к более простому, то это наиболее простое и понятное есть не что иное, как движение, к которому математик и физик стремятся свести все явления природы. Мышца дала нам представление о пространстве, о времени, о числе, о счете, и мышце мы обязаны нашим устремлением к механическому воззрению на природу!
Еще не уясненная себе до конца мысль поразила Сергея Алексеевича, предугадавшего выводы из нее. Он с изумлением и почти страхом смотрел на Сеченова. Перед ним сидел как будто обыкновенный старик среднего роста, крепкого сложения, с крупными чертами лица в легких рябинах, но лица необыкновенно подвижного, выражавшего значительность разговора, к которому он перешел.
– Мышца – это двойственный орган, – продолжал он, – наш рабочий орган и вместе с тем исконный, первоначальный орган чувств, воспитавший в порядке своих свойств все другие органы чувств. Вот причина того, что единственно понятной нам формой явлений кажется движение и его элемент в виде материальной точки, движущейся в пространстве и во времени. В этом кроется причина, почему мы стремимся свести все явления к явлениям движения материальной точки и почему это явление до последнего времени считалось пределом нашей познавательной способности, пределом, который ставит нам наша организация.
– Ignorabimus! – вызывающе напомнил Сергей Алексеевич о знаменитом восклицании Дюбуа-Реймона, отрицавшего возможность истинного познания мира.
– Дюбуа-Реймон один из моих учителей, – спокойно ответил Иван Михайлович, – и это его «не будем знать» относится лишь к тому, что элементы сознания мы не в состоянии будем выразить в привычных и понятных нам терминах движения. Но будут новые термины для выражения новых понятий…
Мысль о зависимости нашего механического воззрения на природу от чисто физиологических причин поразила Сергея Алексеевича, но не поколебала его стремление к ясному и полному пониманию явлений природы. Наоборот, сеченовское объяснение механического воззрения на природу обязывало к пересмотру законности такого воззрения, к осторожности в наших научных выводах.
Расставаясь в этот вечер с Иваном Михайловичем, Сергей Алексеевич с особенной теплотой и нежностью пожал его руку.
Общественный интерес к Высшим женским курсам, которые невольно представлял на вечерах у Сеченова Чаплыгин, не ослабевал вплоть до первого выпуска слушательниц в 1904 году.
Государственная комиссия, производившая испытания, вынуждена была признать, что выпускницы получили полное университетское образование, и получившим диплом курсов предоставили право преподавания во всех классах средних женских учебных заведений. Об этой первой победе много говорилось и писалось, несмотря на мрачные события разгоревшейся русско-японской войны.
Учрежденный в Гааге Международный третейский суд не предупредил ни англо-бурской, ни русско-японской войны. Царское правительство отклонило всякое посредничество Международного трибунала и согласилось на него только после горького поражения русского флота при Цусиме. Стремительный рост революционного движения после расстрела рабочих делегаций у Зимнего дворца 9 января 1905 года побудил царское правительство поспешно заключить мир.
Правительство искало новые средства предотвратить надвигавшуюся революцию и в последнюю минуту, в разгар всеобщей забастовки в стране и восстания, выступило с Манифестом 17 октября 1905 года. Манифест провозглашал неприкосновенность личности, свободу совести, свободу слова, собраний, союзов и созыв законодательной Государственной думы.
Первая русская революция принесла высшим учебным заведениям давно требуемую ими академическую свободу и автономию. Накануне всеобщей забастовки, 6 октября, совет Высших женских курсов впервые воспользовался правом избрания директора.
Избранным оказался Чаплыгин.
Манифест 17 октября не успокоил страну. Дума не созывалась, провозглашенные манифестом свободы не осуществлялись на деле. Политические демонстрации, крестьянские волнения продолжались. Готовилось вооруженное восстание в Москве. В декабре началась политическая забастовка. Бастовали железные дороги, фабрики, заводы, учебные заведения, мастерские и торговые предприятия, не работали почта и телеграф.
В разгар всех этих событий к Чаплыгину зашел Михаил Николаевич Шатерников и сказал, что умер Сеченов.
Заняв кафедру физиологии в Московском университете, Сеченов нашел в Шатерникове не только прилежною ученика, но вскоре и сотрудника с хорошей головой и искусными руками и друга с милым нравом и преданностью науке.
Ни о чем другом, как о покойном учителе, Шатерников говорить не мог.
– В тот год, когда я впервые начал заниматься у Ивана Михайловича, – рассказывал он, – пришло сообщение о смерти Гельмгольца. Утром на другой день Иван Михайлович пришел на лекцию в черном фраке, который надевал он очень редко, только в особых случаях. Он был бледен и взволнован. Лекцию он решил посвятить Гельмгольцу… Вы знаете, как он читал! Но лекцию пришлось прервать, он разрыдался сам и ушел из аудитории в соседнюю комнату… Побежали к нему. Лицо его стало совсем белым, крупные слезы падали на его фрак. В смущении он пошел к умывальнику, схватил полотенце, сказал прерывающимся голосом: «Такой человек уходит в могилу…»
Гость и сам вынужден был замолчать, чтобы не зарыдать. Сергей Алексеевич достал папиросу и стал курить. Шатерников продолжал:
– В этом эпизоде весь Сеченов: старый, так много видевший человек, так много переживший, вдруг плачет о смерти чужого человека как о самом близком… Я думаю, что духовное родство крепче кровного родства. Гельмгольц-философ, Сеченов-физиолог близки друг другу по общности мыслей, их увлекавших, по умению отстаивать свои трезвые утверждения в тех областях естествознания, где царил голый идеализм… Сеченова мы еще мало знаем, но к его мыслям, гениально выраженным, мир еще не раз будет возвращаться, их развивать, ими руководиться…
Сообщив день и часы панихиды, выноса и погребения, печальный вестник ушел, прошептав на прощание упавшим голосом через слезы:
– А как он интересовался вашими курсами!
В обстановке всеобщего революционного возбуждения и бурных событий смерть старого, отставного профессора прошла почти не отмеченной общественностью. Но эпизод, рассказанный Шатерниковым, запечатлел в душе Сергея Алексеевича навсегда символическую личность «отца русской физиологии», представлявшего научное движение эпохи революционного демократизма.
Под впечатлением всех этих событий приступил к исполнению своих обязанностей поздней осенью 1905 года первый выборный директор Высших женских курсов.