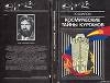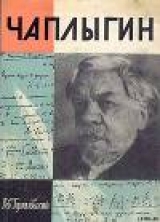
Текст книги "Чаплыгин"
Автор книги: Лев Гумилевский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)
«Огромного внимания требовало устройство людей. Нужно отдать должное местным партийным, хозяйственным и профессиональным организациям – они весьма основательно готовились к приему работников эвакуированных предприятий. Были сооружены благоустроенные бараки с электроосвещением, водой и отоплением. Двести бараков были построены самими эвакуированными. Местные жители – сибиряки – принимали в строительстве самое горячее и бескорыстное участие. Общими усилиями удалось сделать так, что каждая эвакуированная семья получила по отдельной комнате.
Но эшелоны все прибывали, притом прибывали без интервалов – один за другим, и эвакуированных оказалось здесь больше, чем планировалось».
В первые же дни своего пребывания в Новосибирске Сергей Алексеевич возглавил строительство новых лабораторий Научно-исследовательского авиационного института. Через день после приезда Сергею Алексеевичу пришлось принимать такое множество посетителей, что, казалось, весь город только и ждал его, чтобы заняться строительством и организационными вопросами.
В начале января Сергея Алексеевича избирают председателем Комитета ученых Новосибирска, назначают членом редакционной коллегии журнала «Техника Воздушного Флота», председателем Ученого совета филиала ЦАГИ. Он участвует во всех общегородских собраниях: партийных, советских, общественных организаций, выступает на собраниях ученых. К нему же запросто обращаются новосибирцы из руководящих органов, спрашивая обо всем, чего не знали или не умели. Охваченные заботами, они как-то не замечали усталости ученого, болезненного состояния, правда, отлично скрываемого милой, внимательной улыбкой.
И только Михаил Васильевич Кулагин, секретарь обкома, явившись в гостиницу навестить прославленного ученого, прежде всего осведомился о нем самом.
– Как здоровье? В чем трудности? – говорил он, оглядывая небольшой гостиничный номер, забитый чемоданами, узлами, одеждой. – Тут оставаться вам нельзя, тесно, шумно… Я вижу, там, в коридоре, рвутся к вам и свои и чужие… Все наши отцы города перебывали, а ничего, видимо, не сделано…
Этому круглолицему, подтянутому до щеголеватости, живому, все видящему человеку не было нужды отвечать: он и не ждал ответов, решая в уме тут же все вопросы.
– Квартира на Красном проспекте, пять комнат, думаю, вас с семьей устроит, – говорил он, присаживаясь, наконец, к столу. – Да что это у вас, уважаемый Сергей Алексеевич, я вижу, во рту один зуб остался? Как же это вы так…
– Да вот зубами-то все некогда было заняться… – улыбаясь, отвечал ученый.
– Ну теперь займетесь здесь у нас.
Секретарь обкома вторично вынул из кармана коробку «Казбека» с папиросами, но снова опустил ее в карман и простился.
А на другой день утром в гостиницу явилась чуть ли не целая стоматологическая поликлиника, чтобы готовить зубные протезы московскому гостю. Прибывший со стоматологами лучший терапевт города, послушав сердце гостя и померив давление, отпустил зубную поликлинику, рекомендуя подождать с зубами, пока больной не подлечит сердце.
В течение нескольких часов Сергею Алексеевичу были устроены все условия для работы: врачебное наблюдение, полное питание из столовой обкома, переезд из гостиницы в собственную квартиру, средства связи.
На другой день, взглянув на отведенную для постройки новой лаборатории территорию авиационного института, познакомившись с людьми, Сергей Алексеевич увидел, что все кругом горело желанием действовать и стояло почти без движения, не зная, с чего начать.
Сергей Алексеевич начал с того, что утвердил в своей нестаревшей памяти имена, должности, адреса, телефоны всех нужных ему людей. Через несколько часов все знали, кому что делать, с чего начинать, и все задвигалось кругом, точно окропленное живой водой. Сергей Алексеевич имел привычку брать телефонную трубку левой рукой, чтобы можно было, разговаривая, писать правой. Письма адресовались заместителю наркома Яковлеву, телефон соединял с секретарем обкома.
Сергей Алексеевич любил представительствовать и умел это делать. Все в нем самом как бы самой природой было предназначено для этой цели: мощная фигура, не потерявшая стройности и в поздние годы жизни, огромная голова мыслителя, закинутая на правую сторону шапка густых, белых от седины волос, спокойный, глубокий взгляд, неторопливая, сдержанная речь ученого, непререкаемый авторитет человека, долго и много управлявшего и руководившего другими.
Под стать внешности формировались в нем и основные черты характера. Он был беспристрастен, суров, умел все понимать с первых слов, никогда не колебался в решениях, не отменял обещаний и не изменял себе в прямоте и твердости. Его принципиальность не знала границ: он ненавидел ложь, нечестность, донос, предательство. И способен был не подать руки самому близкому человеку, нарушившему, по его убеждению, известный кодекс чести.
Сергей Алексеевич представлял в Новосибирске не только советскую теоретическую и прикладную механику, выражением успехов которой были сходившие с авиационного завода Новосибирска новые боевые машины, сражавшиеся с немцами на всех фронтах. Он представлял золотой фонд русской советской науки, ее славу, мощь и непобедимость. Вот почему так авторитетно было каждое слово московского гостя, каждое указание, каждый совет. И в самой Москве Сергей Алексеевич не чувствовал себя так на месте, как здесь.
– Какой ты старик? – говорил ему сын. – Ты моложе всех нас! У меня все из рук валится, а ты забираешь все городское хозяйство в свои руки…
Давняя привычка работать при любых условиях в эвакуации становится счастьем. Веселая, жизнерадостная портниха, примерявшая Ольге Сергеевне костюм для выступления в клубе, говорила ей:
– А мне что? Я умею шить. Иголку взяла с собой и где угодно найду себе работу. Сяду на тумбу и буду шить. В деревне у меня очередь будет стоять!
Однако, когда пришли вести о разгроме фашистов под Москвой, началась стихийная реэвакуация в столицу, неудержимая и властная.
В марте 1942 года возвратился в Москву А. С. Яковлев. Вслед за ним выбыл туда же Юрий Сергеевич. Руководитель его, профессор, ныне академик Леонид Иванович Седов, у которого он проходил аспирантуру, Москвы не покидал и продолжал работать в гидроканале ЦАГИ, изучая гидродинамические силы, действующие на днище лодки при посадке гидросамолетов на воду.
Леонид Иванович имел высокое мнение о своем аспиранте и остается при этом мнении до сих пор.
– Сейчас, – говорил он нам, – Юрий был бы профессором, членом-корреспондентом Академии наук, быть может, академиком…
– Даже без отца? – не без лукавства спрашивали мы.
– Даже без отца, – подтвердил он. – Юрий был не средний, не рядовой ученый. У него был талант…
Сергей Алексеевич проводил сына без слез и наставлении, хотя и понимал бесплодность расчетов на логику событий.
– Я хочу только одного, – сказал он твердо и мужественно, – дожить до нашей победы над фашизмом!
И он ждал этой победы с уверенностью человека, что иначе вообще никак не может быть.
Жить в наилучших, но все же временных условиях можно день, два, пять, неделю, месяц. Но внутренняя незащищенность от вмешательства новых людей, как непреходящие дожди, начинает угнетать своей стихийностью. Сергей Алексеевич мало это чувствовал, занятый делом. Евдокия Максимовна забывалась в своем хозяйстве.
Ольгу Сергеевну выручали мобилизации эвакуированных на сельскохозяйственные работы в пригородных хозяйствах.
Буравящих землю каблуков, прозванных шпильками, женщины тогда еще не знали. Однако и обычные высокие каблуки того времени обращали самые простые полевые работы в каторжные. К великому удовольствию Ольги Сергеевны, ноги у нее, как у балерины, были сильнее, подвижнее и работоспособнее, чем руки, и она не отставала в ряду других женщин.
Колхоз едва только устраивался. Горожанам, присланным на работы, пришлось жить в пустом сарае; мыться уходили в лес. Но воздух все скрашивал, и даже ангины ни разу не случилось.
Со второй половины сентября стали посылать на уборку картошки, но Сергей Алексеевич развил бурную деятельность. 25 сентября он попросил во что бы то ни стало соединить его с секретарем обкома.
– Михаил Васильевич, дела-то стоят… – без всяких предисловий начал свой разговор Сергей Алексеевич. – Материала для строительства нет…
Окончив разговор, Сергей Алексеевич сказал с полным удовлетворением:
– Крепко поговорили!
В том же хорошем настроении встретил Сергей Алексеевич и начальника лаборатории, приехавшего из Москвы. Усевшись за столом с Сергеем Алексеевичем, гость рассказывал о Москве, о лаборатории, о попутчиках, с которыми летел сюда. Говорил он скучно, уныло, без единого живого слова. Вынужденный слушать унылый доклад, опершись локтями на стол, Сергей Алексеевич, казалось, не просто дремлет, как обычно, с закрытыми глазами, а по-настоящему засыпает под однообразное рокотание гостя. Но вдруг голова Сергея Алексеевича упала на стол, и тяжелая, мощная фигура его начала медленно сползать со стула.
Больного уложили в постель; вызвали «Скорую помощь».
Сергей Алексеевич не мог говорить, правая рука и нога его бездействовали. Диагноз поставить было нетрудно, но, чем грозило кровоизлияние в мозгу через минуты, часы, дни, никто не мог сказать. Делали все возможное, чтобы облегчить положение больного.
Три дня и три ночи менялись у его постели сиделки, врачи, родные. У приглушенного подушкой телефона отвечали на запросы Москвы, на сочувственные заботы друзей.
К вечеру третьего дня Сергей Алексеевич начал говорить, владеть ругой, двигать ногу.
– Вызовите Юрку! – распорядился он.
Утром навестившему его Г. X. Сабинину Сергей Алексеевич сказал:
– Ну, по-видимому, я выкарабкался…
Весь этот день слышались в телефоне вздохи облегчения в ответ на заверение, что опасность миновала. «По-видимому, он действительно выкарабкался!» – говорил знакомым. Сабинин, повторяя его выражение, чтобы оттенить всегдашний чаплыгинский реалистический взгляд на существование.
Вздохи облегчения прекратились и в доме и у телефона на второй день, когда у больного началось резкое повышение температуры. Врачи признали воспаление легких.
Вечером Сергей Алексеевич потерял сознание. Одиннадцать дней длилась суровая борьба за его жизнь. В девять часов вечера 8 октября 1942 года, окруженный близкими людьми, не придя в сознание, Сергей Алексеевич умер.
Юрий Сергеевич приехал только через день, к вечеру, когда отец уже парадно лежал, обставленный цветами, в черном костюме, с орденом Ленина и Звездою Героя на груди, а в доме уже говорили громко и подушки на телефоне не было.
Его не сразу впустили к покойнику, но, как ни подготовляли его к такой встрече, он был потрясен, захлебнулся от комка подступивших к горлу рыданий и выбежал из комнаты.
Потом все обошлось, когда его ввели в комнату второй раз. Он поцеловал руку отца и долго молча, без слез и рыданий стоял возле и смотрел на спокойное лицо покойника. Только к ночи, когда его накормили, он долго сидел в комнате сестры и много и возбужденно говорил с сестрою, не давая ей спать. Она слушала, изнемогая от усталости, не прерывая, не задавая вопросов, а когда глубокой ночью Евдокия Максимовна увела его, Оля не могла вспомнить, о чем же он так долго и возбужденно говорил.
Похороны назначили на 12 октября, для погребения выбрали площадь перед новой аэродинамической лабораторией на территории института. По соглашению родных с секретарем обкома решено было временно похоронить Сергея Алексеевича в Новосибирске, положить в оцинкованный гроб, поставить в специальный склеп с тем, чтобы при наступлении благоприятных обстоятельств перевезти в Москву, положить возле могилы Жуковского.
На месте временного погребения решено было тогда же соорудить в память пребывания великого ученого в Новосибирске на гранитном пьедестале бронзовое его изваяние.
Траурный митинг длился долго. Венки укладывали на могильный холмик уже в сумерки, домой возвращались усталые люди при огнях. Весь день, как обычно для Новосибирска, дул холодный, пронизывающий ветер, и, возвратившись с похорон, Юрий Сергеевич заявил, что у него перехватило горло, начался озноб и надо звать врачей.
Первый вызванный врач осмотрел больного очень тщательно и решил отправить его без промедления в больницу. Он сам вызвал «Скорую помощь», сам же и повез сына Чаплыгина в обкомовскую клинику.
– Разве так опасно? – испуганно спрашивала Ольга Сергеевна.
– Необходимо изолировать больного, об опасности судить рано! – коротко объяснил он. – В дороге все можно подхватить.
Мелькнула мысль о тифе, и, едва дождавшись утра, начали звонить в стационар. Дежурный врач сказал, что диагноз поставлен.
– Что же с ним?
– Дифтерит! – последовал ответ. – Передаем больного в детскую больницу… Справляйтесь там.
Мучившие всю ночь темные страхи отлегли от сердца матери.
Ольга Сергеевна промолчала о том, что детскую болезнь взрослые переносят труднее, чем дети.
Так началась жестокая трагедия молодого ученого и его матери, длившаяся четверть века и уходившая корнями в далекое прошлое.
Евдокия Максимовна пекла любимые Юркины пирожки и носила передачи в больницу. К сыну ее не допускали. Он находился в строгой изоляции, однако ей говорили, что он на пути к выздоровлению.
Действительно, он вскоре сам позвонил домой, с трудом угадали его голос, но разобраться в том, что он говорил, не могли.
Ольга Сергеевна сказала:
– Кажется, он сошел с ума!
Через день у Евдокии Максимовны не приняли передачу и объявили, что Чаплыгина перевезли в психиатрическую больницу.
Четверть века жизнь сестры и матери молодого ученого были посвящены упорной, постоянной, мучительной борьбе с его страшной болезнью. Больного переводили из одной больницы в другую, иногда в часы просветления привозили домой и вновь возвращали обратно. Юрий Сергеевич умер только в 1962 году, через двадцать лет, в одной из московских больниц.
Опасение за Юркину голову было еще не последним предвидением его отца.
123
25
ПОСЛЕДНИЙ ДАР ГЕНИЯ
Гений действует на современность самым присутствием, независимо от своего сознания: это не страх, не стыд, но неизъяснимое.
Александр Блок
25 января 1968 года в Кремлевском Дворце съездов в Москве проходил III Всесоюзный съезд по теоретической и прикладной механике.
С докладами на открытии съезда выступили академики Н. И. Мусхелишвили и Л. Н. Седов.
– Оглядывая пройденный путь, – сказал Н. И. Мусхелишвили, – мы с гордостью отмечаем сегодня, что в нашей стране колоссальное развитие получили теория упругости и пластичности, гидроаэродинамика, теория гироскопических устройств и многие другие разделы механики, связанные с главными направлениями технического прогресса. Современная техника стимулирует возникновение новых направлений в механике, омолаживает классические ветви этой науки, А механика, в свою очередь, служит ускорителем технического прогресса.
Концентрированным выражением успехов наших ученых в развитии теоретической и прикладной механики, – подчеркнул он, – являются всемирно известные достижения советской космической техники. Всеобщим признанием пользуются работы наших авиаконструкторов. И это лишь немногие примеры высокого класса отечественной школы механиков.
В какой мере труды С. А. Чаплыгина обусловили все эти успехи, мы уже говорили, но они не исчерпывают всего наследия ученого.
Пребывание Сергея Алексеевича в Новосибирске продолжалось недолго, но имело огромное и далеко пошедшее следствие.
Психологические следствия редко наблюдаются современниками, оказывающимися в центре развивающихся событий. Тут более наблюдательными и заслуживающими доверия свидетелями являются люди, отдаленные временем или пространством от самих событий.
По коле случая таким именно свидетелем оказался Г. А. Озеров, работавший с Сергеем Алексеевичем около пятнадцати лет, вплоть до 1937 года.
«После мне не пришлось больше видеть Сергея Алексеевича ни разу, – рассказывает Г. А. Озеров, – потому что наше конструкторское бюро было эвакуировано в Омск, а ЦАГИ был эвакуирован в Новосибирск, За время эвакуации мне как-то не удалось побывать в Новосибирске, хотя многие из наших работников по делу выезжали и там встречались с Сергеем Алексеевичем. Он всегда очень дружески расспрашивал о всех нас и передавал приветы».
Трагически отделенный и временем и пространством от Сергея Алексеевича, Георгий Александрович заключает свои воспоминания так:
«Мне хочется отметить существенную роль, которую, по рассказам, Сергей Алексеевич играл в Новосибирске. Мне кажется, что в значительной степени в результате личного участия и влияния за время пребывания в Новосибирске Сергея Алексеевича там создался современный широко перспективный центр Академии наук. Почему я такие соображения высказываю? Дело в том, что в Новосибирске его широкие взгляды и глубоко практический подход снискали ему у местных властей исключительный авторитет, и признание.
Отдельные лаборатории ЦАГИ были в Новосибирске восстановлены и после эвакуации оставлены там, в частности небольшая статическая лаборатория.
Как мне рассказывали встречавшие Сергея Алексеевича в эвакуации, местные власти широко использовали многогранную эрудицию и опыт Сергея Алексеевича и часто обращались к нему за советом, что делать, как делать, как лучше строить и т. д. Так что его влияние на развитие Новосибирска, мне кажется, было достаточно знаменательным, и это является последним вкладом Сергея Алексеевичи в развитие нового научного центра».
К этим общим соображением Г. А. Озерова мы со своей стороны добавим ряд последовательных фактов, документально иллюстрирующих доводы одного из старейших строителей ЦАГИ.
За пять дней до начала войны, 17 июня 1941 года, в газете «Правда» появилась статья академика П. Л. Капицы «Единение науки и техники». В этой прекрасно аргументированной статье Петр Леонидович на примере одной иностранной фирмы убедительно показывал «ту силу, которая проявляется, если в одном месте сосредоточены и направлены на решение определенных заданий лучшие научно-технические творческие силы, имеющие также специальную базу для внедрения».
Примером автор взял швейцарский завод «Броун-Бовери», который в «силу случайных обстоятельств» стал здоровой базой для внедрения новых достижений техники. Случайным обстоятельством была близость Цюрихского университета: пользуясь консультацией профессоров, таких, как Стодола, например, завод стал изготовлять хорошие электрические машины. Вторым случайным обстоятельством явилась конкуренция иностранных фирм, побудившая фирму «Броун-Бовери» разрабатывать новые виды машин. Для этой целя были сосредоточены лучшие кадры фирмы опять-таки в Бадене, вблизи от Цюрихского университета.
В Советском Союзе не в силу случайных обстоятельств, а в силу основных принципов государственного строя комплексный метод в науке и технике был применен и глубоко продуман С. А. Чаплыгиным. Он защищал проект ЦАГИ, отстоял его в Научно-техническом совете ВСНХ, построил его здания и направил его деятельность. Примером для иллюстрации центральной мысли статьи в «Правде» мог бы служить с гораздо большим правом именно ЦАГИ.
Излагая программу будущего института, Сергей Алексеевич подчеркивал, что задача его не только в том, чтобы создать теорию изучаемого явления, в опытном порядке проверить таковую, но и в том, чтобы поставить изученные явления природы на службу человеку. Не ограничиваясь теоретически-экспериментальным опытом, в ряде отделов и лабораторий ЦАГИ были усовершенствованы или вновь предложены такие аппараты, использующие механические силы природы, как аэропланы, ветроэнергетические станции, гидроконы, глиссеры, гидросамолеты, быстроходные катера.
ЦАГИ собрал в своих отделах и лабораториях кадры выдающихся теоретиков, экспериментаторов, инженеров, конструкторов и, самым блестящим образом оправдывая комплексный метод в науке и технике, указал верный путь к достижению мирового первенства не только в исследовании космоса.
Осуществляя комплексный метод в ЦАГИ с первых лет революции, Чаплыгин и на этот раз далеко обогнал свое время, как делал это всегда и повсюду.
– Сейчас для всех очевидны и всеми признаны советские достижения в области авиации, динамики движения тел в воде, ракетной технике, в промышленной гидравлике и газодинамике, подземной гидрогазодинамике и многих других областях техники, – говорит академик Л. И. Седов, – эти успехи и особенно выдающиеся успехи в области космических полетов стали возможными благодаря общему высокому теоретическому уровню механики и наличию в нашей стране большого числа талантливых, высококвалифицированных кадров.
Идея комплексного метода носилась в воздухе.
Не случайно «Правда» статью академика П. Л. Капицы снабдила сноской: «В порядке обсуждения».
Вмешавшись в обсуждение, война сняла его со страниц газет, но оно продолжалось в кулуарах Академии наук, на общих собраниях и за столом президиума, когда в 1944 году был организован Западно-Сибирский филиал Академии наук СССР с центром в Новосибирске, когда 18 мая 1957 года Совет Министров ССОР вынес постановление «О создании Сибирского отделения Академии иаук СССР».
Центром оставался Новосибирск; председателем президиума Сибирского отделения был избран М. А. Лаврентьев, заместителем его – С. А. Христианович.
Через десять лет, в марте 1968 года, на общем собрании Академии наук второй день работы был посвящен десятилетию Сибирского отделения. Открывая собрание, президент академии академик М. В. Келдыш сказал:
– Сейчас мы имеем все основания утверждать, что смелый опыт по созданию научного центра на востоке нашей страны увенчался успехом. Сибирскому отделению принадлежит большая роль в решении важнейших задач, поставленных XXIII съездом КПСС по развитию производительных сил Сибири и Дальнего Востока. Вместе с тем Сибирское отделение, которое представлено в первую очередь научными учреждениями Академического городка, выросло в научный центр международного значения и получило широкое признание мировой научной общественности.
Выступая с отчетным докладом «Развитие пауки в Сибири», председатель президиума Сибирского отделения академик М. А. Лаврентьев говорил:
– Приятно отметить, что нам удалось реализовать одобренные здесь десять лет назад принципы развития науки в Сибири. Созданный научный центр способен решать большие проблемы современной науки, готовить кадры высокой квалификации, оказывать всяческую помощь народному хозяйству Сибири и Дальнего Востока.
Помощь промышленности заключалась не только в разработке интересующих ее проблем теоретиками и экспериментаторами. В ряде институтов уже имеются конструкторские бюро.
Институт гидродинамики создал на совершенно новых принципах малогабаритный гидромолот, проходческую машину для твердых пород.
Институт теплофизики разработал и построил Камчатскую электростанцию на термальных водах.
– Для преодоления трудностей внедрения, – заявил в заключение академик М. А. Лаврентьев, – при Академическом городке создаются конструкторские бюро и экспериментальные производства совместного подчинения промышленности и Академии наук!
На этом представительном общем собрании Академии наук имя Сергея Алексеевича, может быть, и не было упомянуто ни разу.
Но, заканчивая наш подробный рассказ о жизни, деятельности и творческой истории С. А. Чаплыгина, мы не можем не напомнить о том, что первые камни научного центра Сибири заложены были им и его учениками и что далеким, но все же прямым прототипом Академического городка был построенный им Аэрогидродинамический центр в Москве.
За истекшие после смерти ученого десятилетия ученики Чаплыгина, родные и друзья не раз поднимали вопрос о перенесении праха его в Москву. Но каждый раз общественность Новосибирска в лице ее руководящих партийных и правительственных организаций выдвигала немало убедительных доводов в пользу оставления могилы Чаплыгина как первого строителя научного центра Сибири в Новосибирске. Быть может, такое решение явилось бы прекрасным венком на могилу ученого ко дню столетия со дня его рождения.
Москва. 1968.