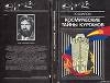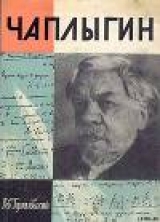
Текст книги "Чаплыгин"
Автор книги: Лев Гумилевский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
– Прежде всего, Сергей, брось курить! Иначе дело может кончиться плохо!
– Как это? – не вдруг понял больной.
– Можно и умереть!
– Умереть? – переспросил Сергей Алексеевич задумчиво. – Ну это не так уже страшно. Вот только жаль, что сына у меня нет.
– Ну пока еще тебя и на десять сыновей хватит! Только курить брось!
Сергей Алексеевич послушался врача. Человек решительный, точный и твердый, он не перестал носить в кармане свой тяжелый серебряный портсигар с папиросами, но с утра следующего дня после разговора с братом и уже до конца жизни не выкурил ни одной папиросы.
Более всех радовалась решению мужа Екатерина Владимировна. Она только не понимала, зачем же носить с собой папиросы, рискуя, забывшись, опять закурить? Сергей Алексеевич объяснил:
– Именно потому, что я всегда могу закурить, что не довлеет надо мной ничего, кроме собственной воли, мне легче воздерживаться.
Разрушение долголетней привычки к никотинному яду сопровождалось ощущением тонкого наслаждения запахами хлеба, цветов, весеннего воздуха, тающего снега, вещей, не существующих для курящих. Все кругом стало восприниматься немножко иначе, как после приема прописанных братом от кашля порошков тиокола с морфием.
Сергей Алексеевич с любопытством наблюдал за собой. Не угнетаемый ежечасными порциями никотина, мозг с необыкновенной остротою воспринимал запахи, звуки, очертания самых обыкновенных вещей.
– Сыграй-ка что-нибудь, Оля, – просил он дочь.
Она садилась за пианино, не спрашивая, что играть: оба одинаково любили Бетховена и Шопена. Оба готовы были слушать. И знакомая музыка звучала Сергею Алексеевичу ново.
В эти молчаливые годы в доме появилась двадцатишестилетняя горничная Евдокия Максимовна Горшкова, услужливая, приветливая женщина. Рекомендовал ее кто-то из товарищей Сергея Алексеевича. Недолгое ее пребывание в доме Чаплыгиных переустроило жизнь семьи.
Екатерина Владимировна приняла драматический эпизод, как неожиданную грозу в майский, безоблачный день. Простой житейский опыт и тонко мыслящий ум не подсказали ей ни одного выхода из положения, который не был бы бесплодно десятки раз раньше испытан другими. И она предоставила мужу свободно решить задачу, поставленную перед ними действительностью.
15
НОЧНОЙ РАЗГОВОР
Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы – дети страшных лет России, —
Забыть не в силах ничего.
Александр Блок
Благодаря ли огромной памяти, эрудиции или природной способности Сергей Алексеевич отличался редкостной отзывчивостью к чужой мысли. Отзывчивость и критическую находчивость он сохранял до конца жизни. Им был он обязан многими счастливыми встречами и беседами, длившимися незаметно для собеседников до полуночи.
В начале 1917 года в Москву приехал Владимир Иванович Вернадский – теперь крупный ученый, академик и видный общественный деятель. В Москве он намеревался прочитать лекцию о «Задачах науки» в связи с государственной политикой в России.
До переезда Вернадских в Петербург Сергей Алексеевич был частым гостем у них.
Квартира Вернадских в то время в Трубниковском переулке являлась центром независимо мыслящей интеллигенции. Вечерами бывал здесь Сергей Андреевич Муромцев, профессор и общественник, пугавший большими черными бровями маленьких детей. Нередко появлялся Сергей Николаевич Трубецкой – удивительное соединение глубокого мистицизма и строго научного мышления. Бывали товарищи по университету – Василий Осипович Ключевский, умевший и любивший поговорить так, что и экономист Чупров и зоолог Мензбир, случавшиеся здесь, заслушивались, как студенты на его лекциях по русской истории.
Встречи с этим цветом интеллигентской Москвы прервались с «разгромом» Московского университета, но встречи с Вернадским то в Москве, то в Петербурге ценились как праздник.
Назначенную на 19 февраля 1917 года лекцию отменил московский градоначальник, и Вернадский провел вечер у Чаплыгиных.
Он рассказывал о жизни в столице, о своем открытии нового мира на нашей планете и о задачах науки в данный момент.
Петербург жил глухою, скрытною жизнью, питаясь слухами и газетными сообщениями. В Государственной думе виднейший депутат от конституционно-демократической партии профессор Павел Иванович Милюков обвинил жену царя в тайных сношениях с немцами, после чего скрылся от ареста в английском посольстве. Газеты, опубликовавшие стенограмму речи, были конфискованы, и хранение этих газет грозило арестом. Перед зимними каникулами вечерний выпуск «Биржевых ведомостей» напечатал крупно, вставкой в чужом тексте: «Григорий Распутин окончил жизнь». Наутро все знали о том, что он был убит и труп утоплен в Неве.
Владимира Ивановича сошлись слушать в гостиной все. Даже и новая горничная, забыв о самоваре, стояла в дверях гостиной, вздыхая и крестясь.
Петербургский гость перешел к другой теме. Горничная загремела посудой в столовой, Оля ушла в свою комнату, Екатерина Владимировна стала дремать. Владимир Иванович рассказал о смерти Бориса Борисовича Голицына, секретаря организованной по инициативе Вернадского в Академии наук Комиссии по изучению естественных производительных сил страны, сокращенно именовавшейся «КЕПС».
– Голицын был председателем Ученого совета при Министерстве земледелия, – пояснил Владимир Иванович, – и меня попросили его заменить там. Знакомясь с тамошними учреждениями и руководителями их, я убедился в том, что в основе геологии лежит химический, элемент – атом и что в окружающей нас природе – биосфере – живые организмы играют первостепенную, может быть, ведущую роль. Я имею в виду биогенную миграцию атомов химических элементов…
– Что это такое? – спросил Сергей Алексеевич.
– Всякое перемещение атомов, чем бы оно ни было вызвано, – объяснил Вернадский, торопясь перейти к главной своей мысли. – Миграцию производят химические процессы, вулканические извержения, движения жидких, твердых, газообразных тел при испарениях, ветрах, морских течениях и т. д. А биогенная миграция производится силами жизни: неисчислимые количества атомов химических элементов находятся в непрерывной, порождаемой жизнью биогенной миграции, переходя из мертвых организмов в живые – через почву, растительность, животных и т. д.
Хозяин слушал с большим вниманием, и гость охотно продолжал:
– Это вторая форма биогенной миграции; но есть и третья, в нашу эпоху приобретающая небывалое в истории нашей планеты значение. Это – миграция атомов, производимая организмами, но непосредственно с ними не связанная. Она производится техникой их жизни. Такую миграцию производит работа роющих животных, например кротов, дождевых червей, ее же производят общественные животные, например бобры, муравьи, пчелы при своих постройках. Но исключительного значения достигает эта третья форма биогенной миграции атомов химических элементов с появлением цивилизованного человечества, за последние тысячелетия. Впервые в истории земли биогенная миграция, вызванная техникой жизни человека, стала преобладать по своему значению над биогенной миграцией, вызываемой всей массой живого вещества.
– Нечего сказать, хорошенькую роль назначаете вы человеку! – заметил Сергей Алексеевич, усмехнувшись.
Владимир Иванович ответил серьезно:
– Конечно, странно как-то на себя и на весь ход истории со всеми ее трагедиями и личными переживаниями смотреть с точки зрения бесстрастного химического процесса природы. Но что тут поделаешь? Разве, добывая нужные ему для жизни полезные ископаемые, производя строительные работы, человек не перерабатывает, не перемещает миллиарды тонн горных пород? В результате этой геологической деятельности человека в процесс миграции вовлечены все известные нам элементы. Железо, олово, свинец выделяются природными процессами в ничтожных количествах, а человек уже теперь, когда, считая геологически, он только что появился, добывает все это в колоссальных размерах и с каждым годом все больше и больше. Никель, например, встречавшийся раньше разве только в метеоритах, добывается ныне десятками тысяч тонн. Еще в начале нашего века из алюминия в Париже делали только пудреницы для модниц, а ныне промышленность выбрасывает его миллионами тонн. Так вновь создавшийся геологический фактор – научная мысль – меняет явления жизни, совершенствует технику жизни человека, изменяет геологические процессы, энергетику планеты.
– Что же, по-вашему, наука – природное явление? – недоумевая спросил Сергей Алексеевич.
– Природное явление, – подтвердил Вернадский. – Мы должны выбросить из своего мировоззрения в научной работе представления, вошедшие к нам из чуждых науке областей духовной жизни – религии, идеалистической философии, искусства…
Устанавливая тесную связь грандиозных процессов природы и культурного роста человечества, сам Вернадский ни на одно мгновение не сомневался, что «направление этого роста – к дальнейшему захвату сил природы и их переработке сознанием, мыслью – определено ходом геологической истории нашей планеты, оно не может быть остановлено нашей волей».
Но чтобы убедить в этом собеседника, понадобилось бы слишком много времени, а часы показывали начало двенадцатого.
Не кончив спора, прямо от Чаплыгиных Вернадский отправился на Николаевский вокзал.
Через несколько дней стали приходить сообщения о революционных демонстрациях, о присвоении Государственной думе верховной власти, затем об отречении царя, о создании Временного правительства.
Немедленно вместе с другими профессорами, семь лет назад протестовавшими против вызывающих действий Кассо, Сергей Алексеевич возвратился в Московский университет и приступил к преподаванию.
После заключения мира с Германией в 1918 году в библиотеку университета поступила небольшая книга, излагавшая теорию крыла конечного размаха. Известие об этой так называемой «индуктивной теории» Прандтля мгновенно распространилось среди ученых.
Борис Николаевич Юрьев рассказывал нам, как он с брошюрой Прандтля отправился к Чаплыгину. Сергей Алексеевич выслушал гостя, отодвинул от себя брошюру и спокойно сказал:
– Да, это у меня давно уже сделано!
Он неторопливо открыл дверцы шкафа, где на полках хранились завязанные в салфетки вместо папок рукописи, достал один сверток и вынул оттуда тетрадь.
– Вот она, эта самая теория, – сказал он, перелистывая рукопись, – можете убедиться!
– Но как же так… – смущенный и растерявшийся от спокойствия ученого пробормотал Юрьев, – вы потеряли приоритет…
– Важен не приоритет, молодой человек, – сурово остановил гостя хозяин, – важно то, что у нас давно это, сделано!
Юрьев ушел, не понимая спокойствия Сергея Алексеевича и не скрываемой им удовлетворенности.
Что мог стоить потерянный приоритет в сравнении с сознанием своей правоты? Оно возвращало ему веру в свой собственный ум, утверждало непреложность методов, которыми он владел.
С этой счастливой верой встречал Сергей Алексеевич Великую Октябрьскую социалистическую революцию.
16
ЛЕНИН И НАУКА
Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые, —
Его призвали Всеблагие,
Как собеседника на пир:
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил.
Тютчев
Алексей Максимович Горький предложил однажды Владимиру Ильичу Ленину поехать с ним в Главное артиллерийское управление, где производились «особые опыты», посмотреть изобретенный старым большевиком А. М. Игнатьевым аппарат, корректирующий стрельбу по самолетам.
– А что я в этом понимаю? – сказал он, но все-таки поехал и стал задавать седым, усатым генералам вопросы по поводу аппарата.
Изобретатель и генералы оживленно объясняли ему, а на другой день Игнатьев рассказывал Горькому:
– Я сообщил моим генералам, что приедете вы с товарищем, но умолчал, кто товарищ. Они не узнали Ильича, да, вероятно, и не могли себе представить, что он явился без шума, без помпы, без охраны. Спрашивают: это техник, профессор? Ленин? Страшно удивились – как? Не похоже! И – позвольте – откуда он знает наши премудрости? Он ставил вопросы, как человек технически сведущий! Мистификация! Кажется, так и не поверили, что у них был Ленин…
А Ленин, возвращаясь с обсуждения, говорил Горькому:
– Молодчина Игнатьев! Нужно, чтобы он ничем иным не занимался. Эх, если бы у нас была возможность поставить всех этих техников в условия, идеальные для их работы! Через двадцать пять лет Россия была бы передовой страной мира!
В. И. Ленин был первым в истории человечества государственным деятелем, поставившим науку и технику на службу народу.
«Раньше весь человеческий ум, весь его гений творил только для того, чтобы дать одним все блага техники и культуры, а других лишить самого необходимого – просвещения и развития, – говорил он в первые годы после социалистической революции. – Теперь же все чудеса техники, все завоевания культуры станут общенародным достоянием».
В России наука не только не встречала сочувствия и помощи у русского самодержавия, но видела в нем своего прямого врага.
Созданная В. И. Вернадским во время первой мировой войны при Академии наук Комиссия по изучению естественных производительных сил страны, или КЕПС, осуществляла свою высокополезную деятельность, выпрашивая бесплатные билеты в Министерстве путей сообщения, пожертвования у частных лиц, помощь от научных обществ и организаций.
Но когда непременный секретарь Академии наук С. Ф. Ольденбург от лица той же комиссии обратился через Горького к Ленину, он был немедленно принят и выслушан с величайшим вниманием. Горький, присутствовавший при этой беседе, рассказывал потом Ольденбургу, что, когда тот ушел, Владимир Ильич, проводив его взглядом, заметил:
– Вот профессора ясно понимают, что нам нужно.
Предложение Академии наук ученых услуг по исследованию естественных богатств страны обсуждалось уже 12 апреля 1918 года на заседании Совета Народных Комиссаров.
В принятом им постановлении говорилось:
«Пойти навстречу этому предложению, принципиально признать необходимость финансирования соответственных работ академии и указать ей, как на особенно важную и неотложную задачу, систематическое разрешение проблем правильного распределения в стране промышленности и наиболее рациональное использование ею хозяйственных сил».
Тогда же, в апреле 1918 года, был сделан В. И. Лениным «Набросок плана научно-технических работ», представлявший директивы Академии наук. Насколько Владимир Ильич ценил представленные академией материалы но изучению и обследованию естественных производительных сил, видно из его сноски к плану, в которой он указывает:
«Надо ускорить издание этих материалов изо всех сил, послать бумажку об этом и в Комиссариат народного просвещения и в союз типографских рабочих и в Комиссариат Труда» (Соч., т. 27, стр. 288).
На основе указаний В. И. Ленина и во исполнение их Академия наук в первые же годы Советской власти начинает перестраиваться. В системе Академии наук организуется ряд специальных научных институтов взамен существовавших до революции кабинетов и небольших лабораторий отдельных академиков. На основе старинной физической лаборатории был организован физико-математический институт под руководством академика В. А. Стеклова. Впоследствии он разделился на три крупных института: Математический институт имени В. А. Стеклова, Физический институт имени П. Н. Лебедева и Сейсмологический институт. Позднее в системе Академии наук был организован специальный Институт механики.
В то же время начинается создание мощных научных институтов, в частности институтов механики и математики при всех наших крупнейших университетах.
Кроме академических и университетских научно-исследовательских институтов, в первые же годы Советской власти начинается организация совершенно новых институтов небывалого до того времени типа. Это были отраслевые, специальные институты, не зависящие организационно ни от Академии наук, ни от университетов, но тесно связанные со специальными разделами социалистической промышленности и народного хозяйства. Их задачей было обслуживание непосредственных производственных практических запросов промышленности и хозяйства молодой Советской республики, решение научных проблем в специальных разделах техники и содействие развитию этих разделов на строго научной основе.
К институтам этого рода принадлежит в первую очередь Центральный аэрогадродинамический институт имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). Этот мощный центр научно-исследовательской работы в области аэрогидродинамики был создан Советской властью 1 декабря 1918 года на базе расчетно-испытательного бюро при Московском высшем техническом училище, аэродинамических лабораторий Московского университета и Кучинского института. Отпущенные Советским правительством большие средства позволили в течение немногих лет создать в ЦАГИ комплекс лабораторий, оборудованных современной аппаратурой и позволивших вести исключительно плодотворную экспериментальную работу в аэро– и гидромеханике. Тем самым осуществилась мечта Жуковского, который говорил в речи на XIII съезде русских естествоиспытателей и врачей в 1913 году:
«Позвольте высказать пожелание… чтобы средства наших аэродинамических лабораторий стали в соответствие с могуществом и творческими силами нашей родины».
В. И. Ленин направил председателем научно-технического отдела Высшего Совета Народного Хозяйства своего секретаря Николая Петровича Горбунова.
Через Н. П. Горбунова Владимир Ильич непосредственно руководил организацией советской науки.
Бурно расцветавшая научная работа в эти первые послереволюционные годы составляет славу и гордость русской науки. Вспоминая об этих первых годах революции, С. Ф. Ольденбург писал:
«Не покладая рук и не жалея себя, работники академии спасали ее сокровища от гибели: мы дежурили по ночам поочередно, охраняя академические музеи. Утро мы начинали с носки, пилки и колки дров. Во время этой работы часто велись организационно-научные совещания. Потом мы переходили в нетопленные помещения и сидели в пальто за работой. Все помнят, как тогда приходилось питаться и как особенно в жуткие 1919 и 1920 годы мы все долгими месяцами голодали. А работа шла все время… Кипела теоретическая мысль, разрабатывались методы».
Когда А. М. Горький как член «Комиссии помощи И. П. Павлову» пришел к ученому узнать, в чем он нуждается, тот отвечал:
– Собак нужно, собак… Положение такое, что хоть еам бегай по улицам и лови… Подозреваю, что сотрудники мои так и делают. Нужен воз сена, и лошадей нужно, хоть две-три, пусть хромые, раненые… Лошади – чтобы получать сыворотку из их крови.
«В комнате было так же холодно, как на улице, – пишет Горький. – Иван Петрович – в толстом пальто, на ногах – валяные ботики, на голове – шапка».
Владимир Ильич высоко ценил труды И. П. Павлова и в его учении об условных рефлексах видел одну из важнейших естественнонаучных основ исторического материализма. Руководитель Главнауки Народного комиссариата просвещения Федор Николаевич Петров, вспоминая о посещении И. П. Павлова, рассказывает:
«Помню, какой изумленный вид был у академика Ивана Петровича Павлова, когда я сообщил ему, что Владимир Ильич Ленин дал указание создать для работы Павлова максимально благоприятные условия. На мой вопрос, сколько нужно денег, академик недоверчиво переспросил: „А разве вы можете дать деньги, ведь нужно золото, нужно закупать приборы за границей“. Я ответил, что Советская власть для науки ни золота, ничего не пожалеет. После некоторого раздумья он сел и составил скромный список приборов на тысячу рублей золотом. И как же был тронут, когда узнал, что Владимир Ильич предложил Наркомпросу открыть неограниченный кредит для организации лаборатории великого ученого».
В постановлении Совета Народных Комиссаров от 24 января 1921 года, подписанном В. И. Лениным, научные заслуги И. П. Павлова определялись как «совершенно исключительные, имеющие огромное значение для трудящихся всего мира», и время не только не умалило эти заслуги И. П. Павлова и их мировое значение, но, как и должно быть, возрастило их. Правда, время от времени даже у пас еще появляются сочинения вроде «Эвристики» В. Н. Пушкина, где самого имени И. П. Павлова не упоминается, хотя обильно цитируются его идейные противники, но гениальные открытия не были бы гениальными, если бы немедленно становились общепризнанными, общепонятными.
Марксизм-ленинизм является свидетельством тому.
27 января 1921 года состоялась встреча В. И. Ленина с учеными по вопросу об улучшении труда и быта работников науки и культуры. Участниками встречи были вице-президент академии В. А. Стеклов, непременный секретарь С. Ф. Ольденбург и начальник Военно-медицинской академии В. Н. Гонков. Представлял ученых А. М. Горький.
Вспоминая эту встречу, С. Ф. Ольденбург писал в газете «За социалистическую науку»:
«Во время беседы с учеными Ленин исчерпывающе выяснил их нужды, определил их задачи и обещал им всемерное содействие.
– Я лично, – сказал он, заканчивая разговор, – глубоко интересуюсь наукой и придаю ей громадное значение. Когда вам что нужно будет, обращайтесь прямо ко мне!
Это обещание он сдержал много раз», – свидетельствует Ольденбург.
– Пусть ученые поймут, – говорил Ленин, – что мы хотели бы сделать для них гораздо больше того, что можем пока сделать. Но когда голодают все, мы не можем даже для самых ценных и нужных нам людей делать сколько-нибудь значительно более, чем для других! Мы хорошо понимаем, что мало еще поставить ученого в лучшие личные материальные условия, необходимо еще поставить в лучшие условия и его научную работу, а это сделать иногда всего труднее!
Вспоминая, в свою очередь, об этой встрече, Горький рассказывает, что, проводив ученых, Ленин удовлетворенно сказал:
– Это я понимаю. Это – умники. Все у них просто, все сформулировано строю, сразу видишь, что люди хорошо знают, чего хотят. С такими работать – одно удовольствие. Особенно понравился мне этот…
И он назвал В. А. Стеклова, а через день уже говорил по телефону Горькому:
– Спросите Стеклова, пойдет он работать с нами?
Стеклов принял предложение. Это искренне обрадовало Ленина, потирая руки, он шутил:
– Вот так, одного за другим, мы перетянем всех русских и европейских Архимедов, тогда мир, хочет не хочет, а – перевернется!
И героическая приверженность к своему делу, и настойчивость в достижении поставленной цели, и строгое, точное, почти математически ясное мышление ученых крупного масштаба – все в них было близко и понятно Владимиру Ильичу. Великий социолог и ученый, он сам считал, что работа каждого настоящего ученого нужна стране, что новая жизнь может быть построена правильно и прочно, только если будет опираться на науку, на истинное знание.
Академик А. В. Пейве рассказывает, что уже в 1921 году Владимир Ильич потребовал резкого подъема деятельности научно-технического отдела Высшего Совета Народного Хозяйства. В начале сентября он вызвал Н. П. Горбунова и дал ему знаменитое поручение – «разбудить научно-технический отдел ВСНХ».
Искренний и честный большевик, с первых дней Октябрьской революции Николай Петрович становится активным ее деятелем. Принципиальность молодого ученого, талант организатора, необыкновенная работоспособность и, главное, умение быстро и точно решать трудные задачи привлекли внимание В. И. Ленина. При образовании Совета Народных Комиссаров Владимир Ильич назначает Горбунова своим секретарем. В августе 1918 года Горбунов назначается заведующим научно-технического отдела Высшего Совета Народного Хозяйства.
Он-то и провел огромную работу по созданию сети научно-исследовательских учреждений. В эти годы возник ряд научно-исследовательских институтов, в том числе в 1929 году Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина, президентом которой был назначен Н. И, Вавилов, а вице-президентом – Н. П. Горбунов.
Благодаря своему организаторскому таланту Николаю Петровичу удалось «разбудить научно-технический отдел ВСНХ» и прекрасно выполнить поручение Владимира Ильича. К сожалению, научная и общественно-политическая деятельность Горбунова, как и многих других верных ленинцев, была трагически прервана в 1938 году.
Одновременно с арестом Николая Петровича был арестован и Г. А. Озеров, представлявший в ЦАГИ научно-технический отдел ВСНХ. Но труды их по организации советской науки не пропали даром.
Когда возобновились научные связи с зарубежными странами, мир был поражен сообщениями о высоком состоянии русской науки, вместо ожидавшейся гибели всякой культуры при большевиках.
Одним из первых в 1920 году был командирован в Германию для приобретения научного оборудования профессор Михаил Исаевич Неменов, директор основанного им совместно с академиком А. Ф. Иоффе Института рентгенологии и радиогеологии. Присланные им немецкие газеты называли поражающим известие о том, что в России «уже два года тому назад был задуман и действительно создан колоссальных размеров научно-исследовательский институт, которому вряд ли можно найти равный в мире».
«Немецкий медицинский еженедельник» писал в заключение:
«Многие покачивают головой, узнав, что голодающая Россия не побоялась тратить средства на предприятие с широким размахом. Нам следовало бы брать пример с России, так как только успехи в области культуры могут спасти нас из настоящего бедственного положения».
«Когда в 1920 году группа советских ученых была командирована за границу, мы были посланцами и сторонниками той самой Советской власти, против которой ополчился весь капиталистический мир от социал-демократов до реакционеров, – пишет А. Ф. Иоффе в своих воспоминаниях „Встречи с физиками“. – Прошло три года Советской власти, которую зарубежные газеты изображали как разрушителя культуры, как врага передовых ученых, а в нашем лице перед западным миром представали знакомые ему раньше физики, которые рассказывали, как за эти три года развернулась научная деятельность, как Советская власть организовала новые научные институты. Иностранные ученые узнали о десятках физических исследований, о бурном росте советской культуры. Все это создавало резкий контраст с газетной информацией и вызывало тем более живой интерес ученых, привыкших верить фактам больше, чем словам».
«Поражающие» сообщения из Советской России распространялись по европейским странам, вырастая по пути как снежный ком, и вот уже в один прекрасный день, именно 20 ноября 1920 года, английский журнал «Нейши» напечатал такую сенсационную заметку:
«Радиотелеграф принес нам известие, что один из русских ученых полностью овладел тайной атомной энергии. Если это так, то человек, который владеет этой тайной, может повелевать всей планетой. Наши взрывчатые вещества для него – смешная игрушка. Усилия, которые мы затрачиваем на добычу угля или обуздание водопадов, вызовут у него улыбку. Он станет для нас больше чем солнцем, ибо ему будет принадлежать контроль над всей энергией. Как же воспользуется он этим всемогуществом? И кому он предложит тайну вечной энергии: Лиге наций, папе римскому или, быть может, III Интернационалу? Отдаст ли он ее в обмен на хартию, которая положит навсегда конец войне и эксплуатации труда? Употребит он ее на то, чтобы создать на земле золотой век? Или же продаст свое открытие первому попавшемуся американскому тресту?»
Конечно, в те времена тайна атомной энергии не была еще никем раскрыта ни в России, ни в другой стране. Но дыма без огня не бывает.
В личной библиотеке В. И. Ленина, в Кремле, под № 4552 имеется книга академика В. И. Вернадского «Очерки и речи», вышедшая в 1922 году. Она содержит речи ученого по вопросам «Использования химических элементов в России» и «Задачам дня в области радия», относящиеся к предшествующим годам. Вернадский был энергичнейшим пропагандистом своего убеждения в том, что «лучистая и атомная энергии… должны уже теперь занимать мысль всякого государственного деятеля, смотрящего вперед, как источники будущих благ человечества».
В предисловии к этому сборнику речей Вернадский уже прямо писал:
«Мы подходим к великому перевороту в жизни человечества, с которым не могут сравняться все им раньше пережитые. Недалеко время, когда человек получит в свои руки атомную энергию, такой источник силы, который даст ему возможность строить свою жизнь, как он захочет. Это может случиться в ближайшие годы, может случиться через столетие. Но ясно, что это должно быть».
Английский журнал несколько предупреждал события, но в общем правильно оценил и грядущий переворот в жизни человечества и зависимость его всецело от того, в чьи руки попадет тайна атомной энергии.
10 марта 1918 года Советское правительство во главе с В. И. Лениным перенесло центральные государственные учреждения и свое местопребывание в Москву.
Естественно, что представители московской научной общественности стали ближайшими проводниками советской политики во всех областях науки и техники.