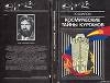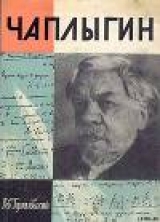
Текст книги "Чаплыгин"
Автор книги: Лев Гумилевский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц)
Анна Петровна, отчим, сводные братья и сестры были потрясены более всего размером стипендии:. Таких денег не вырабатывали никогда ни мать, ни отец, ни оба вместе. О том, в чем будут состоять занятия Сережи, кем он будет и как все это обернется, они имели самые смутные понятия, Ж только Люба, опираясь на колени старшего брата и глядя ему в лицо, грустно сказала:
– Ты опять поедешь учиться?
Она первой смешала плохо понимаемую радость с ясным ощущением грусти, и праздничное настроение померкло, как будто кто-то тихонько привернул лампу, и свет погас.
На другой день начались сборы и проводы. Невеселый характер их зависел от того, что ни сам Сергей Алексеевич, ни его родные не знали, будет ли он, как прежде, приезжать домой на каникулы или теперь, может быть, уже не сможет никогда бывать в Воронеже.
Пока выбирали на базаре гуся, жарили его, укладывали запеленатого в бумагу, еще звенел Любин голосок. На вокзал ее не взяли, и некому было детскими вопросами смешить взрослых. В зале ожидания с корзинами и сумками сидели долго, боялись опоздать. Через час только вокзальный сторож прошел по залам с большим колоколом в руках, мерно возглашая:
– Кто едет на Тамбов, Козлов, Москву, пожалуйте билеты получать!
С билетом прошли в вагон занять место и посидеть еще здесь, пока тот же гулкий колокол и голос не возгласил на платформе:
– Провожающих просим оставить вагоны.
Через плотно закрытые двойные стекла голоса не проходили. Разговаривали жестами и мимикой, как глухонемые. Когда все, наконец, кончилось, поезд, лязгая железом сценок и вздрагивая от натуги, тронулся, Сергей Алексеевич сел у окна и задумался.
Дел предстояло множество: найти квартиру поближе к университету, без студентов и нахлебников, с хорошей комнатой, оформить свое положение в университете, получить у Жуковского инструкции для подготовки к магистерским экзаменам, тему сочинений и магистерской диссертации.
В Москве, устроившись с жилищем – на первый раз и не так, как хотелось, – Сергей Алексеевич направился к своему руководителю. Жуковский сообщил ему прежде всего, что дипломное сочинение его удостоено Советом университета золотой медали, а затем познакомил с порядком магистерских экзаменов и тематикой будущих работ магистранта.
Предложенная им тематика восходила к седьмой лекции из курса Жуковского «Лекции но гидромеханике», посвященной вопросу о движении твердого тела в жидкости – одному из труднейших вопросов гидромеханики.
– Руководящую идею вашей магистерской диссертации я вижу в том, чтобы представить с возможно большей ясностью кинематическую и геометрическую картину возможных движений твердого тела, перемещающегося по инерции в безграничной массе жидкости, – сказал в заключение долгой беседы Николай Егорович. – Я не сомневаюсь, что вы справитесь с этой задачей.
Магистрант не сомневался в этом так же, как и его руководитель. Но, взявшись за дело с полной отдачей всех сил своих и способностей, Чаплыгин не справился с двухлетним сроком, положенным для подготовки к профессорскому званию.
В декабре 1892 года Жуковский направил в физико-математический факультет новое ходатайство:
«Покорно прошу исходатайствовать продление срока оставления при университете с сохранением содержания на один год Чаплыгина.
Мне известно, что приготовление к магистерскому экзамену и ученые занятия Чаплыгина идут весьма успешно. Он работает над сочинением „О движении твердого тела в жидкости“ и получил в этой трудной задаче несколько важных результатов.
Магистерские экзамены Чаплыгин начнет в начале наступающего года».
Ходатайство было удовлетворено, экзамены сданы, а сочинение Чаплыгина, как мы видели, было удостоено премии имени Н. Д. Брашмана.
Дополнительный срок для оставленного при университете Чаплыгина истекал 31 декабря 1893 года. Предусмотрительному магистранту пришлось взять безрадостное место преподавателя физики в Екатерининском институте. Премия имени Н. Д. Брашмана явилась весьма кстати, но заботы об улучшении материального положения не оставляли Сергея Алексеевича, особенно после того, как осенью 1894 года он женился, а 3 августа 1895 года у молодых супругов родилась дочь, названная Ольгой.
6
ДВА ОТЦА И ДВЕ ДОЧЕРИ
Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Пушкин
Внешне жизнь молодых супругов не изменилась, только брат Михаил, живший с Сергеем, стал жить отдельно. Зато созданная усилиями обоих постоянная приветливость, доброта, открытость, наполнившие дом, привлекли к Чаплыгиным много новых друзей, чувствовавших себя здесь непринужденно и легко.
Частым гостем стал бывать тут и Николай Егорович Жуковский.
В один из вечеров, растроганный вниманием Екатерины Владимировны и общей атмосферой доброжелательности вокруг, Николай Егорович вдруг раскрыл перед молодыми хозяевами странно трагическую сторону своей жизни.
– Моя мать, Анна Николаевна, – сказал он, – женщина властного характера, с ясным умом и жизненной практичностью, полна до краев предрассудками среды, в которой выросла… С первых дней жизни и до сих пор мы все находимся под ее опекой, и дома, в быту, я никогда не действую самостоятельно. В этом моя драма…
Он покорно вздохнул и продолжал тихо:
– В юности, например, я был влюблен в свою двоюродную сестру, только что кончившую гимназию. Мы ходили с нею часто в театр и уже решили пожениться, но мамаша объявила, что не допустит кровосмесительного брака, противного религии… И мы перестали встречаться, она поселилась у Гликерии Николаевны Федотовой и живет с нею, так и не выйдя ни за кого замуж!
Но только после смерти Николая Егоровича Сергей Алексеевич узнал о другой жестокой трагедии Жуковского.
– Мог ли я подумать, что женщина, подававшая нам пальто, была женой Николая Егоровича! – горько говорил он.
Старший в семье, Иван Егорович, сумел вырваться из-под опеки матери; став прокурором, жил привольно, иногда наезжая в Москву. Весною 1890 года он приехал навестить смертельно больную старшую сестру Марию Егоровну. Один раз, возвращаясь поздно вечером из гостей, на Каменном мосту увидел он у перил женщину, подозрительно склонившуюся над рекой. Иван Егорович по прокурорской заботливости немедленно подошел и окликнул ее:
– Не топиться ли задумали, сударыня?
Женщина с закинутой на грудь белокурой косою подняла на Ивана Егоровича большие заплаканные глаза.
– Оставьте меня, сударь, – у меня другой дороги нет!
Иван Егорович, разумеется, не оставил ее, наоборот, стал расспрашивать, потихоньку отводя ее от перил.
История девушки оказалась обыкновенной. Из деревни Важной Шацкого уезда Тамбовской губерии, где она росла и жила поденной работой в соседнем монастыре, ее увез в Москву молодой купчик; он клялся в любви до гроба, обещал жениться, но женился на другой, и девушка ушла от него, ожидая ребенка и не видя другого выхода, кроме самоубийства.
Иван Егорович крикнул извозчика, усадил Надю в пролетку и привез к матери.
– Мамаша, девушка у вас переночует, а завтра обсудим. Иначе на вашей совести будет ее самоубийство!
Анна Николаевна поворчала, но согласилась. Дом всполошился. История девушки взволновала всех и больше всего Николая Егоровича, не выносившего женских слез. Он ходил из комнаты в комнату, спрашивая то одного, то другого, как ей помочь.
Утром Надю увидела больная Мария Егоровна, выслушала ее рассказ и потребовала, чтобы Надю оставили в доме сиделкой при ней. Отказать больной никто не решился, и Надя осталась. Это была кроткая, терпеливая, вежливая, услужливая девушка. Ее полюбили все, даже Анна Николаевна, и, когда у Нади родилась девочка, новорожденную назвали в честь больной Машенькой.
Мария Егоровна умерла. Надя осталась у Жуковских, потом вскоре вышла замуж за первого сделавшего ей предложение, только что отслужившего солдата. Он работал кондуктором на конке. Алексей Гаврилович Антипов был знакомым Жуковских по Орехову.
Надя взяла свою Машеньку из воспитательного дома и отвезла к родным в деревню как законную свою дочь на воспитание, а сама вернулась в Москву: у Жуковских болела мать, тяжело переносил грипп Николай Егорович.
Муж Надежды Сергеевны оказался пьяницей, драчуном. Надя уговорила его дать ей отдельный вид на жительство, чтобы жить у своих спасителей, ухаживать за больными.
Так начался скрываемый широкой спиной Анны Николаевны ото всех глаз роман Николая Егоровича, угнетавший его всю жизнь.
В воспоминаниях Е. А. Домбровской, племянницы Жуковского, об этой трагической стороне жизни ученого повествуется с каменным спокойствием:
«В 1894 г. в личной жизни Николая Егоровича произошло крупное событие: у Надежды Сергеевны родилась от него дочь Леночка.
Омрачалась эта радость невозможностью, по условиям того времени, считать в обществе Лену его дочерью. Она юридически была дочерью Алексея Гавриловича Антипова, официального мужа Надежды Сергеевны. Этот факт всегда мучил Николая Егоровича, но он мирился с ним, так как иначе это убило бы престарелую, все еще жившую старыми традициями матушку Анну Николаевну.
Николая Егоровича радовало, что Анна Николаевна постепенно привязывалась к Леночке; когда та подросла, она стала ее учить читать и считать. С ранних лет Леночка проявляла необыкновенную память и способность к счету.
Николай Егорович, как раньше свою сестру Верочку, брал за длинные светлые косы Леночку и спрашивал: „А ну, Ленушка, сколько будет пятью пять?“ – „Двадцать пять“, – с улыбкой бойко отвечала девочка.
В угоду матери он не мог изменить ненормальное семейное положение, зато изменился сам: стал более замкнутым, на лице его часто появлялось озабоченное, напряженное выражение, стал более рассеян, жаловался, что иногда забывает имена и фамилии хорошо знакомых ему людей; подчас совершенно не помнил, куда положил нужные ему вещи, часто терял ключи и т. д. В университете и Техническом училище ходили бесчисленные анекдоты о его рассеянности. Как и в школьные годы, Николай Егорович иногда путал самые простые арифметические вычисления; он завел себе арифмометр, которым всегда пользовался».
О всех странностях Николая Егоровича говорилось обычно как о чудачествах, свойственных вообще великим умам, и никому не приходила в голову мысль о трагической основе их, хотя все знали о царящем в доме деспотизме девяностолетней матери Николая Егоровича.
У Жуковских существовал неписаный, но железный закон: кто бы ни приходил к Николаю Егоровичу, будь то товарищи по университету – профессора или ученики-студенты, каждый должен был прежде всего пройти в комнату хозяйки, сидевшей в креслах, поздороваться, поцеловать руку. Только выполнив этот обязательный ритуал, гость мог отправляться в комнаты Николая Егоровича или других ее детей.
Впервые зайдя к Николаю Егоровичу по какому-то делу на несколько минут, Сергей Алексеевич хотел уклониться от выполнения принятого ритуала. Николай Егорович сказал с несвойственной ему твердостью:
– Нельзя, мамаша обидится на веки веков. Пожалуйста, пойдемте к ней, я представлю вас…
Сергей Алексеевич, как и все другие, подчинился обычаю…
Николай Егорович любил девочку безумно, но не смел называть Надю женою, а Леночку – дочерью. Дочка Николая Егоровича была почти ровесницей Оли Чаплыгиной.
Екатерина Владимировна учила девочку французскому языку, и Оля рано стала говорить по-французски, но не любила чужой язык и требовала, чтобы мать всегда говорила по-русски.
Она не хотела, чтобы ее мать считали не русской. В Париже, на Всемирной выставке, девочка удивляла французов тем, что говорила по-русски. Что пятилетняя девочка отлично болтала на их языке, все считали естественным; но владеть так в совершенстве русским они считали чудом.
Веселая непринужденность, шутки и смех, музыка и танцы сопровождали все детство Ольги Сергеевны. Сам Сергей Алексеевич, найдя удачное решение задачи, нередко выскакивал из кабинета и начинал вальсировать, схватив жену или дочь, а иногда просто стул, если в гостиной никого не было.
Маленькая Оля боготворила отца и часто, когда он сидел с каким-нибудь гостем, дежурила в углу наготове к защите отца, если его обидят. Более всего в ранние годы детства опасалась она Николая Егоровича. Разговора его с отцом она вовсе не понимала, потому что не знала тех слов.
Впрочем, чаще всего разговаривали они, сидя за чайным столом, молча: только выводили пальцами по воздуху свои формулы на воображаемой доске.
При этом, чтобы другой мог видеть выведенное в воздухе, каждый немножко отодвигался в сторону. Оля думала, что они сердятся и потому отворачиваются друг от друга.
Выведя свои формулы, они опять поворачивались один к другому, сверяя результаты, и Оля успокаивалась.
Став постарше, она уже не беспокоилась за собеседников, и, когда такие безмолвные разговоры случались, рассмеявшись, убегала рассказывать матери о математическом споре отца с гостем, и тогда сама показывала в воздухе розовым пальчиком, как они пишут свои формулы.
В математический спор с Чаплыгиным не решался вступать даже Владимир Васильевич Голубев, аристократически выдержанный, вежливый, воспитанный человек, старейший из учеников Сергея Алексеевича. Он предпочитал состязаться с учителем за шахматной доской. Но когда приходил Сибор или Гольденвейзер играть Шопена или Бетховена, Сергей Алексеевич бросал и шахматы и любой вопрос механики, как бы они его ни занимали.
7
МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ
Гений – богач страшный, перед которым ничто весь мир и все сокровища.
Гоголь
По новому университетскому положению приват-доцент, не читавший обязательных курсов, получал за чтение лекций по специальным предметам не жалованье, а гонорар, который вносили записавшиеся на эти лекции слушатели. Гонорар был невелик, а слушателей находилось так мало, что в общем за полугодие на долю Чаплыгина пришлось после вычета в пользу университета пятнадцать рублей.
Екатерина Владимировна смеялась над горестями мужа, продолжала давать уроки французского языка и, уходя из дому на два-три часа, усаживала Сергея Алексеевича за стол в его комнате. На столе лежала синяя папка с каллиграфической надписью тушью: «О некоторых случаях движения твердого тела в жидкости» (статья вторая).
Научное исследование, как всякое творчество, плохо поддается и дисциплинирующим доводам собственного рассудка и уговорам близких людей. Папка чаще всего оставалась нераскрытой к возвращению Екатерины Владимировны, и «статья вторая», составлявшая вместо с первой предмет магистерской диссертации, была напечатана только в 1897 году, а защищал ее Чаплыгин уже весной следующего года.

Титульный лист магистерской диссертации.
К этому моменту он освободился от житейской суеты и мог полностью отдаться научным занятиям. Екатерининский институт был оставлен. Теперь Сергей Алексеевич преподавал высшую математику в Константиновском межевом институте, выпускавшем межевых инженеров и землемеров. В то же время в качестве ассистента Н. Е. Жуковского и преподавателя механики в Высшем техническом училище он участвовал в практических занятиях по теоретической механике. Отказавшись от приват-доцентства в университете, Сергей Алексеевич взял место преподавателя по статике и теоретической механике в Московском инженерном училище, открытом в 1896 году для «подготовки практических деятелей по инженерно-строительной части». Отсюда выходили инженеры-строители и инженеры путей сообщения.
Во всех трех высших учебных заведениях велись практические занятия. Соприкосновение с технической и инженерной практикой не могло не сказаться на всем строе мышления Сергея Алексеевича. Кафедры механики в этих институтах объединял курс лекций Жуковского по теоретической механике, издававшийся литографированным способом. По нему проходили основы теоретической механики студенты всех высших технических школ в России.
Деятельность Жуковского в Техническом училище, проходившая на глазах Сергея Алексеевича, создала в представлении ученика почти идеальный образ учителя в истинном, высшем смысле этого слова.
«Жуковский бывал в Техническом училище по вторникам, четвергам и субботам, – рассказывает Л. С. Лейбензон. – Обычно в субботу он оставался в училище целый день, до глубокой ночи, экзаменуя студентов на репетициях. Любой студент мог получить от профессора после лекции разъяснение по всем интересовавшим его вопросам, чаще всего связанным с проектированием. Постепенно, со временем возле дверей аудитории, где читал Жуковский, выстраивался ряд инженеров, приезжавших со всех концов России, чтобы получить у Николая Егоровича ответы на интересующие их технические вопросы. Окруженный этими людьми, Николай Егорович медленно шел из аудитории в профессорскую. А там его часто ожидали молодые преподаватели Технического училища и товарищи, профессора всех дисциплин, желавшие посоветоваться с ним по интересующим их вопросам. Многие показывали ему чертежи своих новых конструкций, и Николай Егорович, когда-то плохо чертивший в Институте инженеров путей сообщения, благодаря своему всепроникающему геометрическому глазу прекрасно разбирался во всех этих чертежах новых машин и конструкций. Он как-то сразу умел подмечать и достоинства и недостатки их».
В таком инженерно-техническом окружении острое абстрактное мышление Сергея Алексеевича волей-неволей начинало сочетаться с инженерно-технической практикой и в конце концов привело к способности при аналитических решениях не отрываться от физического существа проблемы. Об этом свидетельствуют многочисленные доклады и рефераты Чаплыгина на заседаниях Московского математического общества и Общества любителей естествознания, избравших магистранта своим членом.
Высвобождая время для многообразных и многочисленных занятий, Чаплыгины перебрались на новую квартиру в Вознесенском тупике, поближе к Техническому училищу и Межевому институту.
Публичная защита магистерской диссертации Чаплыгина «О некоторых случаях движения твердого тела в жидкости» происходила на заседании физико-математического факультета 20 марта 1898 года.
Популярность молодого ученого настолько возросла к этому времени, что дискуссия привлекла довольно много посторонних людей. Основную публику составляло студенчество и профессура во главе с К. А. Тимирязевым.
Оппонентами выступали Н. Е. Жуковский и Б. К. Млодзеевский.
В очень подробной рецензии на представленную магистрантом диссертацию Николай Егорович характеризовал ее так:
«Рассматриваемое сочинение посвящено разработке вопроса о движении по инерции твердого тела в беспредельной массе несжимаемой жидкости, покоящейся в бесконечности. Оно является продолжением прежней работы автора „О некоторых случаях движения твердого тела в жидкости“. В этом сочинении дана была полная геометрическая интерпретация движения тела в случае Вебера. Главное содержание новой работы состоит в рассмотрении тех случаев, в которых задача допускает один или несколько интегралов. При зтом исследовании автор встречается со случаями В. А. Стеклова и А. М. Ляпунова. Так как интерпретация движения в случаях, с которыми встречается автор, находится в связи со случаем Кирхгоффа, то автор и начинает свою работу с геометрического исследования этого случая».
Переходя далее к разбору отдельных случаев, исследованных диссертантом, Жуковский заботливо выделяет геометрическую интерпретацию их и очень мало останавливается на собственно аналитических соотношениях.
Подводя итоги, Н. Е. Жуковский дал работе очень высокую оценку:
«Сочинение С. А. Чаплыгина представляет вполне самостоятельный труд, который вместе с его прежними работами по тому же вопросу являются в литературе единственными исследованиями по геометрической интерпретации движения твердого тела в жидкости. Можно сказать, что картина этого сложного движения теперь рисуется в воображении только благодаря исследованиям С. А. Чаплыгина. Счастливая мысль о разложении изучаемого движения на два, из которых одно есть постоянное винтовое движение около оси импульса, открытие цилиндров и желобов, по которым катится соединенный с телом эллипсоид в случаях Вебера и Кирхгоффа, открытие особых прямых, управляющих движением тела в случаях Ляпунова и Стеклова, а также открытие многих новых случаев движения, допускающих частные интегралы с пятью и меньшим числом постоянных, доставляют, по нашему мнению, автору рассматриваемого сочинения почетную известность в литературе по гидродинамике…»
Ученую степень магистра прикладной математики Чаплыгину присудили единогласно.
Обстоятельная рецензия оппонента дает конкретное представление о классической механике. Указывая в рецензии тот или другой случай движения твердого тела в жидкости, Жуковский называет их случаями Клебша, Альфана, Ковалевской, Ляпунова, Стеклова, Чаплыгина, то есть присваивает этим случаям имена авторов, придумавших эти случаи. Вопрос о том, существуют ли в живой природе или технике такие случаи движения, не интересует ни автора, ни оппонентов.
Весь этот начальный период научной деятельности Чаплыгина, от окончания курса до защиты магистерской диссертации, с предельным лаконизмом когда-то охарактеризовала маленькая Люба: «Ты опять поедешь учиться?»
С меньшим лаконизмом, но с большей точностью и ясностью характеризует начальный период творческой истории Чаплыгина один из виднейших учеников его, академик Мстислав Всеволодович Келдыш:
«Научная деятельность Сергея Алексеевича начинается со времени окончания им университета. Будучи молодым ученым, он входит в круг интересов, занимавших в то время университетских математиков и механиков, и его первые работы относятся к области классической механики. В то время университетская наука была весьма мало связана с техническими приложениями. Интересы механиков были направлены на решение вопросов, связанных с астрономией и физикой, и частично на развитие течений и решение ряда трудных задач классической механики, возникших значительно раньше и не находивших долгое время решения. Многие из этих задач представляли большой принципиальный интерес, способствуя развитию общих методов механики и математики, и часто давали решение вопросов, существенных для приложений.
В этот первый период своей деятельности С. А. Чаплыгин целиком направляет свои силы на задачи классической механики. Работы его в этой области показали, что он является блестящим ученым, владеющим самыми сложными аналитическими методами науки, извлекающим из них ясные геометрические закономерности движения».
Конечно, еще и после защиты магистерской диссертации интересы Сергея Алексеевича как бы по инерции продолжали оставаться в области классической механики. Тематика ее в то время представляла большие трудности. Преодолевая их, Чаплыгин создавал в каждом случае все новые и новые оригинальные методы, указывал наиболее выгодный подход к задаче и наиболее широкое применение его в других случаях.
Сергей Алексеевич никогда не писал дневников, не держал при себе записных книжек. Даже рукописей опубликованных статей он не сохранял. Владея полностью, как никто, аналитическими методами, он не считал важным вопрос о выборе тем для своих работ. Любая не решенная до конца или решенная неправильно проблема могла стать темой его работы. Нерешенные проблемы постоянно и мучительно беспокоили его математический гений, так же как проблема параллельных всю жизнь не давала покоя другому русскому гению.
Движение господствует в природе, и нерешенных проблем бесконечное множество и над нами и вокруг нас.
Чем же гению руководствоваться при выборе, как не математической трудностью решения? Темы первых работ Чаплыгину предложил Жуковский, последующие работы развивали идеи, заложенные в предыдущих, исправляли ошибки предшественников.
Большая группа работ Чаплыгина о динамике твердого тела и прежде всего о катании твердых тел, например, обязана своим возникновением чужой ошибке. Вопрос представлял исключительные теоретические трудности. При решении задач о катании твердого тела по поверхности дело сводится к так называемой неголономной системе, когда лагранжевские дифференциальные уравнения движения становятся неприменимыми.
Видный финский математик и политический деятель, профессор Лоренс Линделёф, решая задачу о катании твердого тела по плоскости, не учел неприменимости уравнений Лагранжа к неголономным системам и в таком виде выпустил в свет в 1895 году свою работу.
Сергей Алексеевич заметил ошибку и занялся проблемой «О движении тяжелого тела вращения на горизонтальной плоскости». Он не только выяснил ошибку финского математика, но и дал собственный анализ и решение этой трудной проблемы, причем полностью решил случай качения диска, качения шара и ряд других.
Работы Чаплыгина по неголономным системам вызвали ряд работ русских и иностранных ученых, и сам Сергей Алексеевич придавал им большое значение. Для него самого не существовало математических трудностей, и чудесные по простоте решения труднейших задач давались ему так легко, что он удивлялся, что в них находили трудного другие. Вот так же он еще в гимназии никогда не мог понять, как это его товарищи не знали уроков, бегали от учителей, оставались на второй год в том же классе.
Сергей Алексеевич успешно и много работал в области плоской задачи теории упругости, но, не считая работы эти завершенными, он не спешил публиковать их.
Через несколько лет обширное исследование Г. В. Колосова представлено было на ту же тему в качестве докторской диссертации.
Сергей Алексеевич, узнав об этой работе Г. В. Колосова, не стал возвращаться к своему исследованию, и оно так и осталось неопубликованным.
Того спокойствия, с каким относился к своим работам сам Чаплыгин, не разделяла научная и инженерно-техническая общественность. Высокую оценку получили исследования по теории движения твердого тела в жидкости и по динамике неголономных систем. Представленные членом-корреспондентом Академии наук профессором Н. Е. Жуковским на соискание премии графа Д. А. Толстого, они были удостоены присуждения от Академии наук Большой почетной золотой медали.
Непременный секретарь Академии наук не замедлил 31 января 1900 года уведомить Сергея Алексеевича об этой награде. В тяжелом пакете с пятью сургучными печатями вместе с письмом находилась и медаль. Почтальон с большой кожаной сумкой и револьвером в кобуре у пояса, разносивший денежные и ценные пакеты, с любопытством ждал, когда Сергей Алексеевич раскроет конверт. Сергей Алексеевич сначала вынул коробочку с медалью и, сняв крышечку, с любопытством стал рассматривать барельефный портрет бывшего президента академии и министра народного просвещения. Почтальон посмотрел через плечо Сергея Алексеевича на золотую медаль и сказал:
– В ломбарде закладывают такие по шестьдесят рублей!