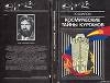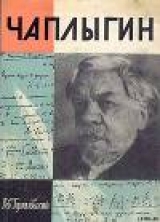
Текст книги "Чаплыгин"
Автор книги: Лев Гумилевский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)
Часть заработка откладывалась на «университет». В сберегательной кассе ко дню окончания курса в гимназии на счету Чаплыгина числилось двести рублей, а на крайний случай имелось еще обеспечение в виде золотой медали, полученной вместе с аттестатом зрелости.
Весною 1886 года Чаплыгин блестяще окончил гимназию, а осенью был принят на физико-математический факультет Московского университета. Ему было тогда семнадцать лет.
Вспоминая впоследствии нежную пору своей юности, Сергей Алексеевич писал:
«Мне вспоминается давно прошедший август 1886 года. Мои товарищи я я, молодые студенты университета, с чувством глубокого почтения к нашей альма матер только что вошли в ее стены. Над физико-математическим факультетом в те времена сияли имена Цингера, Бредихина, Тимирязева, Богданова, Морковникова, Жуковского, и рядом с ними, отнюдь не затемняясь их блеском, было имя незабвенного Александра Григорьевича Столетова. Мы слышали о глубокой учености Александра Григорьевича, о его превосходных лекциях и о необычайной строгости его как экзаменатора. О его требовательности ходили легенды, рассказывали о необычайных вопросах суворовского пошиба, которыми он будто бы любил озадачивать студентов, и т. п. И вот мы с огромным интересом вошли в замечательную, недавно созданную под руководством Александра Григорьевича физическую аудиторию. Нас сразу захватило мастерское изложение профессора я очаровали превосходно поставленные эксперименты, изумительно точно и ясно проводившиеся несравненным помощником Столетова И. Ф. Усагиным. Аудитория всегда была полна. С неослабевающим интересом все отделы курса опытной физики, неизменно иллюстрировавшиеся блестящим экспериментом, прослушивались с начала до конца. Что касается экзаменов, то ничего необычного они не представляли: профессор лишь неуклонно требовал ясного понимания главного содержания курса; правда, он выслушивал ответы, не задавая наводящих вопросов, если студент начинал путать, и не помогал выбраться из затруднений, если они происходили от непродуманности и невнимательного изучения предмета».
Столетовских экзаменационных приемов Чаплыгин не боялся. Под влиянием превосходных лекций профессора и изумительного искусства его ассистента Сергей Алексеевич хотел даже избрать физику своей ученой специальностью. Но человек вырастает из своего детства и не расстается с ним всю жизнь. При первой же попытке взвесить на точных весах кусочек стекла студент Чаплыгин убедился в этой истине. Его глаза, руки, пальцы, нервы не годились для ручной физической работы. Раз сплоховав на практическом занятии в физической лаборатории, Сергей Алексеевич уже никогда сам не пытался экспериментировать.
Физике он предпочел чистую математику.
Изучение переменных величин и зависимости между ними как нельзя более соответствовало природному влечению Чаплыгина к ясности и порядку во всем таинственном и непонятном. Работа по математическому анализу немедленно стала страстью его, как только переступил он порог университета. Метод, которым он овладевал с необычайной быстротою, давал блестящие результаты как в самой математике, так и в своих приложениях к исследованиям явлений природы и техники.
Нет почти ни одной области естествознания, в которой бы сегодня не применялся математический аппарат. Трудность теоретических решений заключается не в развитии математической теории и тем более не в счетной работе, которую в наши дни выполняют и машины. Основная трудность заключается в выборе посылок для математической обработки, в установлении функциональных зависимостей между ними и, наконец, в истолковании полученных математическим путем результатов.
Математик прежде всего находит общую форму изучаемых явлений, пренебрегая ненужными для исследования сторонами, а затем производит логический анализ, тщательное и глубокое исследование этой формы. Скажем, исследуя движение планет, математик пренебрегает размерами небесных тел, заменяя их «материальными точками».
Найдя такую общую форму изучаемого явления, математик переходит к установлению функциональных связей между переменными величинами, например связи между колебаниями массивной системы железнодорожного моста и весом движущегося по нему с некоторой скоростью поезда.
Установление всякого рода функциональных связей сделалось любимым занятием Чаплыгина. Он умел устанавливать эти связи между любыми величинами, кажется, никогда не ошибаясь.
Истолкование полученных математическим путем результатов не менее занимало его ум.
Область применения математического анализа в физических науках принципиально не ограничена. При математическом анализе физических явлений исследователь, однако, каждый раз должен строить схематическую, упрощенную «модель явления». Она дает лишь приблизительную картину действительности. Теоретическая аэродинамика, например, решая математическим методом свои задачи, исходит из модели «идеальной жидкости», модели Эйлера. Жидкость предполагается в виде всюду однородного, сплошного тела, она не имеет вязкости, и трения в ней не существует. В такой идеальной жидкости, конечно, движущееся тело не должно испытывать никакого сопротивления. На самом же деле в реальной жидкости, как и в воздухе, всякое тело при движении испытывает сопротивление. Таким образом, «модель явления», с которой оперирует аналитик, не является копией действительности, что и ограничивает применение каждого математического метода.
Чаплыгин считал, что основного математического аппарата для изучения технических и природных явлений совершенно достаточно. Если реальная природа очень близко подходила к природе, описанной математически, Чаплыгин приходил в восторг.
Если реальная природа отступала в своем поведения от законов, предписывавшихся ей математическим построением, он пожимал плечами, брезгливо оттопыривал губы и начинал искать ошибку, не теряя уверенности, что мир может постигать только математика.
Мысленная картина конкретной реальности больше мешала, чем помогала, его рассуждениям. Однако удивительнее всего в этом студенте было другое. Оказываясь в реальной, конкретной обстановке, он проявлял чудеса житейской практичности и деловитости.
Явившись впервые в Москву и сторговавшись с извозчиком у Павелецкого вокзала до Лоскутной гостиницы, юноша, устраивая в пролетке свой багаж, спросил возницу:
– Не слыхал, отец, где-нибудь квартиры сдают студентам?
Извозчик принял корзину у седока, поставил между ног под козлами и охотно вступил в разговор:
– Да есть тут одна, знаю, вдова из купеческого звания, в Мокринском переулке. И комнаты сдает и нахлебников держит. Этим и живет… Обанкротился муж-то, наверное!
– Не поехать ли нам к ней сначала? Может быть, не все занято у ней? – предложил студент. – Как думаешь?
– Должно, что не занято, ведь только что успенье миновало. Студенты-то учатся с сентября! – с полным участием входил в дело извозчик. – Это ты вот позаботился.
– Ну так поезжай в Мокринский! – не раздумывая, решил седок.
Чаплыгин поселился в Мокринском у купеческой вдовы в тот же день и был рад, что сэкономил на гостинице.
Комнатка со сводчатым потолком выходила окном к остаткам Китайгородской стены. Солнце сюда вряд ли когда заглядывало, но хозяйка утешила:
– А что вам, батюшка, солнце? Чай, только к ночи приходить с учения будете!
Покладистый квартирант не стал спорить. За это она через минуту принесла ему студенческий форменный сюртук из темно-зеленого кастора, со стоячим воротником. На нем и следа носки не было.
– Не подойдет ли вам, батюшка? Материал-то какой… Прошлогодний квартирант оставил за долг, – пояснила она, – продайте, говорит, а у меня, говорит, денег только чуть-чуть на дорогу.
– Что же вы не продали? – подозрительно спросил новый квартирант, рассматривая мундир.
– А кто его возьмет? Студенты только, а у них лишнего-то нет. Татарам-старьевщикам показывала – не берут: на картузы, говорят, только пойдет, а картузник два целковых – больше не даст! Так и не взяли.
– А сколько вы просили?
– Да что там просила. Просила десять рублей, да уж тебе, если подойдет, бери за то, что хозяин задолжал: семь рублей!
Так юноша за полдня обзавелся жилящем и без хлопот за минимальную плату пополнил свой гардероб.
По гимназическому опыту следовало уже ожидать спроса на репетиторов к неуспешным ученикам. Сергей Алексеевич пошел в контору самой ходкой среди населения газеты «Русский листок» и дал двухстрочечное объявление на последнюю страницу:
«СТУДЕНТ зол. мед. ищет занятий с учениками. Мокринский пер., 6».
Студенческие дни коротки. С утра – университетские занятия, в сумерки – обед в студенческой столовой, потом уроки где-нибудь на другом конце города, в лучшем случае – галерка в театре или балкон в консерватории.
Уже весною как-то посмотрел на себя Чаплыгин в большое зеркало в театральном фойе и заметил, что у него чрезмерно отросли волосы и что длинные волосы, по моде шестидесятых годов, к нему очень идут. Он решил так носить их всегда, только изредка подправлять у цирюльника. Особенно шла ему новая прическа, когда он надевал свой касторовый сюртук с синим стоячим воротником и двумя рядами посеребренных пуговиц. В таком обновленном виде явился он в Воронеж после сдачи экзаменов за первый университетский курс.
Там его ждали кондиции, барышни, лунные ночи, цветы, сводные братья и сестры, мать, отчим и старая-старая гитара с шелковой лентой, завязанной еще руками отца.
У Сергея Алексеевича был недурной голос, и, когда, нежно аккомпанируя себе, он с чувством пел старинные романсы – «Нищую» или «Велизария», Анна Петровна закрывала лицо платком и плакала.
5
СТУДЕНТ ЧАПЛЫГИН
Вдохновение нужно в геометрия, как и в поэзии.
Пушкин
По счастливой случайности, в год поступления Чаплыгина в Московский университет в состав его профессуры вошел Николай Егорович Жуковский.
Когда мы говорим о крупном ученом, хотя бы и обладающем всеми наградами, которыми он может быть почтен, его имени мы обычно предпосылаем имя его учителя. И сам ученый, хотя бы и превзошедший своего учителя, рассказывая о себе, называет себя его учеником. Академик Сергей Васильевич Лебедев, впервые синтезировавший каучук, был учеником академика Алексея Евграфовича Фаворского. На сорокалетнем юбилее своем Фаворский, отвечая на приветствия, говорил, что он счастлив тем, что работал у Александра Михайловича Бутлерова, но и сам Бутлеров никогда не упускал случая напомнить, что он ученик Николая Николаевича Зинина.
Жуковский учился в Московском университете. В его время на математическом отделении физико-математического факультета были и выдающиеся ученые среди профессоров. Математику читали А. Ю. Давидов и В. Я. Цингер, теоретическую механику – Ф. А. Слудский, физику – Н. А. Любимов, астрономию – Б. Я. Швейцер и Ф. А. Бредихин, практическую механику – А. С. Ершов.
Но среди них нет никого, кого мы могли бы назвать учителем Жуковского в полном, высоком и благородном смысле слова.
До его избрания экстраординарным профессором на математическом отделении все оставалось, в сущности, в том же виде, как и во времена его студенчества. Классическая механика считалась прикладной математикой. На лекциях господствовал аналитический метод и идеи Лагранжа. Наука о движении ограничивалась абстрактными моделями реальных тел в виде «материальной точки», «абсолютно твердого тела» и «идеальной жидкости». Изложение вопросов механики получалось трудным, не всегда и не всем понятным. Основательно знакомые с «началом возможных перемещений Лагранжа», студенты не могли решать простых статических задач. За аналитическими формулами никаких реальных, материальных образов не было.
«Приступив к преподаванию механики в университете, Н. Е. Жуковский перестроил его на основе своего опыта преподавания в Техническом училище, – говорит академик Л. С. Лейбензон, один из первых учеников Жуковского. – Он выбросил из курса аналитический мусор своих предшественников и основал преподавание механики на тех простых принципах, которые он почерпнул у Галилея, Ньютона, Гюйгенса и Пуансо. Его курс механики был настолько прост и понятен студентам, что получил распространение по всей России. И только изучив по литографированным запискам курс Н. Е. Жуковского, студенты приступали к изучению трудных курсов своих профессоров».
Кроме чтения лекций, Николай Егорович ввел упражнения по механике, он давал такие задачи, в которых математический анализ был возможно прост, а на первый план выступала механическая сущность. В те годы, когда создавалась русская аэродинамическая школа во главе с Н. Е. Жуковским, теоретическая механика оставалась еще прикладным отделом математики. Жуковский одним из первых доказал, что в современной теоретической механике опираться лишь на математический метод невозможно, что для познания мира с точки зрения механики движения так же, как и во всех иных областях естествознания, нужен научно поставленный эксперимент.
Дальнейшее развитие науки подтвердило правильность взгляда Жуковского, хотя в его время находилось очень мало ученых, державшихся такого мнения.
Педагогическая деятельность Жуковского совсем не была похожа на выполнение обязанностей, дававших ему материальные средства для того, чтобы он мог заниматься научной работой. Нет, то была составная часть научных занятий, и Николай Егорович не отделял своей работы от работы учеников и даже не видел существенной разницы между ними.
Он был не педагогом, а учителем во всей благородной полноте этого слова.
Он испытывал глубочайшее удовлетворение, прививая своим ученикам любовь к науке, и находил способы делать сложнейшие вопросы теории доступными их пониманию. Он изобретал удивительные приборы и модели, чтобы дать наглядное толкование самым отвлеченным задачам.
Иногда он приносил в аудиторию «клочок живой природы», вроде маленькой птички, которую он демонстрировал слушателям, чтобы иллюстрировать вопрос об условиях взлета. Птичка находилась в стеклянной банке и должна была наглядно показать, что, не имея площадки для разбега, подняться в воздух нельзя.
Николай Егорович снял с банки крышку и предоставил птичке выбираться наружу, чтобы доказать непреложность положений теории. Некоторое время птичка действительно не могла взлететь. Но вот, не имея нужной для взлета площадки, птичка стала делать спирали но стенке банки и, ко всеобщему восхищению, взлетела под потолок.
Учитель рассмеялся вместе с учениками.
– Эксперимент дал неожиданный, но поучительный результат: площадку может заменить спираль! Это не пришло нам в голову!
Жуковский, очевидно, понимал или чувствовал, каким грубым препятствием для движения творческой мысли, является привычное мышление, как трудно даже изощренному уму прервать течение привычных представлений и дать место иным, неожиданным и новым. Оттого-то он и приникал постоянно к живой природе с ее огромным запасом еще не раскрытых тайн, не обнаруженных возможностей.
Когда он занимался измерением и вычислением времени полета, над зеленым лугом летали стрелы его арбалета, снабженные винтом. Когда он изучал сопротивление воздуха, но проселочным дорогам мелькал взад и вперед его велосипед с большими крыльями. Живая природа открывала тайны аэродинамики этому пророку авиации, предсказавшему мертвую петлю за двадцать лет до того, как ее выполнил Нестеров. В ореховском саду под яблонями чертил на песке свои формулы ученый, когда врачи во время болезни запретили ему работать, а родные заставляли его подолгу гулять.
В этом же саду Жуковский ставил большой эмалированный таз с дырками, исследуя формы вытекающих струй, и думал:
«Все дело тут в вихрях, которые срываются с краев отверстия, первоначально они имитируют форму отверстия, а затем они стягиваются, деформируются и деформируют струю. Прибавляя к действию вихрей силу инерции движущихся частиц жидкости, можно получить все изменения струи. Вопрос этот вполне ясен…»
Профессор В. В. Голубев, рассказывая о произведенной Николаем Егоровичем перестройке преподавания механики, говорит:
«Им было придано теоретической механике совершенно новое направление. Н. Е. один из первых показал в современной механике, что математический метод исследования, несмотря на его исключительную мощь, не является ни единственным, ни исключительным и всеобъемлющим методом научного исследования в области механики. Н. Е. своими работами совершенно ясно показал, что механика есть ветвь естествознания, ветвь пауки, изучающей окружающую нас природу, что для познания мира, окружающего нас, с точки зрения механики движения, так же нужен научно поставленный эксперимент, так же нужны опытные исследования, как они нужны в астрономии, физике, химии и других отделах науки о природе. Н. Е. является пионером в этом направлении: эта точка зрения была совершенно чужда даже крупнейшим ученым, современникам Н. Е., например, никакого отголоска таких взглядов мы не найдем в исследованиях академика А. М. Ляпунова, который в своих классических работах остается исключительно математиком».
Лейбензон и Голубев, так же как десятки других студентов, без труда усваивали научное миросозерцание учителя и его методы исследования в механике.
Студент Чаплыгин так просто «выбросить аналитический мусор» из головы не мог.
Идеалом всякого научного исследователя Чаплыгин считал авторов, следовавших но пути Лагранжа.
Несомненно, что идеал этот вполне соответствовал постоянному стремлению Чаплыгина к простоте, ясности, всеобъемлемости законов, открываемых наукой. Именно тем и пленил его аналитический метод, что прикладная математика, куда относилась механика, опиралась на общие принципы, законы, аксиомы, вполне достаточные для построения любой частной теории и для того, чтобы любую механическую задачу привести к задаче чисто математической, сводящейся в основном к интегрированию дифференциальных уравнений.
Стало быть, механика не нуждается ни в каких экспериментах, ни в каких лабораториях и наблюдениях; прогресс в интегрировании дифференциальных уравнений одновременно есть прогресс и в механике, вполне определяющий ее развитие.
Блестящий успех, достигнутый применением идей Лагранжа в небесной механике и в математической физике, ставил вне сомнения правильность его концепций; Лагранжу следовали в своих трудах все ученые XIX века, начиная от Лапласа, Пуассона, Коши и кончая нашими соотечественниками – С. В. Ковалевской, А. М. Ляпуновым, В. А. Стендовым.
С. В. Ковалевская в своем классическом мемуаре «О движении твердого тела, имеющего ненодвижную точку» рассматривала свой случай движения твердого тела потому только, что ей удалось найти математический метод, позволивший до конца проинтегрировать полученные при этом уравнения. Софье Васильевне пришлось даже доказывать, что разобранный ею случай движения вообще можно осуществить в действительности. А. М. Ляпунова в его классическом мемуаре «Об устойчивости движения» меньше всего интересует вопрос о приложении разработанного им метода к решению какой-нибудь реальней механической задачи: все его внимание привлекают чисто математические трудности задачи, которые он и преодолевает с исключительным искусством.
Совершенно так же понимал задачу прикладной математики и Чаплыгин.
Как-то осенью, когда Чаплыгин был уже на втором курсе, но Москве прошел сильный дождь. Потоки воды, извиваясь между неровных булыжников, быстро слились в озорные ручейки на мощеном дворе университета. Направлявшийся в университет с зонтом в руке Жуковский остановился над ручьем и с любопытством стал наблюдать за его течением. Иногда он, действуя зонтом, несколько менял расположение камней и тогда с новым вниманием следил, как меняется течение.
Вокруг ученого собрался кружок студентов. Николай Егорович увидел среди собравшихся своего ученика и, усмехаясь, заметил:
– Как хорошо сказал Галилей: легче узнать законы движения светил небесных, чем познать законы движения воды в ручейке! Так оно и есть!
Он посмотрел на молодые лица студентов, как бы призывая их в свидетели галилеевской истины. Негромко, но твердо ответил Чаплыгин:
– Природа любит простоту. Если у нее спрашиваешь верно, она ответит просто!
Кто-то насмешливо крикнул:
– Значит, Галилей не умел спрашивать!
Все рассмеялись и стали расходиться. Николай Егорович пошел рядом с Чаплыгиным.
– Нет, вы хорошо сказали, коллега. Верно спросить – наполовину ответить. Вы, кажется, с моего курса? Как ваша фамилия?
Чаплыгин назвал себя. Николай Егорович запомнил хмурое лицо этого студента.
Чаплыгин поступил в университет через год после введения нового университетского устава. Устав 1884 года носил явно реакционный характер: отменена выборность ректоров и деканов, запрещены студенческие организации, отказано в приеме семинаристам, хотя бы и сдавшим экзамены на аттестат зрелости, будущие студенты лишились права выбирать себе университет – гимназисты распределялись но округам и поступали только в университеты своего округа.
Для предотвращения студенческих волнений введены были должности надзирателей и форма для студентов: голубые фуражки и серые форменные тужурки. Форменная одежда выделяла их из толпы. Прославленный татьянин день – день открытия Московского университета – праздновался втихомолку, при закрытых дверях, в студенческих общежитиях и на частных квартирах.
Первые годы жизни университетов по новому уставу показали его несостоятельность и не предотвратили студенческих демонстраций. В 1887 году уже появились студенческие «пожелания» в ряде университетов. Они требовали возвращения к уставу 1863 года, выборности ректоров и профессоров, разрешения студенческих организаций, доступа в университет семинаристам, женщинам, евреям. Дискуссии об уставе не прекращались. Особенно оживленно спорили и студенты и профессора по поводу нового норядка в экзаменационных комиссиях. Вызубренный но записанным лекциям ответ не считается удовлетворительным. Студент должен показать самостоятельное научное мышление.
Чаплыгина экзамены не беспокоили, но он принял участие в дискуссии. Защитники нового устава утверждали, что при новом порядке «экзамен из лекций» заменится «экзаменом из науки». Чаплыгин лаконично ответил на это:
– А на деле вместо экзамена «из науки» получается экзамен «из учебника», притом элементарного учебника!
Когда спор стал превращаться в острые намеки и злые шутки со стороны обиженных его замечанием, Чаплыгин предложил:
– Держу пари с кем угодно и на что угодно, что за три дня выучу наизусть весь учебник химии, и буду отвечать на любой вопрос слово в слово, и получу «весьма»!
Пари было с одушевлением принято. Тут же выбрали экзаменаторов, назначили время и место экзамена. Чтобы обеспечить беспристрастие судей, пригласили на этот оригинальный экзамен профессора Н. А. Любимова, одного из членов министерской комиссии, разрабатывавшей новый устав.
Чаплыгин дважды прочитал учебник и, закрыв глаза, повторил каждую страницу. В том, что спор он выиграет, сомнений не было.
Экзамен производился так: каждый из трех экзаменаторов, открыв учебник, задавал три вопроса и ответы Чаплыгина проверял по учебнику. Чаплыгин сделал только два незначительных отступления от текста, переставив порядок слов.
Собравшиеся в аудитории студенты аплодировали. Когда Николаю Алексеевичу Любимову рассказали о споре, вызвавшем этот экзамен, он грустно сказал:
– Более всего в комиссии по уставу опасались, как бы не стеснить преподавание программами, предписанными свыше, не превратить университеты в школы, где получают определенную сумму знаний, не уронить смысл и значение университета как такового… Выходит, не доросли мы еще до свободы преподавания! – с горечью заключил он и ушел.
Отсутствием строго определенных программ пользовался в полную меру Николай Егорович Жуковский. Он проверил на опыте свою программу преподавания в Техническом училище и впервые в университете столкнулся с равнодушием студента Чаплыгина к геометрической интерпретации различных случаев движения.
Аналитический ум Чаплыгина опирался на авторитеты Эйлера и Бернулли, Софьи Ковалевской, Чебышева, Ляпунова. Но в перестроенной Жуковским системе преподавания оказалась еще одна особенность. Часто и подолгу беседуя со студентами, Николай Егорович знакомил собеседников с вопросами, над которыми сам в то время работал, и таким образом вовлекал будущих ученых в текущую научную работу. В сущности, он создавал современную русскую школу механики.
«Сначала число студенческих сочинений по механике, которые писались под руководством Николая Егоровича, было невелико, – говорил Л. С. Лейбензон, – но потом оно возросло, и постепенно к нему стало обращаться за темами дипломной работы большинство способных студентов математического отделения. Однако Николай Егорович предъявлял очень высокие требования к студентам, которые хотели посвятить себя научной работе, и оставлял при университете для подготовки к профессорскому званию только действительно выдающихся людей, с которыми стоило заниматься и таланты которых он умел подмечать со свойственной ему проницательностью».
Одним из первых среди таких избранников стал Сергей Чаплыгин.
Вовлекая Чаплыгина в интересы своей науки, Николай Егорович не покушался на прирожденную склонность ученика к аналитическим построениям в механике. Наоборот, он высоко ценил в нем глубокое проникновение в аналитическую сущность вопроса. Геометрическая картина движения рассматривалась тут уже только как иллюстрация полученных аналитических соглашений.
Обращаясь в физико-математический факультет с просьбой оставить окончившего в 1890 году курс студента математического отделения Сергея Чаплыгина при университете для подготовки к профессорскому званию, Жуковский писал:
«Сергей Чаплыгин, окончивший в этом году университетский курс с дипломом первой степени (из всех предметов весьма удовлетворительно), во время своего пребывания в университете отличался прилежанием и выдающимися математическими способностями, о чем вместе со мною заявляет также и профессор В. Я. Цингер.
По моему указанию Чаплыгин занялся для представления в Испытательную комиссию сочинением „Об импульсивном образовании движения твердого тела, погруженного в беспредельную массу несжимаемой жидкости“. Эту работу он выполнил с полным пониманием дела и некоторою самостоятельностью. Весною этого года, во время коллоквиума, я предложил ему заняться исследованием падения тяжелых тел в жидкости, указав ему при этом на некоторые винтовые движения, которые могут быть ожидаемы при решении задачи. Осенью он представил мне работу: „О движении тяжелых тел в жидкости“, в которой вполне разобрал упомянутые интересные типы движений, а также и некоторые другие. Извлечение из этой работы будет напечатано в журнале „Русского химического общества“.
Находя, что Сергей Чаплыгин проявил большой интерес к занятию теоретической механикой и обнаружил в этом деле далеко не заурядные способности, я покорно прошу факультет оставить его при университете для приготовления к магистерскому экзамену по прикладной математике с назначением стипендии из сумм министерства. При этом заявляю, что он хорошо владеет тремя иностранными языками. При сем прилагаются: два вышеупомянутые сочинения Сергея Чаплыгина и инструкция для его будущих занятий».
В те времена считалось предосудительным обращаться с просьбами к старшим, будь то учителя, руководители учреждений, начальники служб, хозяева предприятий. Подразумевалось, что старшие, кто бы они ни были, сами обязаны всемерно заботиться о младших по возрасту, чину, положению. Забота о подчиненных считалась главной среди других обязанностей руководителя, потому что успех всякого дела – в руках непосредственных исполнителей.
И когда Николай Егорович сообщил Чаплыгину, что намеревается просить факультет об оставлении его при университете, Чаплыгин не удивился, ответил согласием и прибавил:
– Благодарю вас, профессор!
Даже эта простая формальность смутила Жуковского.
– За что же меня благодарить? Вы более чем достойны этого. Скорее нам надо благодарить судьбу, что вы достались нашему университету.
Еще в Воронеже, в гимназии, на Чаплыгина смотрели все как на будущего профессора, и сам он не думал, не мечтал ни о какой другой деятельности, кроме как научной, творческой, исследовательской.
Получив диплом и университетский значок, Чаплыгин отправился на отдых в Воронеж, так, как он делал все четыре студенческих года в летние, а иногда и рождественские каникулы.
Кандидат математических наук отправился на родину в начале декабря. В железную печь, стоявшую посредине вагона, проводник беспрерывно бросал уголь. Раскаленные докрасна стенки ее дышали огнем; от окон, наоборот, тянуло холодом. За окном несло снегом всю ночь, по утром за Козловом утихло, печь перестала пылать. Сергей Алексеевич смотрел в окно на сверкающий снег и деревянные решетчатые щиты, ограждавшие путь от заносов, стараясь понять, почему снег, встречая на пути своем преграду, не наносится к ней вплотную, а образует на расстоянии от нее сугроб, вблизи же самой преграды – выемку.
Впервые с необычайной ясностью аналитическому уму молодого ученого представился геометризм явления не иллюстрацией к аналитическим соотношениям, а опирающимся на математический аппарат методом выбора наивыгоднейшего размещения снегозащитных устройств.
И невольно Сергей Алексеевич вспомнил сосредоточенность Жуковского над дождевым ручьем в университетском дворе.
Как всякая неясность в природе, в людях, вокруг себя, задача, поставленная обыкновенной метелью, не раз, вплоть до Воронежа, вспоминалась молодому ученому и беспокоила его ум. Ведь истинное назначение математики в том и заключается, чтобы открывать естественный порядок в кажущемся беспорядке стихийных явлений природы.
Так у молодого ученого впервые отчетливо возникло сознание, что отвлеченные математические теории, которые он до сих пор изучал, непосредственно связаны с естествознанием и с практической деятельностью человека.
В Воронеже на перроне вокзала часовыми стояли все братья и сестры Сергея Алексеевича, боясь пропустить его в шумной толпе пассажиров и встречающих.
Первой увидела его маленькая Люба. Она бросилась с криком навстречу, ухватилась за его руку и не выпускала уже ее до дому.
Это были самые счастливые святки в жизни Сергея Алексеевича и всей семьи Давыдовых. В разгар веселья, танцев, гаданий, упоительных встреч с ряжеными пришла телеграмма из Москвы. Жуковский лаконично сообщал ученику, что ходатайство об оставлении его при университете утверждено Советом университета и министром народного просвещения с назначением министерской стипендии в 50 рублей ежемесячно.