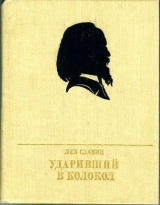
Текст книги "Ударивший в колокол. Повесть об Александре Герцене"
Автор книги: Лев Славин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц)
Никакого сомнения не было, что большинство из них сильно выпивши.
Они что-то выкрикивали. Герцен прислушался:
– Да здравствует Луи-Наполеон!
Ненависть и отвращение охватили Герцена, когда он услышал эти крики, прославляющие того, кого он называл не иначе как «пошляк», «подлец». И он, забыв о благоразумном назидании, которое он только что себе преподал, высунулся из открытого окна и крикнул что было сил, чтобы перекричать топот этой зловещей команды:
– Да здравствует республика!
Услышав этот возглас, национальные гвардейцы погрозили Герцену на ходу кулаком. А офицер, такой же неуклюжий лавочник в мундире, длинно и гнусно выругал Герцена да еще выхватил шпагу и угрожающе замахал ею, – мол, такого, как ты, заколоть бы, да на твое счастье некогда, идем кончать бунтовщиков. И Герцен подумал, что сейчас его могли бы пристрелить или вздернуть на фонарь в общем ни за что, из-за одного вкуса к насилию, которым сейчас заражены даже обычные мирные люди.
Герцен засел дома. Он перестал выходить на улицу. Вовсе не из страха получить шальную пулю. Нет, другое держало его взаперти: он не мог смотреть на то, как гибнет революция.
Начало ее он воспринял как счастье. Да, это ему очень повезло, считал он, – выехать из страны рабства и тюрем и попасть в мир побеждающей свободы. Поначалу он был уверен, что перед ним во Франции разворачивается социальная революция.
Все это рухнуло. Нет, это не битва за социализм. Герцен бесконечно ходил по комнате из угла в угол, ворочая в голове, осмысливая события, гремевшие за стенами его дома. Да, это крах: буржуазная демократия не хочет социализма. Однако ныть в кругу домашних о гибели своих надежд – это не в характере Герцена. Ему хотелось кричать об этом на весь мир. Он писал о падении революции не только московским друзьям, но и Прудону: «Одно и то же во всей Европе, революционеры предали революцию… они не из того материала, из которого делаются победители».
Прислушиваясь к грохоту уличных боев, Герцен сжимал кулаки в ярости бессилия. Понимал ли он, что истинная революционность начинает зреть в другом классе – в пролетариате? Но был слишком слаб этот революционный накал, чтоб заявить о себе с нужной силой. Герцен не увидел того, что еще трудно было увидеть. Но если не было у него вполне отчетливого понимания, почему все, в общем, осталось во Франции на старых местах, то все же он догадывался, что только один класс в обществе стремился к социальному переустройству: рабочие (по обычной терминологии Герцена – работники). Но их, первых, слишком мало, во-вторых, они не организованы и, в-третьих, преданы своим руководителям.
В сотый раз, шагая по комнате, он говорил себе, что болтливые адвокаты из Временного правительства изменили революции и этим открыли путь «людям биржи и интриги». Герцен сделался затворником. Уговоры Натали не действовали на него.
– Революция все больше отчуждается от меня, – сказал он ей. – Она ушла в руки негодяев. А моя революция превратилась в историю, притом не более близкую, чем заговор Гракхов или безумная попытка Бабефа.
Он завидовал женщинам: они плакали. Он не плакал и жалел об этом: слезы облегчили бы. «В замену слез я хочу писать, – обмолвился он, – не для того, чтоб описывать, объяснять кровавые события, а просто чтоб говорить об них, дать волю речи, слезам, мысли, желчи…»
Да, сейчас стоит тишина. Хочется сказать: гробовая. Но в ушах все еще грохот, вопли, пальба. Выглянешь в окно – безлюдье, пустыня. Но в глазах – видения, окровавленные люди, трупы, трупы…
«Я не умер, – продолжал он писать, кровоточа чернилами, – но я состарился…»
А между тем, хоть и не отмыта кровь с парижских мостовых, буржуазия с лихорадочной поспешностью принялась возвращать Парижу столичный глянец. Бульвары полны, кафе открыты, заиграли театры. Пронесся слух, что всегда поспевающий Александр Дюма-отец с помощью драмодела Огюста Маке уже успел изобразить на сцене Исторического театра июньские события под видом заговора Катилины в античном Риме. Пьеса так и называлась «Катилина».
Когда на подмостках появился Цицерон в белоснежной тунике с красной оторочкой, раздались аплодисменты: публика легко угадала в нем по напыщенности речей Ламартина так же, как в Каталине – по фанфаронству – Ледрю-Роллена. Герцен кипел от негодования. Но покуда сдерживался. Но когда в одном из следующих действий на сцене открылась площадь, на которой театрально корчились статисты, изображавшие смертельно раненных, Герцен «бросился вон в каком-то истерическом припадке, проклиная бешено аплодировавших мещан, – писал он, вновь переселяясь воображением в те кровавые дни. – Давно ли за стенами этого балагана на улицах, ведущих к нему, мы видели то же самое, и трупы были не картонные, и кровь струилась не из воды с сандалом, а из живых молодых сил?..»
Узнав об избрании в президенты Луи-Наполеона, Герцен в совершенном бешенстве написал московским друзьям:
«Теперь мы поджидаем 10 декабря – встречать достойного презуса уродливой республики, косого кретина Луи-Бонапарта».
Его разочарование было так велико, что он преисполнился отвращением к политической деятельности. Мрачная задумчивость стала пугать Натали. Она подходила к нему, клала руку ему на лоб:
– Стряхни с себя это. Ты стал не похож на себя. Ты весь в каких-то потусторонних мечтах…
– Мечтах? Да! Мечтаю о том, как бы удалиться из этого очумелого издыхающего Парижа хотя бы в Соколово, не получать никаких газет, в субботу ждать друзей, благословлять судьбу, что мы снова среди друзей, а не между иностранцев, которых называют людьми, окружить себя книгами, – ну, и что же дальше? – умереть без желаний жизни и без отвращения от смерти.
– Александр, ты ли это?!
– Поверь, мой друг, я это говорю не с досады и не с брызгу! Ночь! Темная ночь кругом. Солдаты запрудили все Елисейские поля. Кавеньяк опять запретил газету Прудона. Народ погрузился в летаргический сон. Куда взглянешь, дряхлое бессилие Франции, страны мещанства утратившей все юное, поэтическое, все честное, наконец!
Он оживился, встал, говорил горячо, почти бегая по комнате.
Натали, казалось, была утешена.
«Ничего, пусть ярится, – думала она, – только бы не эта ужасная душевная апатия».
Понимала ли Натали его до конца? Так сказать, во всем его объеме? Нет. Тут же скажем: как и он ее.
Разговор этот имел для Герцена благодетельное влияние, словно этой исповедью он выплеснул из себя свою мрачную неподвижность. Он восстал против собственной пассивности. Он заявил, что объявляет войну тем, кого он называл «неполными революционерами».
«У меня еще слишком много крови в жилах, – писал он к Джузеппе Маццини, – и энергии в сердце, чтобы мне нравилась роль пассивного зрителя. С 13-ти лет и до 38-ми я служил одной и той же идее, имел одно только знамя: война… против всех видов рабства во имя безусловной независимости личности».
В начале ноября Герцены переехали на новую квартиру – бульвар Мадлен на стыке с бульваром де Капюсин. Квартира хорошо меблирована. Правда, мрачновата, соседние флигели затеняют свет, но они же смягчают уличный шум, никогда не смолкающий на Больших Бульварах.
Домашний быт Герценов приобретал все более устойчивый характер. Тихая, чуть меланхоличная Натали никогда не блистала хозяйственными наклонностями. Она не ощущала потребности в порядке. Ее туалетный стол представлял из себя диковинное смешение пудрениц, французских романов, флаконов с духами. Впрочем, иногда на нее нападал уборочный стих и она мелькала по квартире в изящном фартучке с метелкой в руках – зрелище, неизменно умилявшее Герцена.
Вот он-то при всей безудержности своей натуры был представителем порядка в семье. Он не выносил безалаберности, хаотичности ни на своем рабочем столе, ни в своих сношениях с людьми, ни в своем мышлении.
В парижском доме Герценов скоро стало по вечерам так же шумно и многолюдно, как когда-то в их московском доме на Сивцевом Вражке или как по воскресеньям в подмосковном Соколове. Но находила ли здесь такое же удовлетворение тяга Герцена к широкому общению с людьми? Люди-то не те… «Это были, – вспоминает Герцен в мемуарах, – вновь приехавшие эмигранты, люди добрые и несчастные, но близок я был только с одним человеком… и зачем я был близок с ним!..»
Этот «один» был Георг Гервег, вскоре принесший Герцену самые мучительные страдания, испытанные им в жизни.
Герцен подыскал учителя для своих детей – Саши и Таты. Это был Жан Батист Боке, преподаватель по профессии, революционер по убеждениям. Как многие люди, приблизившиеся к Герцену, он влюбился в него, сделался его горячим поклонником. Да и Герцен жаловал его, хотя посмеивался добродушно над его умеренной революционностью, придумал для него разные клички – «Иван Батистович», «Иван Сукно», «Бокеша», «Анна Батистовна».
Во время революционных событий сорок восьмого года Герцен однажды встретил Боке с торжественно протянутыми руками:
– Примите мои поздравления! О, не притворяйтесь скромником, это вам не к лицу. Ведь вы избраны президентом двенадцатого избирательного округа.
Боке постарался скрыть самодовольную улыбку гримасой пренебрежения:
– О, это ужасный округ! Сен-Жак, Сен-Марсо – самые трудные кварталы в Париже.
– Ладно, ладно, вы на всех парусах плывете в министры. Или…
Герцен состроил озабоченную мину.
– Или? – заинтересовался Боке.
– Или на каторгу.
– Вот это вернее.
– Бросьте, Бокеша, вы уже почти начальство. Знаете что, на всякий случай выдайте мне справку, что я уже расстрелян.
Боке расхохотался самым добродушным образом. Когда он ушел, Герцен сказал задумчиво:
– Хороший человек. Чистый. Но…
– Договаривай, я заинтригована, – сказала Натали. – Наши дети обожают его.
– Но сентиментален и свиреп. То готов расплакаться, как девочка, то хладнокровно наделает зверства. Это французская черта.
– Только ли французская…
Истина по наследству
Это очень глупо, но пора с глупостью считаться, как с громадной силой.
Герцен
Весной сорок девятого года в Париже разразилась холера. Всякий, кто мог, бежал из города. Небо было застлано тучами, тем не менее стояла удушливая жара. Выехали и Герцены. Луиза Ивановна нашла подходящий домик в деревне Виль д'Аврэ.
С утра Герцен взял себе за правило гулять. Во время прогулок он не переставал работать. В то утро, как и во все предыдущие, мысль его вращалась вокруг произведения, для которого он уже и название подыскал: «С того берега». Он избавлялся от горестных ощущений, изливая в него разочарование революционера. Тот берег – это берег революции. Книга складывалась в его воображении, а отчасти уже и на бумаге как одно из наиболее страстных его сочинений. Отнюдь не проповедническое. Далекое от теорий, от пропаганды идей. Это беспощадный приговор «паяцам свободы», «политическим шалунам», либеральствующим краснобаям.
Герцен задумал посвятить эту книгу сыну, Саше. Надо найти такие слова, чтобы посвящение вошло в сознание сына непреоборимо и таким же оставалось во всю его жизнь, как завещание.
Слова то пенились, то курчавились, то отливали сталью, уходили и вновь рождались. Герцен шагал по роще, окружавшей деревушку, выбирая нехоженые тропы. Места эти были ему милы своей неприхотливостью. Природа невыделанная, как в парках Сен-Клу и Трианона, неухоженная, и в ее естественности и простоте было что-то хватающее за душу своим сходством с русскими полями и перелесками.
«Не ищи решений в этой книге… Знай истину, как я ее знаю…»
Герцен подумал, что, в сущности, истина – это некое наследство, которое он передает сыну.
«…Мы не строим, мы ломаем…»
«Вот слова, – подумал он, – которые Бакунин встретил бы с восторгом».
Но это не испугало его.
«Не останься на старом берегу… – продолжали возникать в нем слова посвящения. – …Современный человек ставит только мост, будущий пройдет по нему…»
Он думал не о себе. Он не доживет до этого моста.
Но сын… Не может быть, чтобы новое поколение не увидело новую жизнь. Где? Конечно, в России! Россия и свобода станут равнозначащими понятиями.
«…Иди в свое время проповедовать ее к нам домой; там любили когда-то мой язык и, может, вспомнят меня!..»
Он вернулся к себе. В кабинете гость: Сазонов. По его значительному, совершенно трезвому и более чем всегда чопорному виду Герцен понял, что он приехал с чем-то чрезвычайным.
Но прежде, чем начать разговор, даже прежде, чем поздороваться, Герцен с возгласом: «Подожди!» – присел к столу и принялся торопливо записывать мысль, показавшуюся ему необыкновенно важной, – не закрепишь ее сейчас – она поблекнет, а то и вовсе испарится:
«Где не погибло слово, там и дело еще не погибло. За эту открытую борьбу, за эту речь, за эту гласность – я остаюсь здесь; за нее я отдаю все – я вас отдаю за нее, часть своего достоянья… и остаюсь с народом, в жизни которого я глубоко сочувствую одному горькому плачу пролетария и его отчаянному мужеству… Наша мысль не может больше выносить цепей узкой цензуры; я первый начинаю печать в Европе… я здесь полезнее – я здесь бесцензурная речь ваша, ваш свободный орган, ваш представитель…»
Он волновался, записывая это. Он считал, что к нему пришло озарение. Эта первая мысль о создании Вольной русской типографии осуществилась через некоторое время. Сбоку этой записи Герцен сделал пометку: «Развить» – и только после этого повернулся к Сазонову.
Тот заговорил не сразу, небольшая пауза для создания торжественного момента. Потом:
– Завтра в Париже грандиозная демонстрация. Ты, конечно, с нами. Я приехал за тобой.
– Что за демонстрация? Цель? Состав?
– Я вижу, Александр, ты начисто оторвался от современности в этом захолустье Все началось с этой возмутительной итальянской авантюры Луи-Бонапарта. Его войска атаковали Рим в защиту Ватикана. Это плевок в лицо конституции!
Это-то я знаю.
– Но до тебя еще не дошло, что в законодательном собрании была по этому поводу буря. Оппозиция – Гора – увидела, что парламентским путем не сладишь с монархистами, в палате их большинство. Тогда решили выйти завтра на улицу, призвать народ в защиту конституции.
– С оружием? Тогда это катастрофа.
– Были споры. Решили: без оружия.
– Тогда это фарс.
– Да, мы будем безоружными. А если нас встретят пулями, что ж…
Сазонов стиснул кулак и размашисто воздел руку. «Что за фанфаронство», – подумал Герцен, с грустью глядя на старого друга.
– Все же, – сказал он, – я не пойму, за что вы идете на улицу. Какие у вас призывы к народу?
– Как какие? Все те же: свобода, мир, братство народов.
– Кто там будет, наконец?
– Мы, эмигранты, пойдем особой колонной.
– У меня-то что общего с этими людьми? К чему они стремятся, чего хотят?
Сазонов даже задохнулся от негодования. Он встал, выпрямился во весь свой маленький рост.
– Ну, Александр, – сказал он, – мне остается сказать тебе то, что Ноздрев сказал своему зятю: иди бабиться с женой.
Герцен подумал, что и впрямь в Сазонове в иные минуты есть что-то от Ноздрева.
– Иди, – продолжал Сазонов, яростно выбрасывая слова, – иди к жениной юбке. Позиция хоть и не очень почетная, но вполне покойная, а главное, безопасная? А мы пойдем с красными знаменами на площадь.
Герцен неожиданно сказал:
– Изволь, пойду. Движение нелепое. Надуманное! Народ останется в стороне. Но я пойду. Глупо. Но мало ли каких глупостей я не делал в жизни.
Сазонов бросился обнимать Герцена.
В тот же день Герцен поехал с Сазоновым в Париж и на следующий день в колонне эмигрантов пошел на демонстрацию. Осуждал себя, но пошел. Ругал за шаткость, за то, что убеждения его – одно, а поступок – другое. Сознавал, что делает это, чтобы его не обвинили в трусости. Клял себя за ложный стыд, за беспринципную уступку дружбе. Ругал себя за то, что не может подняться выше этого, за слабость человеческую. Так, осуждая себя, пошел.
Конечно, рисковал жизнью, когда на демонстрацию бросились драгуны генерала Шангарнье и били демонстрантов палашами. Герцен едва вывернулся из-под лошади драгуна. Там было много эмигрантов: итальянцев, австрийцев, поляков. Совсем рядом с Герценом – немцы, Герман Мюллер-Стрюбинг, Густав Струве, Карл Петер Гейнцен, Карл Маркс… Позвольте: Маркс? Вот это, право, удивительно потому, что он, как и Герцен, осуждал эту демонстрацию. Ведь писал он о ней:
«Если Гора (левая оппозиция) хотела победить в парламенте, ей не следовало звать к оружию. Если она в парламенте звала к оружию, ей не следовало вести себя на улице по-парламентски. Если она серьезно думала о мирной демонстрации, было глупо не предвидеть, что демонстрация будет встречена по-военному. Если она думала о действительной борьбе, было странно складывать оружие, необходимое для борьбы… Оглушительная увертюра, возвещающая борьбу, превращается в робкое ворчание, лишь только дело доходит до самой борьбы; актеры перестают принимать себя всерьез, и действие замирает, спадает, как надутый воздухом пузырь, который проткнули иголкой».
В таких энергичных выражениях осуждал Маркс эту демонстрацию. Осуждал, но пошел на нее. Не из тех ли мужских соображений (пусть не думают, что я трус!), что и Герцен, в письме к московским друзьям назвавший эту демонстрацию: «Глупый день 13 июня…»
Домой Герцен не вернулся. Он понимал, что немедленно пойдут аресты. Действительно, Париж был объявлен на осадном положении. Полиция вторглась в дом Герцена в Виль д'Аврэ, произвела тщательный обыск. Хорошо, что мать Герцена Луиза Ивановна и их друг Мария Каспаровна Рейхель догадались спрятать бумаги Герцена себе под платье, благо юбки тогда носили широкие, как колокол.
А Герцен в это время катил по дороге в Женеву с паспортом на имя австрийского подданного Самюэля Петри.
Маццини. Прудон
Да ведь вся силенка-то моя хилая на том основана, что я всегда говорю правду.
Герцен
Только приехав в Женеву, Герцен почувствовал, как он устал. Да, он устал от Парижа, от его холеры, от его сутолоки, от преследований полиции французской и русской, ибо в действиях парижской префектуры он явственно ощущал тяжесть длинной руки Николая I.
Правда, касания ее поначалу были скрыты от Герцена. Он и не подозревал, какая оживленная переписка с? его образе жизни ведется между всероссийской охранкой, сиречь III отделением, русским поверенным в делах в Париже графом Киселевым, префектом парижской полиции мсье Ребильо и русским генеральным консулом, в фамилии которого – Шпис, – стоит только заменить последнюю букву на «к», как его «дипломатическая» деятельность приобретает полную ясность.
Интерес к Герцену со стороны этой компании резко возрос после письма его двоюродного брата Львова-Львицкого из Парижа в Москву к своему доброму знакомому Поленову.
В крайнем своем простодушии Сергей Львович Львов-Львицкий не догадывался, что все – именно все, а не на выборку – письма из-за границы вскрываются в черных кабинетах московского и петербургского почтамтов.
И вот среди сведений о причудах парижской моды и светских сплетен Сергей Львович возьми да и ляпни, что Герцен «прикатил сюда, вероятно привлеченный революциею; гуляет и кутит с демократами».
Эти ценные (для полиции!) сведения быстро покатились вверх по бюрократической лестнице.
Тотчас от шефа жандармов и начальника III отделения графа Орлова летит секретный запрос в министерство иностранных дел о поведении Герцена в Париже. В свою очередь министр иностранных дел Нессельроде шлет русскому поверенному в делах Киселеву такой же запрос.
Киселев незамедлительно договаривается с префектом парижской полиции Ребильо о способствовании в деле «открытия или преследования тех, кто злоумышляет против спокойствия России», и в частности о Герцене. Вскоре по просьбе Шписа Ребильо устанавливает наблюдение за Герценом.
И уже через несколько дней скорый в делах политического розыска Шпис представляет Киселеву доклад о «надворном советнике Герцене». Герцен там трактован как революционер и заговорщик, «приютивший… Бакунина, поддерживающий интимные отношения с самыми передовыми демократами…». Тут же Шпис предупредительно описывал внешность Герцена – для облегчения его ареста: «…среднего роста… носит бороду, волосы довольно длинные и прилизанные…»
Не зевал и префект парижской полиции Ребильо. Он услужливо сообщает в русское посольство Шпису о «Европейском революционном комитете», цель которого «основать всеобщую республику на развалинах монархий… Одним из главных вождей этой анархической ложи является русский – Герцен…».
Вся эта сточная вода политической слежки стекается в Питер к графу Орлову.
Он же счел необходимым довести это до сведения императора, поскольку его величество сам изволил разрешить Герцену поездку за границу. Правда, это было сделано по ходатайству императрицы, внявшей мольбам Натали.
Выслушав почтительное донесение Орлова о том, что надворный советник Александр Герцен развивает в Париже возмутительную антиправительственную агитацию заодно с известными международными буянами, Николай хмуро посмотрел на императрицу и молвил сквозь сжатые зубы:
– Вот ваш протеже.
Она жеманно поджала свои тонкие немецкие губы и приняла вид обиженной куклы.
Брат Николая, великий князь Михаил Павлович, собирался сказать не без некоторого злорадства: «Женская сентиментальность неуместна на монаршем престоле». Но не решился, а только энергично откашлялся голосом, охрипшим от командования на войсковых парадах.
Решение царя было коротко: приказать Герцену вернуться в Россию, а там видно будет.
Легко сказать: вернуться. Так и станет дожидаться Герцен монаршего приглашения! Он был уверен, что префект парижской полиции, чтобы потрафить своим русским коллегам, не остановится перед тем, чтобы арестовать его и передать в руки русских жандармов. Он раздобыл паспорт на чужое имя и спешно укатил в Швейцарию. Ищи ветра в горах!
Герцен писал жене, что здесь, в Швейцарии, «все так чисто, так светло, озеро синее, небо синее, горы белые, женщины на улицах отворачиваются, мужчины обедают в час… а в 12 все спят… Ни галунов, ни мундиров… ни всего оскорбительного, петербургского – что там дома в Париже».
Он много ходил но горам. Ему полюбилось забираться в снежные ущелья. Он это делал машинально, занятый мыслями. Но потом заметил, что в его бессознательной тяге к снегу есть какая-то закономерность. «Меня, очевидно, просто тянет к чему-то похожему на русскую зиму», – решил он, улыбаясь. Но небо здесь, над Женевой, так плакатно-сине, воздух так химически прозрачен, да и самый снег податливый, ватный, словно не настоящий, не русский…
Президент Женевского кантона Джеймс Фази встретил беглеца из Парижа радушно. «Лучший друг не мог бы искреннее и душевнее нас принять», – пишет Герцен жене в Париж. Его пленила демократичность президента и теплота приема. Они сошлись довольно близко.
Однако со временем Герцен стал примечать в Фази иные черты. Тут, конечно, сказалась особенность Герцена: его доброжелательность, его сердечная распахнутость. Понравившемуся ему человеку он отдавал себя полностью. На этом пути Герцену пришлось пережить несколько горьких разочарований. Они не излечили его от доверчивости, временами чисто детской. Его первое ощущение от нового человека почти всегда было добрым. Дальнейшее решало поведение человека. Иногда он разочаровывал так глубоко, что Герцен давал волю своему неудержимому темпераменту. Так было и с Фази. Тургенев пишет о Герцене: «…я знал, что при всем его блестящем и проницательном уме понимание людей, особенно на первых порах, у него было слабое».
Герцен начал прозревать в президенте Женевского кантона черты упоения властью, то, что он определил как «деспотически-республиканские замашки».
Внешне дружелюбный Фази заверил Герцена, что примет его в подданство Женевского кантона. Но все тянул, да так и не принял. И только через два года Герцен стал швейцарским гражданином совсем в другом кантоне, в Фрибургском, обойдясь без помощи Фази.
Не только люди в Швейцарии, но и самая страна эта становилась для Герцена невыносимой. Ему, этому вечному изгнаннику, стало и здесь невмочь. «Жизнь здесь монотонна, – жаловался он в письмах, – ограниченна, в ней много германизма, педантства, кальвинизма».
Он начал ощущать щемящую скуку. Ему не хватало людей, притом равных ему по интересам и образованности. «Джеймс Фази все-таки не то, слишком политичен. Герман Струве – узкий догматик, со своим постным лицом и длинными прядями волос из-под шапки, похожий на захолустного попика». Другой немецкий эмигрант, Карл-Петер Гейнцен, этот «немецкий Собакевич», по выражению Герцена, и «святой грубиян», по выражению Маркса, к тому же требовавший для успеха революции два миллиона голов, вызывал в Герцене отвращение.
Приехал к Герцену сын Саша, хороший мальчик, но ведь мальчик. «Не знаю, – записал Герцен, – желал ли бы я навсегда остаться в Швейцарии; нашему брату, жителю долин и лугов, горы через некоторое время мешают: они слишком громадны, близки, теснят, ограничивают…»
Он взмолился:
– Поезжайте же, наконец, – пишет он жене, – а то ждать скучно. Я совершенно отвык жить в таком isolement[14]14
…isolement – одиночество (фр.).
[Закрыть]…
И вот в начале июля радостная встреча: приезжает Натали. Не одна, ее сопровождает Гервег.
Его, Георга Гервега, поэта и неудачливого баденского революционера, встречает холодно и неприязненно и эмигрантская среда, и женевская демократическая общественность. Ему не подавали руки. Оборачивались при встрече. Слишком памятно было поведение Гервега во время похода немецкого легиона в помощь баденским повстанцам. И не только в бегстве с поля боя упрекали его, но и в несколько легкомысленном обращении с деньгами, отпущенными французским правительством на организацию баденского похода.
Немало труда положил Герцен для того, чтобы если не совсем рассеять, то хотя бы немного смягчить это отношение к своему другу, каким тогда был ему Гервег. «Я его спас от остракизма, я защищал его перед всеми, перед Фази и Струве»,– вспоминал впоследствии Герцен.
В то же время именно здесь, посреди преувеличенно горячих уверений Гервега в дружбе, у Герцена впервые появляются смутные подозрения в его вероломстве.
Между тем дела, и среди них немаловажное – финансовая тяжба с царским правительством, требовали присутствия Герцена в Париже.
Он покидает Женеву. Делает короткую остановку в Цюрихе. Несмотря на приятные дни в Женеве, веселые прогулки в горах вместе с Натали и Гервегом, тяжелые предчувствия не покидают Герцена: он не хочет углубляться в них. Но мрачность, несвойственная Герцену, oт этого не проходит. Все выглядит в его глазах плохо. Цюрих – тоже. Натали пишет Гервегу в Женеву: «Цюрих не будет нашей резиденцией, Александр испытывает к нему отвращение».
Именно в этом мрачном настроении Герцен создает свое апокалиптическое произведение «Эпилог 1849» – он включает его в книгу «С того берега». Он клеймит в «Эпилоге» «год крови и безумия», «торжествующей пошлости, зверства, тупоумия…». Так он приравнивает к тягчайшим бедам человечества глупость.
Приехав в Париж, Герцены поселились в самом центре, в отеле Мирабо на улице Мира, часто бывали в театрах, на балах-маскарадах.
Однажды, выходя из гостиницы, Герцен заметил, что за ним следует неотступно некая личность, держась, впрочем, на приличном расстоянии, но так, чтобы не выпускать его из поля зрения. Герцен понял, что за ним снова учинена слежка. Полиция еще не приблизилась к нему вплотную, но уже держала его на невидимой привязи.
– Не ошибаетесь ли вы? – усомнился Боке, учитель его детей. – Вряд ли такие вещи у нас возможны. Не говорит ли в вас русская подозрительность? Ведь у нас все-таки республика.
Герцен посмотрел на него с сожалением.
– Наивнейшая вы душа, дорогой Бокеша. Какое бы правительство ни захватило власть в руки, полиция у него уже готова, часть населения будет помогать ему с фанатизмом и увлечением.
В эти дни в Париж тайно прибыл известный итальянский революционер Джузеппе Маццини. Не только в Италии, но и во Франции, и в Англии у него были приверженцы и поклонники в разных кругах общества, и это дало ему возможность остановиться в одном из аристократических особняков Парижа. Отличная конспирация!
Что-то скорбное было в аскетическом лице Маццини. Он дружески приветствовал Герцена. Они любили друг друга, несмотря на политическое разномыслие. Каждый уважал в другом революционный дух и чистоту помыслов. Преданность единомышленников Маццини своему вождю была так велика, что они, как свидетельствует Герцен, шли на казнь с возгласом: «Да здравствует Италия! Да здравствует Маццини!»
Одно время Герцен считал Маццини стихийным социалистом. Это одно из любопытных заблуждений Герцена. Он говорил, что Маццини был социалистом прежде социализма, но сделался его врагом, когда социализм стал становиться новой революционной силой. Политическое честолюбие Маццини было непомерно: освобожденная Италия по его замыслу только начало, а в дальнейшем посредством Италии будет освобождено человечество. Ex Italiae – lux![15]15
Из Италии – свет! (лат.).
[Закрыть]
Полемизируя с социалистами, Маццини назвал Прудона в одной брошюрке «демоном». Прудон отомстил ему тем, что назвал его в своей брошюрке «архангелом».
Но заботы о человечестве – это в дальнейшем. А сейчас Маццини, как и Гарибальди, борется за свободу Италии и за сплочение ее в единое государство. Это были передовые помыслы, и Герцен был всецело за них. Он не заглядывал за этот предел сознательно, ибо дальше началось бы расхождение. А Герцен не хотел становиться в оппозицию ни к Маццини, ни к Гарибальди. Но ведь и между ними были противоречия, хотя Гарибальди называл Маццини «maestro», то есть «учитель». При этом он говорил:
– Я готов служить папе, королю, черту, лишь бы он делал наше дело.
Маццини возражал:
– Я не верю, чтобы от князя, короля или папы сегодня или когда бы то ни было могло прийти спасение Италии.
Этот профессиональный бунтарь не был прагматиком. Его чувствам и даже действиям была свойственна некоторая приподнятость. Энгельс говорил о «высокомерных декларациях» Маццини и его страсти к «вечным заговорам».
Когда-то старец Филипп Буонарроти, знаменитый друг знаменитого Гракха Бабефа, погибшего на плахе в 1797 году, благословил Маццини на революционную деятельность, как бы символизируя этим вечную преемственность революционного духа. Но впоследствии разочаровался в нем за внеклассовые, а попросту буржуазные и даже аристократические связи.
Маццини оставался верен себе. Недаром его девиз был: «Оrа et semper» – «Теперь и всегда». 1849 год был его пик. Европейские правительства трепетали перед прославленным заговорщиком. Потом пошел спад, наступил закат. Абстрактные заговоры и заговорчики лопались один за другим.
Сейчас Маццини выступил с новой идеей. Он предложил Герцену присоединиться к ней. Маццини хотел вовлечь его в затеянный им эмигрантский «Европейский центральный комитет». Его программа была выдержана в возвышенном стиле мацциниевского красноречия: освобождение угнетенных национальностей и создание союза европейских народов.








