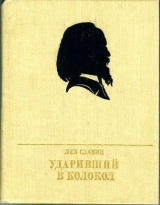
Текст книги "Ударивший в колокол. Повесть об Александре Герцене"
Автор книги: Лев Славин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 26 страниц)
Недоразумения или трагедия?
Герцен меня убедил, что память Натали не оскорблена нашим союзом.
Тучкова-Огарева
Герцен и Маркс не были знакомы, но им случилось несколько раз находиться в близком соседстве. Например, летом сорок девятого года на манифестации в Париже или зимой пятьдесят пятого года на митинге в Лондоне. Они не приближались друг к другу. При взгляде на них бросались в глаза и некоторые сходные черты: оба широкоплечие, крепкие, устойчивые. И еще мнилось, что за Герценом тянулись бесконечные вереницы крестьян в лаптях, да избенки с соломенными крышами, да съезжие, где слышался свист плетей, которыми пороли крепостных. А за Марксом мерещились закопченные лица сталелитейщиков и шахтеров, дымные султаны над трубами Рура, пикеты забастовщиков…
Где же пролегал водораздел? И как велик был он? Да, Герцен – социалист. Но в России еще не было класса, который уже сложился в Европе, – пролетариата. А было многомиллионное крестьянство с его общиной, которой и увлекался Герцен, что и дало Ленину основание сказать, что в социализме Герцена не было ни грана социализма.
Мучительный образ русского мужика застлал Герцену, хоть он и жил на Западе, образ европейского пролетариата, и он не ощущал его исторического значения в развитии общества. Марксу же была чужда «крестьянская» направленность Герцена. Впоследствии социальная философия Герцена стала меняться: он приближался к признанию роли рабочего класса. Первые признаки этого появились в «Колоколе».
В статье «Порядок торжествует!» Герцен сочувственно приводит слова престарелого Бланки:
«…Вы не знаете, что бродит и зреет в парижских массах… парижский работник выручит Францию, Республику, всю Европу…»
По-видимому, что-то прояснилось и в отношении Маркса к Герцену: переиздавая I том «Капитала», он исключил оттуда критические замечания о Герцене. Надо сказать, что и Герцен воздержался от опубликования главы «Былого и дум», содержавшей выпады против Маркса. Не свидетельствует ли это о некотором – увы, запоздалом! пересмотре, а может быть, и о возникающем интересе или даже тяготении друг к другу двух блистательных умов?
– Большая наивность с твоей стороны, Натали, упрекать меня в нелюбви к немцам, – сказал Герцен нехотя.
Разговор об этом не вдохновлял его. Это вклинивало в его сознание образ немца, которого он ненавидел, – Гервега. И может быть, эту нестихающую ненависть он подсознательно разливал и на тех немецких эмигрантов, на которых он обрушивал шквал своей беспощадной иронии:
«…Немцы, лишенные всякого такта, фамильярные и подобострастные, слишком вычурные и слишком простые сентиментальные без причины и грубые без вызова…»
– Ты забываешь, – сказал он глухо, – что у меня есть близкие друзья-немцы Фогты… И наконец, моя мать – немка…
– И все-таки ты их не любишь, – упрямо повторила Наталья Алексеевна (душевная чуткость не значилась в числе ее добродетелей). Вся твоя глава «Немцы в эмиграции» кричит об этом…
Глава, действительно, не из мягких. Но разве она может сравниться с сокрушительной характеристикой, которую дает своим соотечественникам Энгельс!
«Вина за эти гнусности, – писал Энгельс в статье „Внешняя политика Германии“, – совершенные с помощью Германии в других странах, падает не только на немецкие правительства, но в значительной степени и на немецкий народ. Не будь его ослепления, его рабского духа, его готовности играть роль ландскнехтов и „благодушных палачей“, служить орудием господ „божьей милостью“, – не будь этого, слово „немец“ не произносилось бы за границей с такой ненавистью, с таким проклятием и презрением…»
Право, здесь можно усмотреть даже некоторое сходство с огнедышащим стилем Герцена в «Былом и думах», по которым, кстати сказать, Маркс изучал русский язык.
Конечно, нельзя говорить о расовом отвращении этих двух великих человеколюбцев к целому народу. Да и вообще, способно ли вместить сердце ненависть к целому народу? Нет сомнения, памфлетная характеристика немцев и у Герцена, и у Маркса и Энгельса относится только к отдельным людям. Питать же нелюбовь ко всему народу – это свойство мещан, которые тем самым расписываются в собственной неполноценности.
И, конечно, Наталья Алексеевна была не права, обвиняя Герцена в неприязни к немцам вообще. Она и сама была не свободна от антипатии к некоторым людям, к дамам из семьи Фогтов например, о которых она довольно презрительно отзывается в своих воспоминаниях: «…немки, деятельные в узкой сфере обыденной жизни и только…» Еще язвительнее выражается она о Готфриде Кинкеле, который удостоился таких же уничтожающих характеристик от Герцена и Маркса:
«Он был так проникнут своим величием, – пишет о нем в тех же воспоминаниях Наталья Алексеевна, – что не мог обратиться к жене за куском сахара во время питья чая без необыкновенной торжественности в голосе, что нам, русским, казалось очень смешно».
Наталью Алексеевну не покидало ощущение, что история ее жизни, связанной с именами Огарева и Герцена, должна быть широко распахнута для русского общества. Это подстегивалось сознанием, что существует «Былое и думы», разворачивающее картины не только событий исторических, но – и притом с беспощадной откровенностью – и личной драмы. Правда, этих страниц Герцен не публикует при жизни. Но Наталья Алексеевна понимала, что настанет час и все, написанное великим писателем, увидит свет.
Это толкнуло ее к мысли написать и опубликовать свои маленькие «Былое и думы». В них – в отличие от предельной искренности Герцена – нетрудно различить два языка, два способа описания действительности: один – такой, какой эта действительность была на самом деле, и другой – такой, какой Наталье Алексеевне хотелось, чтобы эта действительность была.
Когда Лев Толстой узнал, как Тучкова-Огарева описала его посещение дома Герцена и беседу с ним, он сказал, что «она просто сочинила разговор».
Дочь Герцена, Тата, называла Наталью Алексеевну «странным, негармоничным и несчастным существом».
В этой характеристике, при всей ее краткости, есть полнота необходимая и достаточная. Почему «странная»? Потому что к некоторым ее поступкам нельзя отыскать разумных побуждений. Почему «негармоничная»? Потому что взбалмошность и необъяснимые причуды, метания из истерической доброты в озлобленный эгоизм делали ее поведение неумным и непредвиденным. Почему «несчастная»? Потому что этими качествами своей натуры она портила жизнь не только окружающим, но и свою собственную. Это определение «несчастная» повторяет и сам Герцен, говоря с Огаревым о характере жены:
– Я настоящее зло вижу в несчастном характере Натали…
Тут же он с присущим ему правдолюбием, беспощадным и по отношению к самому себе, не снимает и с себя вину за свое семейное неустройство:
– Зачем я, зная о страшной истории прошлых лет убившей ту Натали, дерзко и необдуманно бросился на увлеченье?.. За это я унижен в своих глазах и страдаю. Верь мне, что это не фразы…
При всем том Наталья Алексеевна прожила долгую жизнь, пережила на полвека и Герцена и Огарева, вернулась в Россию и опубликовала книгу своих воспоминаний, носящих порой характер самооправдания, а то и самолюбования и даже кое-где самовозвеличения. Вряд ли она была справедлива к заведующему Вольной русской типографией Чернецкому, написав о недружелюбном якобы отношении к нему Герцена, тогда как в действительности и он и Огарев относились к нему с величайшей приязнью. Она объясняет уход Мальвиды Мейзенбуг из дома Герцена выходкой ее якобы дурного характера, тогда как тот уход был спровоцирован самой Тучковой из чувства ревности, кстати совершенно зряшной. Явным недружелюбием проникнуты строки о Мери Сетерленд, вопреки той душевности и взаимной любви, какой были связаны друг с другом Огарев и его английская подруга.
В сближении с Герценом, закончившемся их гражданским браком, инициатива принадлежала Наталье Алексеевне. Оставаясь формально женой Огарева, она заносит в свой дневник запись о Герцене:
«…Бесконечное чувство любви к нему захватывает меня все более я более…»
Она поверяет своему дневнику самые интимные чувства. Нигде она так не искренна, как в беседе с самой собой:
«…Побежденный моей страстной любовью, Герцен тоже меня полюбил…»
Брак Герцена и Тучковой-Огаревой не был счастливым. Не в одну ли из тяжких минут разочарования вырвались у Герцена слова, сказанные Огареву:
«…Нам надо отринуть женщин».
Снова это заклинание, которое Герцен преступал столько раз. Как эти слова, вернее – чувство, пронизавшее их, похоже на то, что несколько лет назад он писал в гневе и горечи Маше Рейхель:
«…Вообще я женщин глубоко ненавижу, они звери, да и притом злые: довели эгоизм до бешенства и все скрывают под личиной любви. Зато если выищется исключение – ну, так женщина головой выше мужчины, который даже не зверь, а животное».
Герцену трудно было привыкнуть к зигзагам в настроении Натальи Алексеевны. Между тем достаточно было одного ее доброго слова – и он чувствовал себя растроганным и прощал ей все ее враждебные выходки. Когда она выходила утром с лицом, опухшим от слез, и в ответ на его обеспокоенный взгляд говорила:
– Обо мне не спрашивай, каждая ночь как будто несет свою тяжесть, чтоб прибавить к остальным, – нечего мне жаловаться на судьбу свою, я сама судьба.
Он вздрагивал от этих слов. Она подходила к нему, брала его за руку. Он ощущал, как холодна («Мертвенно холодна», – мелькало у него в голове) ее рука.
– Дай мне твою руку, – говорила она таким мягким, таким сердечным голосом («Непривычно сердечным», – мелькало у него в голове), – крепко, крепко… Крепись, не думай слишком много о нас, с нами ничего не случится…
Даже эта малость вызывала в наболевшей душе его благодарность.
Он отвечал тихо, он глотал слезы, то внутреннее рыдание, которое не в глазах, а в горле он не хотел, чтобы она их заметила. Он сказал только:
– Спасибо тебе…
Возможно, что Герцен видел в Тучковой-Огаревой лишь отблеск той Натали, первой. Но и этого было довольно, чтобы дорожить ею. Наталья Алексеевна догадывалась об этой сложности чувств, и это, при ранимости ее характера, терзало ее. Она не могла заставить себя не думать о Натали. «Я вижу ее в ее длинной мантилии, в белой шляпе, с белым вуалем, – такого лица, такого выражения не было и не будет, – боже, если бы она была жива! Все было бы хорошо, и я была бы не я…» Так ей думалось, и это шло от сердца, от благостной минуты просветления. В такие мгновения она тяготилась собой, ощущала неровности своей натуры и была свободна от недобрых чувств к памяти Натали.
Но гораздо чаще ее охватывала мучительная ревность. И тогда она со злорадным удовольствием повторяла то, что когда-то говорил Тургенев о Натали в отместку за то, что она находила его равнодушным и неглубоким:
– Я читал в каждой черте, ее лица, что у нее все обдуманно.
Вспышки ревности Натальи Алексеевны были обращены не только к памяти Натали, но и к детям Герцена. Через дом пролегла черта, рассекавшая его на два лагеря: в одном – дети Герцена от Натали, в другом – Наталья Алексеевна и Лиза, ее дочь от Герцена. (Двое других ее детей, близнецы Алеша и Леля, умерли в младенческом возрасте.)
Пожалуй, более всех детей Герцен любил Лизу. Пылкостью нрава, обаянием, быстротой реакции, творческим воображением она походила на отца сильнее других детей. Натали энергично отрывала ее от отца.
Семейные бури шатали дом Герцена.
– Она, – жаловался он Огареву, – вчера была в страшном excitement[63]63
…excitement – возбуждение (англ.).
[Закрыть].
Эти excitement иногда сменялись затишьем, когда, изнеможенная очередной истерикой, Наталья Алексеевна запиралась у себя в комнате.
«Дома совершеннейший штиль, – писал Герцен в одну из таких минут Огареву, – но из этого не следует, чтоб на волос было что-нибудь gagnè[64]64
…gagnè – выиграно (фр.).
[Закрыть]».
Нетрудно представить себе, какая напряженная атмосфера таилась за этим предгрозовым штилем.
Впрочем, иногда Наталья Алексеевна спохватывалась и молча выслушивала слова Герцена, где ласка мешалась с горечью:
– Ну, что же ты снова успокоилась и одержала над собой победу? А ведь я думаю, что потом тебе стыдно, – беда в том, что еще потом забудется, что стыдно…
Конечно, нельзя не признать, что одним из могущественных возбудителей, создававших у Натальи Алексеевны неуравновешенность, было ее скользкое положение неофициальной жены Герцена. Она требовала узаконения их отношений и удочерения Лизы, которая продолжала носить фамилию Огарева. Однако Герцен медлил, боясь впечатления, которое это «открытие» произведет на Лизу. Только через много времени, когда Лизе исполнилось уже одиннадцать лет, Герцен открыл ей тайну ее рождения.
Все это омрачало жизнь Герцена. Временами он впадал в несвойственный ему пессимизм и заносил горестные строки в свой дневник, который он прозвал «Книгой Стона»:
«…Мы сложились разрушителями; наше дело было полоть и ломать, отрицать и иронизировать. Мы и делали его. А теперь, после 15–20 ударов, мы видим, что мы ничего не создали, не воспитали…»
Страшное признание! И несправедливое. Дневник Герцена не объемен. Он односторонен. Он, по собственному признанию Герцена, содержит только «боль – беду – тревогу». «Удары» – это семейное. Обе Натали принесли ему горе. «Семья, семейная жизнь, – писал он старинному другу Мальвиде Мейзенбуг, с которой он был предельно откровенен, – были у меня на втором плане – и дважды это отомстилось мне». Признание беспощадное. Признание сильного. А «сознается в вине, – пишет он там же в дневнике, – только сильный». И дальше крик души, отчеканенный со спартанской краткостью: «Скромен только сильный, прощает только сильный… да и смеется сильный, часто его смех – слезы».
Но в увлечении самобичеванием Герцен теряет верный взгляд на самого себя. «Не воспитали…» – говорит он, тогда как вся его яростная публицистика и художественная проза воспитали, переделали, возвысили сознание тысяч русских людей. А ведь именно в этом, а не во внешних знаках отличия состоит истинная, величайшая награда писателя.
Четыре письма
Человек будущего в России – мужик, точно так же как во Франции работник.
Герцен
От горячки эмоций – к трезвости здравого смысла. От чувства – к уму. От социализма веры – к социализму экономики – так прочерчивалась в жизни Герцена восходящая кривая его социальной философии. Медлительно и трудно. Не без зигзагов. Но все вверх и вперед.
За год до конца своего жизненного пути он убеждает сына:
– Когда я вглядываюсь в силу социального движения, в глубь его и в его страстность, я вижу ясно, что настоящая борьба мира доходов и мира труда не за горами – даже в Англии…
Он не хотел слышать возражений сына. Он ополчился на мир доходов. Для наглядности от мировых обобщений он перешел к примерам из окружающего быта, даже из обихода собственной семьи. Он никого не щадил ни своего собеседника, ни других своих детей, ни жены, ни даже друга, которому обычно прощал все его промахи, идейные и бытовые.
– Мы все, – втолковывал он сыну, – вполовину парализованы, вполовину развращены – наследством и рентой. От ренты ты занимался спустя рукава до 1863 года. От ренты – Тата не рисует и не поет. От ренты – Ольга безграмотная. От ренты – Натали ставит вверх дном воспитание Лизы. Пора понять эту простую истину. Если б отец Огарева, а не он сам прокутил бы свое именье, наш Огарев был бы признанный гений и не имел бы эпилепсии…
Пагубная власть денег… Наш замечательный историк Михаил Николаевич Покровский при всем пиетете к имени Герцена не удержался в своем увлечении социологизмом, чтобы не кольнуть Герцена – как бы мимоходом, меж запятых, в коротеньком вводном предложении, – сказав, что Герцен трудом и копейки не заработал в жизни. Не правда ли, более чем странный упрек, вернее – придирка к человеку, вся жизнь которого беспрестанный титанический труд!
Россия далеко с ее многомиллионными угрюмо и таинственно молчащими крестьянскими массами, с ее воображаемым общинным коллективизмом. Европа тут, рядом, вокруг, Герцен мечется по ней, и все резче, все явственнее вырисовывается перед ним новая встающая сила – пролетариат. Попав в промышленную область Италии, в Турин, город, который «так и обдает своей прозой», он замечает в одной из глав «Былого и дум»:
«…Взгляните на его работничье население, на их резкий, как альпийский воздух, вид – и вы увидите, что это кряж людей бодрее флорентийцев, венециан…»
Он пристально вглядывается в рабочее движение в Европе. Своим полемическим темпераментом растерев в прах Каткова, сказавшего «с видом деревенского школьного учителя»: «Время социализма прошло», – Герцен продолжает:
«И это на следующий день после Брюссельского конгресса, на следующий день после женевской забастовки, в двух шагах от немецкого рабочего движения».
И достав свой дневник, свою «Книгу Стона», он заносит в него строки, отдающие уже не стоном, а, напротив, дышащие уверенной надеждой:
«Я думаю, что есть силы у Запада, пробуждающиеся к свету, которые могут оплодотвориться разумом и спасти организм, но им-то и помешает война, религия и даже революция. Силы эти, оставленные на свою злобу, уже подняли голову; это уже не Гарибальди, и не 93 год, и не Июньские дни – работничьи лиги и фенианизм».
Он делает первые шаги навстречу рабочему движению. Его еще не наторевший глаз сливает в одно явление фенианизм, то есть борьбу ирландских националистов, и I Интернационал, созданный Марксом, – «работничьи лиги», по терминологии Герцена, в одном месте или «социальные сходки» – в другом:
– Я больше верю, чем когда-нибудь, в успех именно этих социальных сходок.
Такие чувства, новые для него, вызвал у него Базельский конгресс I Интернационала.
Между тем Огарев неудержимо «бакунизировался». Герцен отнюдь не был приверженцем единомыслия среди своих близких. Наоборот! Еще в молодости он заявил Натали: «Я ненавижу покорность в друзьях». Однако и разногласие имеет свои пределы. Герцен с грустью наблюдал, как старый друг его, который столько лет – да что там! – всю жизнь шел рука об руку с ним, все легче и восторженнее покоряется влиянию Бакунина. Отнюдь не снисходительно взирал Герцен на впадение Огарева в анархическую ересь. В письмах своих – он был тогда вне Швейцарии – сначала мягко, потом все резче Герцен силится образумить Огарева.
Иногда он делает это со слегка насмешливой укоризной:
– Настоящий ты мой Робеспьер – с одной стороны, грозный, с другой – и пасторальный, и сентиментальный…
Пока еще осторожно, чтоб не сделать больно Огареву, он называет суматошную деятельность Бакунина «бестолковой мудростью». А прибывшего из России террориста Нечаева сравнивает по ошеломляющему действию на них с алкоголем: «Нечаев, как абсент, крепко бьет в голову». А всю их совместную работу определяет как «казенно бюрократическое устройство уничтожения вещей».
А дочке своей Тате, с которой он делится самыми сокровенными мыслями, он сказал прямо:
– Нельзя себе представить, как удушлив Бакунин и как Огарев совершенно под влиянием дома этой дурочки и вне – резвых юношей.
«Дурочкой» Герцен в сердцах – и уже по одному этому несправедливо – называет верную подругу Огарева Мери Сетерленд. А «резвые юноши» – это главным образом Нечаев, заразительную, почти гипнотическую силу его личности Герцен недооценил. Он и в письмах для конспирации называл его «бой», то есть «мальчик» по-английски. Это была необходимая предосторожность: в эмигрантских кругах стало известно, что царское правительство заслало в Женеву несколько секретных агентов для слежки за русскими революционерами. И язык писем Герцена становится сугубо сдержанным. Для того чтобы заявить Огареву о своем несогласии с деятельностью его, Бакунина и Нечаева, Герцен в письме из Парижа в Женеву прибегал к такому иносказанию:
«Юношу видеть я могу и мужеству его отдаю полную справедливость – но деятельность его и двух старцев считаю положительно вредной и несвоевременной…»
Под юношей Герцен разумеет Нечаева, а старцы – Огарев и Бакунин. Горячие споры возникают между друзьями. Они не утихают вообще никогда, и чем далее, тем горячее. Они происходят и на прогулках по улицам Женевы, и в доме у Герцена. Принципиальные расхождения не пресекли близких отношении. Редкий обед и ужин проходят без Огарева и Бакунина, который, как поделился Герцен с Татой, иронически окрашивая эти глубокие разногласия с Бакуниным, «раза три ужино-обедает у нас, Огарев почти всякий день. Но в общем зато идет война. Я – как и в Ницце – не согласен с Бакуниным и петербургски-студентской пропагандой, и тут совсем расхожусь не только с Бакуниным, но и с Огаревым…».
Тата понимала конспиративные иносказания отца: «петербургски-студентская пропаганда» – это Нечаев. Обрывки этих споров доходили до нее.
Огарев (как бы чувствуя за спиной незримое присутствие Бакунина). Разделение общества на сословия это экономический промах.
Герцен (удивляясь его наивности). Нет, сословность не промах, а возраст. Молочные зубы – не промах, а выпасть должны.
Огарев (упрямо). Люди в революции не могут ясно представить себе, куда они идут.
Герцен (возмущенно). На авось мы не пойдем! Люди пойдут, зная, куда идут, зная, что ломают и что сеют.
Бакунинское влияние странно отозвалось на Огареве. Он стал мельчить. Количественно его плодовитость не уменьшилась. Но качественно… Статьи и прокламации по-прежнему обильно выпархивают из-под его уже не очень твердой руки. Герцен восстает не только против содержания статьи Огарева «Русские студенты», но и против ее формы. В нем запротестовал не только революционер, но и художник. Сам-то он ничего не делал кое-как и считал, что революционная пропаганда и серость несовместимы:
– Отчего ты – поэт и музыкант – потерял чутье формы и меры? Зачем искусственный vulgar[65]65
…vulgar – грубость (англ.).
[Закрыть] – в словах и выражениях?.. Нет, это не те звуки, которыми юный «Колокол» потрясал молодежь… Прими в любовь, а не в гнев замечания.
Но Огарев не принял в любовь эти драгоценные замечания мастера. Он обиделся. Нет ничего уязвимее авторского самолюбия. Он отозвался, и в словах его есть оттенок высокомерия, ранее ему несвойственного:
– Мне становится жаль, что ты не подписал моей прежней статьи из-за чувства изящной словесности…
Но хоть редкая встреча Герцена с Бакуниным проходила без спора, эти идейные распри, однако, никогда не выплескивались на страницы печати, никогда Герцен публично не полемизировал с Бакуниным – несомненно, вследствие давней дружбы с ним, и без того травимым и преследуемым властями разных стран. Главы о Бакунине в «Былом и думах» остались в рукописи, так же как полемические письма «К старому товарищу».
Независимо от того, знал ли Герцен истинную цену Бакунину, сознавал ли всю глубину его заблуждений, он был верен старому товарищу. Он прощал ему многое, не приносил в этом случае в жертву убеждениям личные чувства, хотя, вообще говоря, стоял за чистоту принципов, за их монолитность, – недаром так восхищался он твердостью Робеспьера. Нет, нельзя представить себе подобной неумолимой позиции Герцена! Восхищение Робеспьером – чисто теоретическое. Оттенок восхищения пламенной натурой Бакунина всегда был свойствен Герцену. Даже негодуя против Бакунина, он не мог не любоваться им.
Добродушная нотка звучит в его насмешливом отзыве о Бакунине:
– Мастодонт Бакунин шумит и громит, зовет работников на уничтожение городов, документов… ну, Аттила, да и только.
И всякий раз для определения Бакунина Герцен прибегает к образам гиперболическим, раблезианским:
– Бакунин – это локомотив, слишком натопленный и вне рельсов – несется без удержу…
Но разве только Герцен характеризует этого «мастодонта» и «локомотив» в таких сильных выражениях? Даже французский премьер-министр, выславший Бакунина из Франции, назвал его «une personalitè violente»[66]66
…une personalitè violente – необузданная личность (фр.).
[Закрыть]. А почти полстолетия спустя Александр Блок, зондируя душу Бакунина в своей статье о нем, писал, что он «одно из замечательнейших распутий русской жизни… способный к деятельности самой кипучей… Бакунин был вместе с тем ленивый и сырой человек – вечно в поту, с огромным телом, с львиной гривой, с припухшими веками, похожими на собачьи, как часто бывает у русских дворян. В нем уживалась доброта… с глубоким и холодным эгоизмом… Только гениальный забулдыга мог так шутить и играть с огнем… О Бакунине можно писать сказку… Займем огня у Бакунина!..»
Со сложной натурой и отношения сложные. «Не вполне с ним согласный – я очень в хороших ладах», – рассказывал Герцен Маше Рейхель о встречах с Бакуниным.
«Не вполне» – слишком мягко сказано. Герцен не считал нужным раскрывать даже своей приятельнице всю противоречивость своих отношений с Бакуниным. И обратно, конечно. Чуть ли не специально для применения к Герцену Бакунин изобрел слово «прекраснодушие» – а заодно и по-немецки: «Schönseeligkeit». В нем есть оттенок презрительности, оно обозначает, быть может, и возвышенное, но несостоятельное умонастроение, лишающее возможности самостоятельного суждения в вопросах истории и политики, – «искусственное благодушие в невинных строках», – добавляет Бакунин, претендуя на остроумие, что – увы! – этому «мастодонту» не было дано.
В душевном составе Бакунина начисто отсутствовало чувство самоконтроля. В людях он разбирался плохо. Только идеи что-нибудь стоили в его глазах. По бурному своему темпераменту он тотчас бросался воплощать их в жизнь. Это был догматик в действии. «Все в самом деле непосредственное, – замечает о нем Герцен в „Былом и думах“, – всякое простое чувство было возводимо в отвлеченную категорию и возвращалось оттуда без капли живой крови, бледной алгебраической тенью».
Бакунин, без сомнения, еще одна модификация русской интеллигенции, причем самое характерное для людей такого профиля – догматизм, достигавший у Бакунина и Нечаева почти мистической силы. С этим сочетался неукротимый анархизм Бакунина, фальшивая монета, которой он бряцал, как полновесной золотой, и звоном ее увлекал людей.
И был один момент в разногласиях друзей-противников, когда слова Герцена «не вполне с ним согласный» следует понимать в усиленном смысле: «вполне несогласный». Безоговорочно. Категорично. Это в вопросе об использовании для успеха революции низменных страстей. В статье под бесстрастным академическим названием «Постановка революционного вопроса» Бакунин призывает молодежь к разбою, который он назвал «одной из почтеннейших форм русской народной жизни». Конечно, самое соседство слов «разбой» и «почтеннейший» говорит о катастрофическом отсутствии чувства юмора у Бакунина. Но до юмора ли тут! Недаром Герцен сказал, что «вещь эта наделает страшных бед».
Возможно, что перед мятежным воображением Бакунина стояли благородные разбойники мелодраматического типа вроде Робина Гуда или шиллеровского Карла Моора. Да Бакунин и сам поминает его в брошюре «Начало революции»:
«Дела, инициативу которых положил Каракозов, Березовский и проч., должны перейти, постоянно учащаясь и увеличиваясь, в деяние коллективных масс, вроде деяний товарищей шиллерова Карла Моора…» И тут же деловито прибавляет:
«…С исключением только его идеализма…»
От Герцена не ускользнуло своеобразное революционное тщеславие Бакунина.
– Бакунин, – сказал он Огареву, – как старые нянюшки и попы всех возрастов, любят пугать букой, сами хорошо зная, что бука не придет. Для чего все это делается – неизвестно; но думаю, что на том основании, на котором купец, строивший на свой счет Симоновскую колокольню, поставил одно условие – быть выше Ивана Великого хоть одним вершком…
Без сомнения, Герцен еще больше укрепился бы в этом своем мнении о Бакунине, если бы знал, что в случае успеха социальной революции и установления анархического общественного строя Бакунин сохранял за собой пост «незримого кормчего» в тайной диктатуре, скрытой от народа. И как пример для подражания Бакунин приводил организацию ордена иезуитов.
В то же время независимо от этих соображений о иерархии, которая в любой стране и во всякое время существует в эмигрантских кругах, как, впрочем, в каждой стае живых существ, будь то, например, галки или шимпанзе, – Герцен понимал, что призыв к разбою не только выбрик честолюбия Бакунина и уж во всяком случае не оговорка и не случайная прихоть вулканического темперамента. Нет, это одна из заповедей, которую Бакунин вещает человечеству и внес в программу основанного им «Альянса социалистической демократии».
«Мы понимаем революцию в смысле разнуздания того, что теперь называют дурными страстями…»
Герцен тщетно старался вырвать Огарева из его восторженного поклонения разбойничьим тезисам Бакунина. Этот кроткий фанатик возражал Герцену своим медовым голосом:
– Террор, предполагавшийся декабристами, был беспощаден. Ты все пугаешься перед словом «разбой» или «грабеж».
Герцен выходил из себя:
– Ты думаешь, что призыв к скверным страстям – отместка за скверну, делающуюся в России, а я думаю, что это – самоубийство партии. Нет, великие перевороты не делаются разнуздыванием дурных страстей…
Но может быть, еще большим заблуждением Бакунина Герцен считал его стремление превратить людей чаемого социалистического общества в «мешки для пищеварения». Он был возмущен перспективой потребительского социализма.
– Что Бакунин так старается стереть личность? – восклицал он. – Он проповедует совершенное уничтожение собственности и семьи – но ведь это вздор, – и это было бы действительно возвращение в обезьяны и в скуку однообразия, которую человечество, по своему фантастическому элементу, не вынесет… Горе бедному духом и тощему художественным смыслом перевороту, который из всего былого и нажитого сделает скучную мастерскую, которой вся выгода будет состоять в одном пропитании, и только в пропитании.
Невысок. Лоб низкий. Рот изредка подергивает судорога. Глаза черные, огненные. Иным становилось не по себе, когда этот взгляд останавливался на них, сосредоточенный огонь их пугал. Но бывало и наоборот: привлекал, манил, покорял. Пятидесятипятилетний Бакунин, сам мальчишеская натура, подчинился влиянию двадцатидвухлетнего Нечаева. Поверил всем его небылицам, что он якобы совершил дерзкий побег из Петропавловской крепости, что за ним в России стоит мощная революционная организация, что Россия созрела для восстания…
Призывая к террору, Бакунин стремился взрастить в людях революционный дух. А тут – этакое везенье! Такой дух возник перед ним в готовом виде, как говорится, в сборе, в комплекте: Нечаев.
Бакунин называл его «тигренок». И когда Нечаев нервно ходил по комнате, развивая свои всесокрушающие теории, старый тигр провожал его ласковым взглядом.
Огарев присоединился к восторгам Бакунина, который говорил о Нечаеве:
– Они прелестны – эти юные фанатики, верующие без бога.








