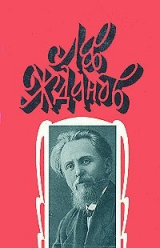
Текст книги "Том 1. Третий Рим. Грозное время. Наследие Грозного"
Автор книги: Лев Жданов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 50 страниц)
А наверху пирушка веселая идет, шумит, продолжается без конца. «Столованье» государское кончено. Лишние столы убраны или в углы сдвинуты, блюда с яствами унесены: в соседних горницах челядь Иванова, все прислужники остатки доедают, опивки глотают… А царь и гости его пьют без конца, на скоморохов глядят, забавляются; с девушками сенными шутят, которых Иван приказал позвать, песни чтобы петь да играть игры вольные… И среди девушек сенных, среди бабенок веселых, которые у царя под видом дворни содержатся, – ходит одна странная, невиданная… Женоподобный красавец, Федя Басманов, – подсурьмился, подбелился, подрумянился; как заправская щеголиха того времени, в богатый сарафан нарядился, в душегрею, кокошник вздел с фатой полупрозрачною и толкается между народом, наглый, бесстыдный, зазывающий… Грудью задевает, плечом трется, бедрами вертит – совсем как бабенка, от вина и страсти ошалелая…
Любо Ивану, шутит он с бабенкой невиданной, щиплет ее, хлопает, грубо стыдит, заигрывает… А Басманов визжит и хихикает гадким, пьяным бабьим смешком.
Скоро новая забава ввалилась в покой: обычная тройка скоморошья, масляничная – медведь, коза в сарафане и поводырь.
Радостно встретили любимую, наивную забаву пьяные гости, которые еще не свалились от хмеля под столы и под лавки широкие… Прошла обычная интермедия, пляс веселый идет. К нему все остальные шуты и скоморохи примкнули. У многих диковинные машкеры-личины вздеты, которыми не зря безобразные, пьяные лица свои прикрывают распутники. Ведь не одни холопы кабальные скоморошничают: бывает, купчик молодой, богатый, сын боярский, скучающий, – и они на масляной к скоморошьим стайкам пристают, по домам шатаются, ради житья веселого, ради бабьего да девичьего погляденья… Только лицо свое прячут…
И словно шабаш дикий затеялся, когда все эти люди со звериными, свиными, львиными харями, с арапскими, эфиопскими, татарскими личинами пустились в дикий, неистовый пляс. А среди них Басманов, девица красная, вихрем носится…
– Стой! – кричит хозяин. – Федюля, пройдись разочек… Безо всех пройдись!
Бесшабашный плясовой мотив смолк, оборвался вдруг, сразу… Домры, балалайки и дудки тихо, мерно наигрывают, словно песню выговаривают:
По улице мостовой
Шла девица за водой…
И девица-выродок, Басманов плавно, с платочком, грудью вперед, на пальчиках, как заправская плясунья, ходит в медленном танце перед восхищенными пьяными зрителями, которые стонут даже порой от удовольствия, грохочут от смеха при ином особенно удачном или вызывающем движении бесстыдного плясуна, даже в такой тихий скромный танец умеющего вкладывать грязный соблазн.
Чуть только начал плясать Басманов, к царю подошел палач-слуга, который ходил в подвалы с несчастным князем Димитрием, и шепнул одно слово на ухо государю.
Иван вздрогнул, дал знак слуге уйти, вскочил с места и возбужденным голосом крикнул:
– Федь! Я с тобой в чету становлюсь… Слышь: «За ней парень молодой…» – лихо подхватывая слова песни, запел Иван. – Чем я не парень? А?! Да личину мне позабавней давайте… Вот эту! – сорвав с головы скомороха, стоящего рядом, харю арапа, решил Иван и надел маску на свое лицо. – И все, гости милые, все вы – хари, личины надевайте… Все – скоморохами станем, плясать пойдем… Веселье так-то… Все… Чтобы лица человечьего, подобия Божьего – и не видел я сейчас. Ну же, гости дорогие…
И, кинув такой приказ, пошел в пляс с Басмановым, который теперь просто из себя выходит, стараясь быть попривлекательней, позабавней, изгибается, вьется, носится по дощатому помосту, словно по льду скользит… И танцор державный, хозяин ласковый, лихо пляшет с этой лукавой тварью, с развращенным приспешником.
Недолго плясал Иван. Хмель дает себя знать даже такому мощному человеку, каков сам хозяин пирушки. Упал он на лавку, развалился, сидит, смотрит на остальных… Все нарядились, пляшут, шумят, хохочут, с девками шутки шутят вольные, не стесняясь людских очей… Все – свои здесь… Чего же стыдиться? И вдруг, еще не глядя в ту сторону, почувствовал Иван справа от себя: кто-то глядит на него…
Маску, от которой душно стало, сорвал с себя царь и прямо на лице почувствовал чей-то взгляд.
Обернулся – и побледнел. Сидит в углу, в стороне старец седобородый, князь Репнин; лицо скорбное, глаза широко раскрыты и, должно быть, – слезы на них… Близкое пламя стоящего на столе, перед князем, трехсвечника словно искрами загорается, отражаясь в раскрытых глазах Репнина…
Слезы? Сейчас? Здесь? По ком? По Овчине ли? Или по душе самого Ивана? Не смеет плакать никто! А этот… святоша, ханжа, сильвестровец – меньше всех!
И поднялся Иван, «харю» в руке держит, нетвердыми шагами идет к Репнину прямо.
– О чем горюешь, князь, на пиру на моем на веселом? Вон и очи в слезах… Не по душе ли Митькиной?
– Нет, государь… Не по ней… Жива душа князя Димитрия… – Жива ли? А вон сейчас шепнули мне: в погребу нашем – упился вконец, в вине утонул… Как пишут сказание про одного дуку английского… В «нетях» твой Митенька. Истинно говорю. Молись за упокой души княжича.
Ничего не сказал Репнин, вздрогнул только и, широко крестясь, стал шептать молитву. А слезы еще быстрее покатились по щекам, по седой бороде.
Вздрогнул и Мытнов, сидевший совсем в тени, неподалеку от князя, и тоже стал креститься.
– Вот теперь хоть есть тебе плакать по ком, княже! – продолжает между тем Иван. – А раньше кого же оплакивал? Скажи. Правду только… От нас не потаи…
– Всю жизнь я по правде, государь, жил… А перед царем и подавно! Образ Божий – царь на земле… Душа не велит таиться от него… По тебе я плакал… Образ Божий мрачишь, государь! Хари вздеваешь на главу помазанную, на лик свой царский пресветлый. Со скоморохами, с блудодеями пляшешь. По душе твоей – моя душа слезы льет. Прости, государь…
– Вижу, вижу: прямой слуга наш царский – князь Репнин. Режет правду-матку в глаза, хошь и колется правда его. Да не все и прав ты, старче. Нет укора царю, что бы ни творил он. Лебедь белый в каку бы грязь-тину ни попал – окунется в воду студеную, в окиян-море, – и снова снега белее, чище золота… Знаешь ли, князь?
– То – телесное осквернение, наружное царь… А ты – душу свою сквернишь…
– Этим-то? Личиной-то ничтожной, руками скомороха сотворенной? Стыдись, князь. Поумней тебя я чёл… Веселье не во грех и не в осуждение… Ты – больше грешишь, что царя своего осудил, когда он по трудах, по заботах царских, усталый от борьбы с вами же, с крамольниками, сердцу волю дать пожелал, в веселье позабыться хочет… И не иначе откупишься за вину, если сам эту личину взденешь и плясать с нами пойдешь… Ну-ка, живей…
И он протянул князю свою маску.
Ни слова не отвечает старик, стоит, спустя очи в землю.
– А! – сразу меняя легкий, глумливый прежний тон на иной, суровый и зловещий, заговорил Иван. – Сам – не хочешь? Слову царскому не повинуешься? Так я же силой заставлю тебя…
И, двинувшись вперед, он начал своими руками надевать маску на лицо Репнина.
Живая статуя ожила.
Сильным движением вырвал старик у Ивана из рук маску, швырнул на пол, ногой придавил и, подняв гордо седую, львиную голову с растрепавшимися прядями серебристых волос, задыхаясь, заговорил:
– Царь… Негоже… негоже творишь… Не будет надо мной такого бесчиния… Безумия не сотворю… Я – советник, воин, думный боярин твой… Защитник земли… А не скоморох и блудодей позорный…
И замолк, тяжело дыша…
Замерли все кругом давно уже столпившиеся вокруг князя и царя гости, и слуги, и скоморохи царские.
Ждут: что будет?!
Первым движением – к поясу дернулась рука Ивана. Да нет там оружия… И столы опустели от ножей… До крови закусив губу, стоит Иван, в глаза глядит дерзкому. Не опускает глаз своих и Репнин. И вдруг потупился Иван, глухо проговорил:
– Добро… Ин пусть тако будет… В моем же дому гости-рабы поносят хозяина…
И снова молчание.
Но и Репнин, и все прочли приговор у него на лице.
– Царь, отпусти меня, молю! – мягче теперь, примирительным звуком заговорил старик, понявший, что и он погорячился. – Поздно уж… Прости старика, Христа ради для… Отпусти! Вон к заутрене скоро ударят… Домой бы заглянуть мне… Скинуть прочь одежду эту грязную, запоганенную… В чистой к Богу прийти хочу. Прости, государь…
– А ты мыслишь еще, княже, что после слов твоих, после того, как руку ты на нас, на царя своего, поднял, – живым еще выпустят тебя отсюда? А? Скажи, князь…
– Твоя воля, государь… Выпустят – все равно, не уйду никуда. Твердо памятую: жизнь наша в руцех Божиих… В церкви всегда найдут меня… Нет мне теперь путей иных… Врага не грозят земле… Так в церковь мне и путь-дорога одна… И домой потом!
– Ин добро! Правда твоя: такие, как ты, княже, не бегают. Терпок ты, да нелукав… Ступай, помолись, боярин, в последний раз… Благодарствуй на слове смелом да искренном…
– Не на чем, государь!
И, отдав поклон, вышел Репнин, минуя толпу людей, пораженных всем происходящим. Не ожидали они подобного исхода!
Но едва переступил Репнин порог, сопровождаемый особым спутником, без которого никого не выпускали с пирушки царской, едва начался прежний разгул и гомон, как царь мигнул князю Михаиле Черкасскому:
– Гей, шурин…
Тот подошел, пьяный, черный, зверообразный.
– Нынче – поздно, гляди… Не успеешь… Завтра – людей изготовь… Где придется, пораньше, как в церковь пойдет старик этот дерзкий, схвати его… В «мешок» его, как хочешь там… Но чтобы больше не видал я его никогда!
– Ладно, государь… А там – и на двор к нему, для обыску, заглянуть можно будет?
– Э, как хочешь!
И, досадливо отмахнувшись рукой, Иван вернулся к своему месту, взял в руки оставленный здесь посох царский, воткнул его стальным острием в доски пола и, подперши подбородок руками, глядеть стал на общее беснование, сразу потерявшее всю прелесть в глазах обозленного Ивана.
Отец и сын Басмановы подсели сейчас же к царю. И один из Захарьиных, Василий Юрьев, тут же.
– Заскучал, царенька! Ишь, старичишка поганый, как огорчил государя мово желанного! – начал было Федя.
Но Иван сидит, словно и не слышит слов наложника.
– А слыхал я, – заговорил отец Басманов, – за такую поруху имени царскому и величеству его – казни дают самые жестокие.
Молчит, не откликается Иван.
– Да уж последнее дело, если гости хозяина, государя своего, в его же дому поносят… Вот, слыхал я, фрязин один мне сказывал, – заговорил Василий Юрьев, – у галльского круля, что помер, почитай, в тот год, как царю нашему на царство сесть время приспело… когда преставилась великая княгиня покойная… Лудвих Первый-надесять он звался…
– Ну, знаю! – отозвался заинтересованный Иван. – Так что же фрязин твой сказывал?
– А у Лудвиха того самого так же вот крамола промеж дуков, дворян да советников его старых пошла… Когда землю, не хуже вот тебя, царь, – собирать он вздумал, порядок заводить…
– Ну, знаю, знаю… Все знаю… Дале что?
– И удумал Лудвих: ото всех, от старых, от супротивных вельможей отделаться захотел. Они там – свои дела делают, земские и ратные, как он же им прикажет, по-старому… А что новое хочет завести – новых людей набрал… Особо и зажил с ними. Что велит, вот, как ты нам, скажем, – то и сделано. Опричь царя никого те люди не знали. И берегли его от всяких ворогов. А царь за то и жаловал их сверх меры…
– Опричь царя? Опричь круля своего Лудвиха. Знаю… Слыхал и я… Стой, стой! Как же мне доселе невдомек… Правда… Старых – не переделаешь… И без них – не проживешь же пока. Давно я то говорю… А ты сейчас… Надоумил ты меня… Спасибо, Вася… Сам не знаешь, какую послугу мне да царству всему, всей земле оказал… Жди награды великой.
Просиял Захарьин, который неспроста здесь, в вихре беспутной вечеринки, зародил в голове царя мысль о новом деле великом, о московской опричнине.
Сидит, задумался Иван. Собеседники – не тревожат царя: ясно, что не до них Ивану.
Вдруг шум за дверьми раздался. Вернулся провожатый Репнина и Молчан Мытнов с ним.
Подошли оба к Ивану.
– Что такое? Что надо? – словно просыпаясь, резко спросил тот, уставясь на обоих воспаленными глазами.
– Да вот, государь, – заговорил привратник, – князя ты выпустить повелел. А этот – за ним увязался. Тоже домой, вишь, просится. А я без приказу твово…
– Вестимо. Никто не смеет раней нас с пиру уходить. Не водится того. Молчанушка, аль ты не знаешь? И то, редко видим мы тебя на беседе веселой нашей. А слыхал пословицу: насупился молодец, знать, худое в голове… Аль не любо и тебе, как князю Репнину, глядеть на забаву нашу царскую? Так он – князь; хошь и дальний, да кровный родич наш… А ты? Что же молчишь? Аль и виниться не хочешь, холоп? Все молчишь? Эй, чару сюда! Самую большую… Пусть все осушит во здравие наше, за поруху свою негожую…
Подали ту же самую, широкую, полную вина чашу, которую перед смертью не допил никак Овчинин.
Но Мытнов и не принял ее. Поняв, что выхода нет, что он без вины осужден – и погиб, как осужден Репнин, как погиб сейчас князь Димитрий, о смерти которого успели все проведать на пирушке, – Молчан решил хоть одно совершить перед смертью: кинуть в лицо кровопийце свой последний упрек.
– Слава царю-государю! – громко, твердо проговорил он и сильно отвел от себя поданную чашу левой рукой, так что половина влаги расплескалась на пол и на одежду пролилась чашнику, подносившему вино. – Слава владыке нашему милосердному! – правой рукой касаясь земли, повторил Молчан.
И, выпрямляясь быстро, продолжал среди зловещей тишины, воцарившейся в покое:
– Воистину, царю! Возлюбил ны, рабы свои! Ничего не жалеешь для слуг своих верных… Как сам упиваешься, тако и нас принуждаешь, окаянных, пити мед твой крепкий, мед, с кровию братии наших, христиан православных, смешанный… Слава тебе, госу…
Но он не договорил…
Блеснуло что-то в воздухе… Поднял руку Иван, быстрее молнии – и острый конец жезла, «осно» самое, с ужасной силой вонзилось в горло Молчану… Кровь так и хлынула из раны широкой струей, когда мгновенно выдернул Иван жезл из раны и готовился второй удар нанести. Но этого не пришлось: Мытнов так и рухнул, лицом вниз, задев ноги царя головой, залив потоком алой крови его одежду и помост кругом.
Отодвинулся невольно Иван, но снова поднял руку, чтобы, сверху вниз, второй удар нанести… Вдруг за окнами прогудело в воздухе, пронеслось – разлилось волною что-то, как вздох могучий, как восклицанье тяжкое, громкое… Это – пронесся первый удар колокольный с ближайшей звонницы кремлевской и поле тел, замирая, далеко в свежем, прохладном предрассветном воздухе…
Остановив руку с жезлом на полпути, царь уронил губительный посох, взглянул в передний угол, на иконы, и, зашептав молитву, стал осенять себя истовым, размашистым крестом… И все сотворили крестное знамение.
– Убрать… вон… за порог долой пса этого… – распорядился Иван.
Пока двое прислужников волокли полумертвого Молчана во двор, где и добили его, царь обратился к присутствующим:
– Простите, гости дорогие… Не обессудьте! Угостил, чем мог. Теперь – на молитву пора… Ступайте… И я скоро приду… А вы… все прочь! Сгиньте, окаянные! – прикрикнул он на шутов, скоморохов и бабенок, которые, дрожа от испуга, устрашенные смертью Мытнова, столпились в углу, словно стадо овец беспастушное…
Как ветром вынесло всю челядь из покоя… Гости – тоже расходились не мешкая, без излишних прощаний, только поклон земной отвесив царю…
– Ты, Федюля, проводи меня… Отдохну малость… Да переоденусь тоже… для храма Божия… – обратился Иван к Басманову-сыну. – Ишь, кровью на кафтан брызнуло.
И, опираясь на плечо переряженного любимца, пошел в свои покои неверным, колеблющимся шагом. Хмель и кровь совсем опьянили его.
Но все же, придя в свою опочивальню, прежде всего достал из ларца Иван сверток особый, недавно заведенный, где записывал имена всех казненных, – и неверной рукой стал выводить: «И Димитрия… и… Молчана… и… Михаила… – подумав немного, приписал Иван, а сверху вывел: – Овчина, Мытнов, Репня, князь…»
– Как же, царенька? – раздался приторный, гнусный голос Басманова. – Откеда Михайло взялся? Ну, Митрий… сказали мне, как упоили голубчика… Ну, Молчан… Энто сам видел… А князь Михаила ты же здрава и невредима отпустил… Почто же причисляешь его к лику праведных? Хи-хи-хи! – довольный собственной шуткой захихикал Басманов.
– Сам он причислил себя… Не все ли равно? Заодно уж… Ныне ли, после ли? Слыхал, чай, и сам он сдогадался: «Не уйду!» —. говорит… И не уйдет… Никто из крамольников – рук моих не уйдет… Аспиды проклятые… Так пусть красуется загодя… Не придется лишний раз – столбца доставать, в ларец лазить… Это ведь не к бабе за пазуху? А, Федюха? Как думаешь, краса моя писаная?
И он, притянув к себе Басманова, неверною рукою стал срывать с него фату и весь женский наряд…
* * *
После блестящей, но единичной удачи с Полоцком, который был взят у Литвы при участии самого Ивана, – военное счастье в эту пору словно совсем отвернулось от царя, потерявшего душевный покой и семейное счастие.
Литва – с Крымом, со своим исконным врагом и опустошителем, сноситься стала, с султаном в переговоры вошла, шведов в союз вовлекла… Мир с Литвою, или хотя бы перемирие, пришлось Москве заключать. Ряд поражений потерпели русские войска, начиная с битвы на реке Уле, где пало трое воевод-князей: Петр Шуйский и двое Палецких, а других двое: Захар Плещеев да князь Охлябинин – в плен сдались.
Свара с боярами и воеводами все жарче разгоралась. Вельможи пытались заступиться один за другого, а Иван еще грознее карал заступников, видя в их возмущении – бунт против его власти, от Бога данной, по наследству от предков полученной. И нужны были воеводы для борьбы с внешними врагами, и не верил им Иван… Всегда не верил… А тут – еще бежавший Курбский подлил масла в огонь.
Только вышел Иван ранним майским утром из покоев, чтобы в колымагу сесть, ехать к Троице-Сергию, – как подвели к самому крыльцу стражи дворцовые какого-то человека, в пыли, усталого…
– Кто такой? Что надо?
– Не говорит, государь… Все тут тискался… Неведомо, каким путем и пришел во двор царский… Спрашивал, допытывал-допытывал: скоро ль ты, надежа, выйдешь, пожалуешь? Обыскали: нет при ем такого ничего… Как сам прикажешь? Допросить али пустить?
– Оставьте… Я знаю его… Ты, Васька? Я – у князя Андрея… у пса забеглого, у отьезжика-Курбского видал тебя… С ним, сказывали, и на Литву ты бежал, холопской ради верности… Што, али по Руси скучился? Али домой захотел? Или про хозяина имеешь сказать вести новые? Говори, мы слушаем… Вы, подале отойдите… – приказал окружающим Иван.
– Имею сказать, государь! – с поклоном ответил Васька Шибанов, глядя в лицо царю. – Только не тоска-засуха, служба господская привела меня в Москву. Вот, приказал князь, господин мой, в руки тебе, государь, цидулу его передать нарочитую…
– А-а… давай, давай… Что пишет князь? Уж не с повинной ли ползет собака к старому хозяину? Так погоди еще. Давай, подавай-ка послание? Где оно у тебя?
– Вот, государь! – рванув подкладку у шапки и доставая оттуда сложенный кусок, пергамента, произнес Шибанов. И, с новым поклоном, протянул письмо князю Черкасскому, стоявшему между ним и царем на всякий случай.
Иван быстро выхватил сверток из рук шурина, взглянул на печать, увидел, что хоть и помята она дорогой, но не тронута. Быстро сорвал шнурок и стал читать. С первых же строк лицо царя, веселое и довольное раньше, потемнело. Жилы на лбу кровью налились, все черты лица так и задергались. Читает, губами шевелит. Даже пена проступила на них от внезапного прилива ярости. Остановился скоро, руку с письмом опустил, а рука ходнем так и ходит… Другая рука, в которой неизменный, неразлучный с царем посох-копье находится, так острием жезла и пронзает доски крыльца.
– А поди-ка поближе сюды к нам, гонец-посланец… Что тут писано, – знаешь ли?
– Не отопрусь, знаю, государь… Не потаил господин, с какой эпистолией шлет меня…
– Знаешь? Знаешь? – зашипел Иван.
И вдруг, вытянув конец жезла из доски, куда тот был вонжен, поднял и опустил его прямо на ступню Шибанова, который не на коленях, по-холопски, а стоя, смело говорит с царем.
– Ох, Господи! – невольно вырвалось из груди у того. Но он не двинулся с места. Только слезы, против воли, слезы, вызванные мучительной болью, покатились по запыленному, загорелому лицу верного слуги и, капая вниз, смешивалась с тонкой струйкой крови, которая стала просачиваться из пробитого сапога, из пронженной нога холопа-мученика.
А Иван приналег всей грудью на посох, близко придвинул свое яростное, потемнелое лицо к побледневшему лицу Шибанова и спрашивает:
– Поди, чай, не один у тебя и список был? Не ты один и гонцом погнан? Еще иным многим людям цидула эта ныне уж ведома, передана?
– Верно, государь… Гонцом – я один взялся быть… А здеся пришлось уже кой-кому такие ж эпистолии пораздать: знали бы люди, что тебе, царю, господин мой, князь пишет…
– Так, тах… Друг ты, выходит, князю верный, не простой гонец ото пса забеглого. Ну, коли одни люди знают, пусть и все другие слышат: что холоп – царю своему пишет. Не потаимся. Сказано же: кто к небу восплюет, на лицо тому же слюна его, злоба отрыгнутая вся падет. Читай погромче, дьяк…
И передал царь одному из сопровождавших его дьяков письмо Курбского.
– А ты, Васенька, тоже послушай постой… Лишний разок оно пригодится тебе…
Глядит на бледного Шибанова и улыбается.
Тот головой поник, зубы стиснул, чтобы не закричать по-бабьи, себя, господина своего не осрамить. Знал ведь, на что шел. Чего же тут выть, молить да жалобиться.
Стоит и молчит, чуя, как все глубже в ногу острие жезла вонзается, кости дробит мелкие, мясо рвет… Вот и подошву прошло, в дерево врезалось… А там, погодя немного, – чудо Божие! – не слышит уж и боли никакой Шибанов.
И голову поднял, и губы не кусает. Лицо – спокойное, ясное, словно не он к полу железом пригвожден, как Христа римляне ко древу пригвождали.
А Иван, опершись на свой жезл, стоит, слушает, что читают, сам глаз не сводит с холопа и злится, отчего не видно муки на лице у смерда предерзкого.
Ярко сияет майское солнце с небес, озаряя всю картину.
Дьяк громко, мерно читает послание:
«Царю, от Бога препрославленному, паче же православием просиявшему, ныне же, грех наших ради, – сопротивно прежнего ставшему! Да уразумеет он, совесть прокаженну имущий, ему подобного же ныне и в землях безбожных языческих не обретается… Но всего не стану глаголати даже. Толико, гонения ради твоего царского, как искал ты мне и у покрова моего, у круля повредити, – скажу тебе, мало потщуся изрещи ото всего огорчения своего сердечного! Почто, царю, сильных во Израиле побил еси? И воевод, от Бога данных ты, различным смертям предал еси? И святую кровь их, яко недавно кровь князя Репнина, – в церкви Божией на очах митрополита-владыки, – пролил еси?
Чем провинились пред тобой, о царю! Чем прогневили тя, христианский предстателю? Не они ли прегордыя царства бусурменския разорили и покорили тебе? А ране – праотцы наши тем, неверным агарянам, работали, дани несли!
Сам Христос – Судитель меж тобой и мною. Коего зла и гонения от тебя не претерпех, коих напастей и бед не воздвиг на меня еси! Не испросих, не умолих тя слезным рыданием, ни ходатайством архиереев-заступников…
Кровь моя, аки вода, пролитая за тя в боях, вопиет к Богу – на царя моего! Потрудихся много, всегда за отечество свое стоях, мало матерь свою зрех и жены не познавая… Всегда в дальних градах против врагов твоих ополчахся и нужду терпех, и нужды, им же Христос свидетель. И ранами учащен, сокрушено язвами все тело мое, но тебе, царю, все сие – аки ничто есть… Одну ярость и ненависть лютую являешь к нам! Не в похвалу то реку. Да буди тебе, царю, ведомо: не узришь в мире лица моего до дня преславного явления Христа-Спасителя… Но и молчати не стану! Со слезами стану до скончания века вопиять на тя Пребезначальней Троице… И не я один, вси, заточенные и прогнанные тобою, избиенные тобою, – они на небе, мы – на земле – к Богу вопием день и нощь… Мучишь ты род христианский, ангельский образ попираючи, силой во схиму, в монастыри заточающи, чин монашеский налагающе, подобно отцу своему… И ласкателей слушаешь своих, губителей души и тела своего… Они ведут тебя на дела Афродитские, детьми своими, паче жрецов Кроновых, – жертвуют тебе, дух твой развращающи… Особливо – боярин твой, христианский губитель, от блуда зачатый, богоборный антихрист, Олешка Басманов, синклита твой, иже от прелюбодеяния рожден есть, как всем то ведомо! И шепчет ложное в уши царю, и льет кровь хрисгаанскую… И много уж выгубил! Не пригоже таким потакати, о царю! Сам ты, развращенный и прелукавый, к ранним грехам юности своея обратился. Прескверных паразитов и маньяков собрал к себе, како были у тя в юности – Вельский с товарищами богомерзкими, прегнускодейными… На его место – Федька Басманов ныне… Вспомяни, царю, те дни минувшие, когда блаженно царствовал, при Сильвестре – отце нашем! При советах его… Очутися и воспряни! Многое нам зде приходящие от земли твоей поведали… Девиц, глаголют, чистых четы собираешь, за собой и на войну и всюды подводами их волочишь… Нещадно чистоту их растлеваешь… И другое многое слышно… Не губи себя и дома своего! Прибегни, царю, к раскаянию. Бог не отвергнет тебя… И Петр апостол, согрешив, со слезами покаялся… Мудрому – довлеет!
Аминь!
Писано в Вольмере, граде государя моего, Августа-Жигимонта короля, от него же надеюся много пожалован и утешен быти ото всех скорбей моих, милостию его господарскою, паче же – милостию Божию, яко есть Он всем скорый помощник и утешитель!
А еще помяну: затворил еси царство русское непохвальным обычаем. Заградил свободу людям, яко души грешиыя затворены в стенах адовых. И кто бы из земли твоей поехал до чужих земель, – ты называешь того изменником… А изымают его на пределе твоем – и ты казнишь смертями различными, яко изменника, то забиваючи, что поневоле принуждены были крест целовать, обычай московский знаючи: кто присяги государю не даст, – горчайшею смертию умрет. О себе же поведаю! Тогда уж мнение твое грядущее на мя угадал, когда сестру мою насилием от меня взял за того же брата, Володимира, коего мы словно на царство хотели… А еще выдумал, что царицу у тебя очаровано и тебя с ней разлучено… И от кого же? От святых мужей, правота коих – сама речет за себя! Не устрашился ты притчи Хамовой. Блаженного Сильвестра, исповедника и отца своего, так облыгаешь! Может ли что прегнуснейшаго бысть? Не он ли грехи твои все на своей вые носил? Победы принес тебе сей священнослужитель, не глядя, что казнил и наказывал тебе сурово о неподобных делах твоих. Исайя же пророк писал: „Лучше лоза и жезл приятеля, нежели ласкательные целования вражий…“ Помяни те дни светлые и воротися к ним! Ласкатели твои клеветали на старца, что устрашал он тя не истинными, но льстивыми видениями… И я глаголю: воистину, льстец он был, коварец и – благо кознен при всем том. Понеже взял тя, исторгнул из сетей адовых и ко Христу-Богу привел… Так и врачи премудрые творят: дикие мяса и неудобьцелимыя гагрины[12]12
Гагрина – гангрена.
[Закрыть] бритвами режут, а потом – заживляют недуг, когда до живаго тела дойдут… Так и сей Сильвестр-пресвитер творил над тобою… Но умолчу дале, ради сокращения писанейца сего… Не хочу бо, раб убогий, с твоею царскою высотою сваритися…Андрей Курбский, князь Ковельский».
Замолк дьяк.
Тишина кругом. Слышно, как кони царские пофыркивают, воробьи щебечут, в пыли купаются.
С ближней площади кремлевской – голоса и гомон доносятся.
Иван, протянув руку, взял у дьяка письмо, сам глядит все на Шибанова. Тот стоит – шатается, обессилел от потери крови и сразу, как мешок, осел на помост крыльца.
– Уберите-ка гонца! – вытаскивая острие жезла из ноги, произнес царь. – Да на ноги поставить его поскорей; лекаря, что ли, к нему послать. Он – живой мне надобен…
И прошел вперед.
* * *
Быстро оправился Шибанов, на другой же день – и в застенок, на допрос попал… Но никакими муками ничего не вызнали у несчастного больше того, что он царю сказал. Так и умер он под пыткой…
* * *
Более месяца прошло со дня смерти Шибанова.
Июльская знойная ночь парит над землей.
В селе своем Коломенском от летней жары спасается государь.
Все спит кругом. Сторожа лишь порой перекликаются. Залает собака на селе, далеко – и смолкнет. Петух протяжно, звонко запоет – и стихнет!
Ему рядом другой откликнется… Дальше, все дальше их перекличка звонкая пойдет, пока в самых дальних деревнях, вкруг царского села раскинутых, в небольших поселках окрестных – последние, ели слышные зовы петушиные не протянутся… Не то – птица прокричала, не то в лесу – эхо слабое, еле внятное, отдалось… А там – с воды гоготание гуся сонного поднимается. Ему вся стая гусиная откликнется, словно людная толпа – речью перекинется. И снова мертвая, немая тишина. Простор и полутьма, пронизанные лучами полной луны, которыми сыплет она с чистого неба на целый спящий мир.
Близко рассвет. Все спят. Не спит один Иван в своей прохладной светелке, в опочивальне летней.
Сидит перед столом, в легком кафтане из канауса, подбитом пестрядью домотканой. Сидит – и читает длинный свиток, лежащий перед ним. А порой возьмет перо и поправляет в нем что-то.
Это – ответ царя на письмо Курбского, на дерзкое, неслыханное послание, какого ни один из царей русских не получал еще от подвластных своих, как бы знатны те ни были!
Оно бы и не подобало царю на лай раба отвечать. Да натуру не переделаешь. «Первый ритор в премудрости словенской», царь Иван IV упустит ли случай разбить врагов и на письме, как на поле брани порой разбивал?
И, развернув свою заветную книгу, которую думал вместо завещания детям оставить, стал он выбирать оттуда и прилаживать одно к другому все, что могло покрыть стыдом голову Курбского и всех крамольников царских.
Не трудна работа… Но все-таки больше месяца ушло на нее. Тем более что захотел царь свой ответ изукрасить и мудростью церковной. Книги священные стал пересматривать, Апостолов послания, и Златоуста, и отцов церкви. И те фолианты, – историю царей, – которые он часто у Макария читал, а теперь по наследству от покойного старца в дар получил…
И выводил потом строку за строкою, в свободные часы, – даже не раз пирушки отменяя ради письма ответного-заветного. Чертит Иван четкие строки, а сам вдаль глядит, словно заранее увидеть душою желает, как смутится, как посрамлен будет Курбский, прочитав витиеватый ответ царя, полный укоров и улик тяжелых…
Тут же, на столе, лежит и послание князя. Порой и в него заглядывает царь, чтобы убедиться, что ничего не забыл, на каждую строку возразил этому наглому холопу, который ни умом, ни саном, ничем, ничем не смеет равнять себя с Иваном, Московским царем, всея Руси, милостию Божией…








