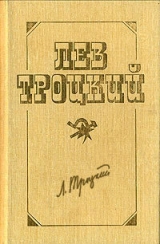
Текст книги "Том 6. Перед историческим рубежом. Балканы и балканская война"
Автор книги: Лев Троцкий
Жанр:
Политика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 44 страниц)
Политический строй Болгарии, каким мы его видели выше, можно определить как комбинацию из демократии и просвещенного абсолютизма. И это, повторяем, не случайное, а закономерное сочетание, обусловленное всей предшествующей историей Болгарии и ее нынешней социальной структурой.
Политическая демократия явилась здесь естественным отправным пунктом самостоятельного политического развития последних трех с половиною десятилетий. До освобождения здесь все противоречия растворялись в одном основном: все болгарское противопоставлялось всему турецкому. Турецкое господство было воплощением социальных невзгод, политических бедствий, национальной приниженности. Все болгарское казалось и считалось однородным, ибо равно бесправным. Низвержение турецкого ига не могло означать в этих условиях ничего другого, кроме освобождения и политического уравнения всех болгар. Равнобесправные должны были стать равноправными. Болгарская интеллигенция, руководимая Петко Каравеловым*, нашла для этого нового состояния готовое выражение в формулах западно-европейской парламентарной демократии. Великое народное собрание в Тырнове провозгласило суверенитет народа, одну палату, всеобщее голосование, ответственность министров. Те учреждения, которые были выработаны на Западе путем долгой внутренней борьбы, как ответ на потребности новых классов, оказались пересаженными сюда в готовом виде одним ударом, чтоб оформить те отношения, которые оказались налицо после механического свержения тяжелой всеуравнивающей крышки турецкого господства.
Освобожденная Болгария была с первого же дня поставлена в условия необходимости усваивать основные элементы европейской культуры и на основе новой техники, прежде всего, военной, отстаивать свое государственное существование. Между тем, масса народа, вчера только вышедшая из турецкого ига, не имела никаких навыков самостоятельного государственного управления. Буржуазия была лишь в зародыше и не успела еще сбросить с себя свои азиатские формы (чорбаджии!);[19]19
Крупные землевладельцы-крестьяне. – Ред.
[Закрыть] политическое руководство страной было ей не по силам. Вот эти-то условия – необходимость реформ, с одной стороны, культурная отсталость населения и слабость буржуазии, с другой – и создавали в своей совокупности предпосылки просвещенного абсолютизма. Инициатива монарха и его международные связи получали огромное значение. А так как великий перелом 78 года в истории крестьянской Болгарии*, как мы знаем уже, естественно облек ее молодую государственность в доспехи народного суверенитета и всеобщего голосования, то вся дальнейшая политическая жизнь страны должна была свестись к борьбе и сожительству этих двух взаимно отрицающих друг друга категорий: абсолютизма и демократии. А в общественном развитии Болгарии не было, разумеется, недостатка в тенденциях, которые растравляли основное политическое противоречие, то усиливая монархию, то вливая живое демократическое содержание в отвлеченные демократические формы.
Социальная основа болгарской демократии очень примитивна. Ее природа – стихийно-бытовая, подобная природе нашей деревенской общины. Болгарская интеллигенция катастрофически призванная, после свержения турецкого ига, к управлению судьбами страны, получила возможность увенчать примитивно-бытовую основу политической надстройки демократии. Но это увенчание только ставило вопрос о дальнейших судьбах страны, а не разрешало его.
Как из русской общины не дано было развиться непосредственно социализму, на что надеялись утописты-народники, так и первобытная крестьянская демократия Болгарии может прийти к строю, основанному на сознательном политическом самоуправлении народа, не прямиком, а сложными путями внутренней борьбы.
"Киевская Мысль" N 322, 29 ноября 1912 г.
II. Война
1. Сербия в войне
В дорогеВиктор Адлер*, один из остроумнейших людей в Европе, определил лет десять тому назад австрийский государственный строй, как абсолютизм, смягченный халатностью, – Absolutismus gemildert durch die Schlamperei. За это десятилетие в Австрии многое изменилось, место куриальной Думы занял парламент всеобщего голосования, высоко поднял украшенную петушиными уланскими перьями голову австро-венгерский империализм, выросла и украсилась Вена. Но Schlamperei – когда хотят быть вежливыми, ее называют Gemutlichkeit (добродушием), – все еще остается национальнейшим элементом австрийской общественности, идет ли дело о политике, городском самоуправлении или торговле.
Я потому заговорил об этом, что из-за милой австрийской беспорядочности мне пришлось на два дня позже, чем я предполагал, выехать на Балканы. Два дня пролежали без движения в Creditanstalt высланные для меня по телеграфному переводу деньги, и, когда я, узнав об этом, бурно объяснился с чрезвычайно, до последней степени, благообразным банковским чиновником, он, в оправдание свое, привел мне около десятка доводов, которые в основе своей все сводились к одному: к Schlamperei.
Из Вены я выехал 25-го и, уже сидя на извозчике, узнал из вечерних телеграмм, что черногорский король объявил войну. Не могло быть никакого сомнения в том, что Сербия и Болгария последуют вскоре за Черногорией, – иначе пришлось бы допустить, что король Николай решил по собственному усмотрению перекраивать Балканы. Тем курьезнее выступали сообщавшиеся одновременно оптимистические заверения австро-венгерской и русской дипломатии по поводу имеющихся воспоследовать магических результатов вербальной ноты.
Хотя от Будапешта до Белграда железнодорожная лента тянется преимущественно в южном направлении, но культурно вы передвигаетесь на восток. В вагонах первого и второго класса, где публика хорошо выбрита и молчаливо предается чарам пищеварения, смена культурных и даже этнографических поясов не так приметна. Но на станциях и в вагонах третьего класса многоязычный, пестрый, культурно и политически запутанный Восток калейдоскопически развертывается перед вами. Два студента-болгарина, студент-серб и венгерский учитель разговаривают между собою в углу вагона третьего класса на невероятном языке из болгарских, немецких, сербских и французских слов. Мелкопоместный венгерский помещик на мадьяро-немецком языке объясняет румынскому священнику архитектурные преимущества Будапешта перед Веной. Рабочий-болгарин, возвращающийся из Америки после четырехлетнего отсутствия, делится с рабочим-словаком своими заокеанскими наблюдениями: полузнакомые слова, пояснительные жесты, недоразумения и снисходительные улыбки людей, привыкших только наполовину понимать друг друга. Австро-венгро-балканский интернационал!
Женщины Востока, вьючные животные с младенцами на руках, с грязными грудями, висящими из сорочек, с кулями за спиной и под локтем, пробиваются в дверь вагона, проталкивая коленями какую-то поклажу впереди себя. За ними – крестьяне, навсегда почерневшие от земли и от солнца, корявые, кривоногие, низко придавленные к земле тяжкой властью ее. Молодухи, снимающие тут же на людях сарафан и остающиеся в короткой исподнице и в сорочке, засиженной блохами. Скрюченные старухи с зобами, в черных платках, опершись на посох, сидят на скамье 3, 4, 5 часов, без слов и без движения. Какое страшное всевыносящее терпение!
Старый цыган с зеленым узлом, занимающим чуть не треть вагона, бормочет про себя что-то невнятное гортанным речитативом, курит короткую трубку и в течение десяти минут проплевывает весь вагон. Цыганка со строжайшим античным профилем лба и носа баюкает ребенка. Молодой рябой цыган, – "православный сербский цыган", – рекомендует он себя, – в жилете, вышитом красным и зеленым шелками, и в бархатных штанах, о которые он лихо зажигает вонючий серник…
Восток, Восток! Выглянуть в окно на более значительной станции – какая смесь лиц, нарядов, этнографических типов и культурных уровней! Невероятные жилеты, чуть не до верхней губы, лоснящиеся цилиндры, фески, еврейские профили, лапти, натянутые рейтузы, босые ноги, последний парижский «крик», бронзовые тела и среди всего – черные, ни в какой толпе не теряющиеся фигуры католических священников, одни и те же в Париже, Вене и на никому неведомой станции между Будапештом и Белградом.
В центре разговоров той публики, которая почище, – надвигающаяся война. И хотя все чувствуют, что на этот раз дело обстоит серьезнее, однако, воспоминания об аннексионном кризисе почти всех настраивают полускептически: "Великие державы не допустят".
– Какая тут война? – объясняет молодой венгерец баварскому священнику, направляющемуся в какую-то миссию. – Монтеккукули* еще 300 лет тому назад сказал, что для войны нужны деньги. Сербии каждый день мобилизации стоит миллион франков. Надолго ли ее хватит?
– А сколько это свиней – миллион франков? – ядовито спрашивает румынский священник.
– Вот то-то и есть. Видали в Бруке? Там сорок вагонов амуниции задержано, – из Крезо шла, из Франции, для Сербии. Наше правительство задержало, – вся станция полна. Нет, войны не будет. Державы не допустят…
Из Будапешта я посылаю телеграмму в Белград: прошу тамошних моих друзей встретить меня в Землине – на случай пограничных затруднений. Текст пишу немецкий. Толстая мундирная венгерка возвращает мне через окошечко телеграмму: с 4 октября (н. с.) Сербия не принимает телеграмм на немецком языке. Венгрия не передает в Сербию на славянских языках, – остаются французский и английский. Беспокойно поглядывая на стрелку часов, я перевожу свою телеграмму на язык вербальной ноты и теряю при этом время и 2 хеллера. Ибо, в пояснение неосведомленным, нужно сказать, что Габсбургская монархия не только аннектирует провинции и задерживает вагоны с амуницией, но и взимает за телеграфный бланк 2 хеллера.
Идущий навстречу товарный поезд на две трети нагружен свиньями. Убаюканные качкой и утомленные путевыми впечатлениями, свиньи тупо глядят в промежутки вагонной ограды или вовсе дремлют. По виду их трудно догадаться, что они играют в международных осложнениях немалую роль.
– Это уж не сербские свиньи? – спрашивает кого-то любознательный и учтивый баварский священник.
Нет, конечно. Это – истинно венгерские свиньи. Перед рылом своих сербских сестер они победоносно опустили черно-желтый австро-венгерский шлагбаум. Венгерская свинья, и прежде чрезмерно привилегированная, сейчас монопольна. То-то у этих трех господ из второго класса, пьющих поочередно из одной и той же бутылки, – должно быть, венгерские средней руки аграрии, – то-то у них такой победоносный вид. Там будут ли люди, говорящие по-сербски, и люди, говорящие по-турецки, вспарывать животы друг другу или нет, а свиная колбаса уж выиграла на 5 хеллеров.
Против меня венгерский офицер, – в ожидании, когда Марс призовет его к священной жертве, – чистит в течение двух часов свои ногти. Рядом с ним, равномерно и плавно, в такт пульмановским рессорам, колышется чей-то огромный живот, на котором начертано абсолютное безразличие к судьбам всех полуостровов земного шара. Венгерские аграрии прикладываются к бутылке, которая распространяет острый запах на все купе.
А в третьем классе, в Ноевом ковчеге национальностей, жизнь идет своим чередом.
Румынский священник присаживается у окна, энергично подтянув при этом рясу, так что снизу обнаруживаются до колен две светлые ноги в полосатых брюках. Это неблаголепие заставляет вежливого и любознательного католического попика из Баварии стыдливо отвести в сторону свои взоры.
– А какое у вас содержание, коллега, полагается священникам?
Вспыхивает разговор о жаловании и доходах священников, епископов и архиепископов, без малого во всей Европе. Молодой венгерец, сторонник взгляда Монтеккукули, обнаруживает и в этой области изумительную осведомленность. Он держит на учете не только архиепископские доходы, но и все окорока, получаемые румынскими священниками в Семиградье.
– Все это одно сказание (Sage), – возражает ему батюшка в полосатых штанах. – Все это давно отошло в область предания.
– Отошло? – вежливо соболезнуя, спрашивает баварский попик.
В вагоне-ресторане тихо. Из широкого и чистого окна открывается вид на равнину. Почти сплошь кукуруза, только изредка прорезанная полосами хмеля. Кукуруза стоит обломанная и пожелтевшая. Местами ее вовсе срезали и собрали в кучи. Скучно выглядит сейчас венгерская степь под мокрым и грязным небом. Остается надежда, что дальше к югу небо и земля окажутся приветливее – там, в Сербии и Болгарии, где равнина начинает «балканиться».
"День" N 3, 4 октября 1912 г.
БелградПоезд не переезжает теперь через железнодорожный мост, связывающий здесь Венгрию с Сербией, а высаживает нас в Землине, хотя билеты нам выданы до Белграда. Мы перерезываем Дунай и вливающуюся тут в него Саву на сербском пароходе «Морава». С землинской стороны Белград, отделенный всего полутораверстной лентой воды, виден, как на ладони. Глазом можно нащупать конак и скупщину.[20]20
Конак – дворец сербского короля. Скупщина – сербский парламент. – Ред.
[Закрыть] Точно так же можно их нащупать габсбургской пушкой. Это, как известно, самое уязвимое место Сербии.
На пароходных сходнях, еще на венгерской стороне, оглядывает публику плотный штатский господин, при котором состоят четыре хорватских жандарма. Он глядит наши паспорта.
– Ваше занятие?
– Журналист.
Не очень это хорошее занятие, читаю я в его глазах, особенно, по нынешнему тревожному времени. Но так как, стоя на сходнях, я не могу переменить своей профессии и так как профессия плотного штатского господина мне тоже не нравится, то нам ничего не остается, как расстаться с миром.
По сербскому берегу Дуная и Савы ходят взад и вперед посты, – это ополченцы, от 45 до 55 лет, в мужицкой одежде, барашковых шапках, в опанках, с ружьем за плечами. Вид этих оторванных от двора пожилых крестьян с торчащим над шапкой штыком, сразу создает настроение тревоги и жути. В сознании проплывают последние впечатления оттуда: банковский чиновник с пробором и черным камнем на мизинце, венгерский полковник с ногтями, белоснежные скатерти вагона-ресторана, зубочистки в папиросных футлярах, шоколад «milka» на каждом столике – и тем неотразимее завладевает сознанием трагическая серьезность того, что готовится произойти на Балканах и что уже началось в самом глухом углу полуострова.
Прошлый раз я был в Белграде два с половиной года тому назад, вскоре после того как улеглись волны аннексионного кризиса. Тогда Белград производил на меня впечатление русского средней руки губернского города, только вместо по воинской повинности присутствия тут "министерство войно", да вместо губернаторского дома – конак, собственно два конака: старый, в котором был убит Александр, и новый, в котором живет краль Петр. За протекшие после того тридцать месяцев Белград вырос, почистился и похорошел. Новые дома и магазины, на главной улице – торцовая мостовая. Но сейчас у города вид особенный, тревожный, бивуачный. Все мобилизованы, и все подчинено потребностям мобилизации. Автомобили и извозчики разъезжают почти только по казенной надобности. Мобилизованные, мобилизуемые и мобилизующие заполняют улицы. Магазины пусты: нет покупателей и к минимуму свелось число продавцов. Застой в промышленности, кроме той отрасли, которая обслуживает мобилизацию и будущую войну. Нет рабочих рук. Для сахарного завода в Белграде пришлось выписать из-за границы 20 рабочих, чтобы не прервать окончательно производства, для другого сахарного завода в Чуприа правительство разрешило применять арестантов. На улице принца Михаила – главная артерия города – приостановлены работы по укладке мостовой, трамвайные рельсы на большом протяжении сняты, мостовая разрыта, деревянные кубики мокнут под дождем, и, подъезжая к лучшему в городе отелю «Москва», экипаж по ступицы погружается в лужу.
Масса газетных разносчиков: старики, калеки, а главным образом, мальчики. Их выкрики создают основную ноту жизни белградской улицы. Штампа! Трибуна! Балкан! Пиемонт! Пиемонт! Штампа! Свет! Свет! Новине! Новине! Новине!
В писчебумажном магазине выставлена огромная батально-символическая картина. Свалив пограничный забор из заостренных палей, сербы – живописные и нарядные – врываются на могучих конях в царство турка, валя и сокрушая все на своем пути. В окне цветочного магазина выставлены последние телеграммы газеты "Мали Журнал"; тут постоянно толпятся резервисты.
В кафе отеля «Москва» – лучшее в городе кафе – штаб-квартира европейских корреспондентов. Мой милый коллега Don-qui-blague (совсем непохожий на Дон-Кихота), в цилиндре и с портфелем, как угорелый, мечется от стола к столу, рвет из рук свежие газеты и ловит налету новости приблизительно так же, как собака ловит мух.
– Слышали? Вчера здесь расстреляли резервного офицера, обвиненного в сношениях с Австрией.
Три ватермановских пера бешено впиваются в бумагу. Австрийские корреспонденты унылы: министры не дают им интервью.
Проходит стройными рядами 18-й полк, который сегодня отправляется на границу. В защитного цвета форме, в опанках, с зелеными ветками на шапочках. Трубят трубачи, барабанщики отбивают такт. Вид этого полка производит на меня трудно передаваемое впечатление. Нет внешней условной молодцеватости, скорее трагическая обреченность. Лапти на ногах и эта зеленая веточка на шапке – при полном боевом снаряжении – придают солдатам какой-то трогательный вид. И ничто в данный момент не характеризует для меня так ярко кровавую бессмысленность войны, как эта веточка и эти мужицкие опанки.
Уже десять дней, как железнодорожное сообщение в стране прекращено: поезда перевозят только солдат и боевые припасы. Последний восточный экспресс пришел сюда в среду, но не отправился на Софию, а вернулся на Вену. Если Белград – военный лагерь, то вокзал – сердце этого лагеря. Здесь распоряжаются исключительно военные власти. Посторонним вход воспрещен. Во дворе вокзала ружья составлены в козлы. Тяжело нагруженные лошади стоят готовые к отъезду. Свыше десятка повозок въезжают во двор; я ближе присматриваюсь к их поклаже: это – колючая проволока для заграждений, свернутая в могучие кольца. На часах и тут стоят не резервисты, а ополченцы, крестьяне за 45 лет, в рваных штанах, с ружьями в руке.
В Сербии немного менее 3 миллионов населения. Под ружье привлечено по последним сведениям, считая и ополчение, 300 тысяч человек. Это – пятая часть мужского населения страны, включая дряхлых стариков и грудных младенцев. Концентрированная рабочая сила страны вырвана на неопределенное время из ее хозяйственного тела. Если даже допустить, что кровавая чаша войны минует Сербию, – а на это надежды нет, – и тогда эта мобилизация на ряд лет потрясет основы существования молодой страны, которая так нуждается в мире, труде и культуре.
"День" N 3, 4 октября 1912 г.
Первые впечатленияЯ ехал на балканскую войну, считая ее не только вероятной, но неизбежной… Но когда я очутился на мостовой Белграда, увидел длинные ряды резервистов, штатских людей с знаками Красного Креста выше локтя, когда я услышал из уст депутатов, журналистов, крестьян и рабочих, что отступления нет, что война будет, что она будет на днях, когда я узнал, что несколько столь хорошо знакомых мне человек, политиков, редакторов и доцентов, стоит уж под ружьем, на границе, на передовой линии, и что им первым придется убивать и умирать, – тогда война, абстракцией которой я так легко спекулировал в мыслях и статьях, показалась мне невероятной и невозможной…
Отступления нет, война неизбежна, она начнется, она будет объявлена Сербией на днях. Телеграмма об ее объявлении по всем видимостям должна обогнать это письмо. Вся страна переведена на военное положение. Белград превращен в военный лагерь; хозяйственная жизнь приостановлена, поезда служат только целям мобилизации и концентрации войск, все расшатано и выбито из нормы, как если бы кто-то запустил гигантский железный заступ под самые корни народной жизни, – и если бы правительство попыталось теперь одним ударом приостановить всю эту страшную разрушительную работу и вернуть народную жизнь к норме, из которой оно само ее выбило, оно сломало бы только напряженный до последней степени рычаг государственной власти; нет сомнения, – попытка остановиться с разгона стоила бы существования правящей радикальной партии, а вернее всего – и династии. Это, конечно, не значит, что война обещает поднять шлагбаум, преграждающий путь историческому развитию Сербии и всего полуострова; это не значит также, что мир – менее ценная вещь, чем судьба министерства г-на Николы Пашича[21]21
См. в этом томе ст. «Никола Пашич» стр. 89. – Ред.
[Закрыть] и всей династии Карагеоргиевичей, но бразды этой маленькой и столь трагической по судьбам своим страны в их руках; в стране нет политической силы, которая могла бы им противостоять, а они, невольники своего положения, вызвали к жизни движение, на которое они уж не могут наложить заклятие. И если бы даже европейская дипломатия могла сегодня предложить нечто более внушительное, чем тщательно выправленную формулу; если б она со всей той энергией, которой ей не хватает, действительно выступила на защиту мира – было бы уже поздно: сербские войска перейдут границу и кровавой строкой откроют новую балканскую главу…
* * *
Опасаясь трудностей при переезде через сербскую границу, я дал из Будапешта телеграмму своим белградским друзьям, прося выехать мне навстречу в Землин, последнюю станцию на венгерской земле, которая тут одной только полутораверстной лентой Дуная отделяется от Белграда.
Меня встретили, но пограничных затруднений не оказалось. Хорватские жандармы, руководимые плотным господином в штатском, протянули железную цепь от середины деревянного барака к деревянным сходням и бегло опрашивали проходящих на пароход, требуя от иностранцев и вообще от незнакомых удостоверения личности. Цель этого контроля – воспрепятствовать габсбургским подданным из юго-славянских провинций монархии вступать добровольцами в сербскую армию. Как и все подобные полицейские фантасмагории, цель эта нимало не достигается глупой железной цепью.
На пароходе «Морава» мы пересекаем Дунай. Сыро и моросит дождь. Мимо нас, вниз по реке, идет пароход "Царь Николай II", нагруженный людьми в крестьянском и городском платье. Это – сербские резервисты, направляемые к восточной границе. Они поднимают вверх шапки, кричат «ура». Голоса их гулко разносятся над широкой рекой, воды которой уж не раз окрашивались человеческой кровью. Вместе с этим криком в душу проникает какое-то особенное, непосредственное, на расстоянии непередаваемое чувство трагизма: и бессилие перед историческим фатумом, который так плотно надвинулся на народы, замкнутые на балканском треугольнике, и боль за эту человеческую саранчу, которую везут на истребление…
По сербскому берегу Савы, которая тут вливается в Дунай, ходит пограничная стража – ополченцы, в мужицкой одежде, с ружьем. Высадившись на берег, я завладеваю единственным извозчиком, стоящим на пристани. Все – экипажи, люди, лошади – захвачено мобилизационным аппаратом. Два с половиной года тому назад я был здесь, – за это время город сильно поднялся, отстроился и почистился. Но, как экономический организм, он замер сейчас. Стоят фабрики и мастерские, – кроме тех, которые вырабатывают для армии сукно и оружие, – пустуют магазины. Нет рабочих рук, нет кредита, некому и не на что покупать. Лавочники и приказчики вяло переминаются с ноги на ногу у дверей и либо читают газету, либо толкуют с прохожими, которые, несмотря на непрерывный, мельчайшим бисером падающий дождь, собираются группами у дверей и на перекрестках. Развороченной стоит во многих местах мостовая: ее начали покрывать торцом, сняли на большом протяжении трамвайные рельсы, а теперь некому работать, да и не до мостовых теперь. Взад и вперед бродят по улицам резервисты в старой солдатской одежде и в опанках, кожаных лаптях. Останавливаются у окон с оружием, здороваются с земляками, отдают честь офицерам.
* * *
Мобилизация удалась вполне, Сербия выставит, по официальным правительственным сведениям, 220–230 тысяч солдат. Один полковник уверял вчера, что будь достаточное количество ружей, Сербия могла бы выставить до 360 тысяч душ.
Но каково настроение мобилизуемых? Хочет ли население войны? Верны ли сообщения о боевом воодушевлении?
Эти вопросы будут с вашей стороны вполне законны, но их легче поставить, чем ответить на них. Вот мимо моего окна прошла только что группа резервистов под руководством унтер-офицера, человек 50, в мягких шляпах и котелках, – очевидно, горожане, приказчики, рабочие, интеллигенты. Каково их настроение? Им самим нелегко было бы ответить на этот вопрос.
Я вчера провел вечер в обществе двух сербских журналистов, из которых один за войну, а другой – против. Вопрос, который я только что поставил себе от вашего имени, был центральным предметом их разговора. И мнения их на этот счет радикально расходились.
– Население хочет войны, оно не может не хотеть ее, ему не остается другого выхода, – говорил сторонник войны. Это не тот официальный «энтузиазм», о котором неизменно повествуют правительственные сообщения накануне всех войн, хотя бы и бесконечно далеких от нужд и забот населения. Здесь дело действительно идет о праве жить и развиваться. Народ не может не сознавать и не чувствовать, что помимо войны нет для него выхода из тупика. Народ хочет войны.
– Неверно, – ответил другой. – Война не откроет нам выхода. Официальная цель войны – эта жалкая 23-я статья Берлинского договора* – уж, конечно, не в силах внушить массам национальный энтузиазм. Кто же способен, в самом деле, проникнуться верой в благодетельность тех поверхностных административных реформ, к которым Турция должна быть вынуждена войною? Проливать кровь за будущего христианского генерал-губернатора в Македонии – может ли, спрашиваю я вас, такая цель воспламенить сербские массы? Другое дело – территориальные завоевания и выход к морю, создание более широкой базы для экономического и культурного развития страны. Такая задача способна была бы поднять и воодушевить народ на подвиги. Но ведь территориальные завоевания невозможны по сто и одной причине. Население – по крайней мере, все то, что мыслит в нем, – знает это, знает, что великие державы не допустят расширения Болгарии и Сербии за счет Турции. Оттого-то не может быть и веры в результаты войны, и нет энтузиазма. Война есть политическая неизбежность для династии и правящих групп, – народ не действует, он только отбывает повинность.
– Это заведомая предвзятость. Без народного воодушевления мобилизация не могла бы совершиться так блестяще.
– Ход мобилизации свидетельствует только об улучшении административного аппарата. Несомненно, радикальное правительство успело внести в эту область значительные улучшения, точно так же, как оно сумело упорядочить до некоторой степени государственные финансы. Население не сопротивляется мобилизации, это верно, но отсюда до воодушевления еще далеко.
– А пресса? Все газеты, за одним единственным исключением, – я говорю о "Радничке Новинс" (рабочая газета) – за войну. Все газеты говорят о восторженном отношении народа к военной инициативе правительства. Точно также – парламент. За вычетом двух-трех социал-демократических депутатов, все остальные единодушно и восторженно идут за правительством. Что ж это – случайность?
– Нет, к сожалению, не случайность. К сожалению, – ибо ни наша пресса, ни наши политические партии не являются выражением общественного мнения или, вернее, настроения страны. Крестьянские массы культурно слишком отсталы, политически слишком беспомощны, чтобы заставить правительство, партии и печать служить себе. Поэтому-то наши правящие группы так легко делают в политике и дождь и ведро. Наша пресса и наша скупщина выражают только мнение тех кругов, которые ведут нас к войне, – но не действительное настроение народа, которому война не даст никаких завоеваний, но который она может на десятилетия отбросить в состояние экономического и культурного варварства.
– Если успешный ход мобилизации и голос прессы не убеждают вас, то что вы скажете о добровольцах?
– Их не так много. А затем: в стране, где пятая часть мужского населения, считая старцев и младенцев, поставлена под ружье, – остальным уж почти нечего терять. И, наконец, случаям добровольного зачисления в армию я могу противопоставить несравненно менее частые, но не менее знаменательные случаи самоубийства резервистов.
На этом разговор закончился. А пока позволю себе воздержаться от выражения собственного мнения.
"Киевская мысль" N 274, 3 октября 1912 г.








