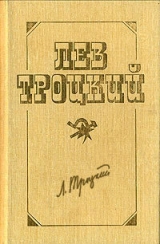
Текст книги "Том 6. Перед историческим рубежом. Балканы и балканская война"
Автор книги: Лев Троцкий
Жанр:
Политика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 44 страниц)
* * *
Что же, однако, пишет г. Викторов по существу вопроса, т.-е. о балканских зверствах? Мало пишет, но нехорошо пишет! Отрицая, признает и, признавая, отрицает. Старается огульно скомпрометировать все данные, на которые я опирался, и в то же время оставляет за собой путь отступления, обещая какие-то «настоящие» данные о балканских зверствах. Невнятно пишет г. Викторов, нехорошо пишет, и эту плохую и нарочитую невнятность «Речь» преподносит как запоздалую отписку.
В двух случаях г. Викторов отваживается на прямые опровержения: 1) в Мустафа-Паше не было "казней, превращенных в дьявольскую игру праздных офицеров", ибо там было "всего две казни", 2) "в Димотике не было совершенно никаких зверств, – это теперь уже установлено совершенно положительно".
"Всего две казни" в Мустафа-Паше. Где тут ударение: на двух казнях или на Мустафе? Хочет ли г. Викторов сказать, что вовсе не было многочисленных расстрелов жирных турок, под видом «казни» башибузуков и шпионов, или же он хочет только сказать, что я неправильно приурочил эту "дьявольскую игру" к Мустафе, где было будто бы "всего две казни"? Невнятно пишет г. Викторов. А пишет он невнятно, потому что знает больше, чем хочет сказать.
Насчет Димотики "теперь уже установлено совершенно положительно", что там не было зверств. Установлено? Значит приходилось устанавливать? Чем же это было вызвано: чьими-нибудь неосторожными корреспонденциями или осторожным молчанием г. Викторова? Кем установлено? Когда установлено? Почему «кто-то», сообщивший мне о зверствах в Димотике, вызывает в г. Викторове лишь чувства солидарности с цензурой, а «кто-то» (штаб?), опровергший эти сведения, вызывает с его стороны полное доверие? Какое неравномерное распределение сурового критицизма и стремительной доверчивости!
О жестокостях в Димотике передавали мне раненые болгары. Очень веское подтверждение и этим рассказам дал на основании личных наблюдений мне и д-ру Р. Годель, корреспонденту "Frankfurter Zeitung", г. Бомон – корреспондент "Daily Telegraph", большой болгарофил, отстаивавший необходимость передачи Константинополя болгарам. Может быть, «кто-то», инспирирующий г. Викторова, попросту зачислил операции в Димотике по ведомству «казней» или "необходимых мер военной предосторожности" и таким путем установил, что в Димотике все обстояло благополучно?
Но разве центр тяжести обвинений – в казнях Мустафы и зверствах Димотики? Почему только эти два примера выделяет г. Викторов и столь невнятно «опровергает» их?
Потому, что своим невнятным опровержением он надеется косвенно скомпрометировать остальные разоблачения, к которым он не смеет прикасаться.
О, г. Викторов "не хочет сказать, что нигде никаких зверств не было". Правда, он сам, такой охотник до "мельчайших подробностей", ничего не видал: не случилось. Гг. Пиленко и полковник фон-Дрейер (нововременцы), капитан Мамонтов из "Утра России" и Немирович-Данченко из "Русского Слова", Кузнецов из "Голоса Москвы" – тоже ничего не видали. Зверства случались, что и говорить, но те шесть русских корреспондентов, которые в отличие от многих других были допущены главным штабом в глубь театра военных действий, своими глазами ничего не видали: за всем не угоняешься. А те, которые кое-что видали, а хотели видеть больше, не были допущены штабом, либо даже высланы назад, в Софию. Таким образом, шесть названных г. Викторовым ничего худого не видевших очевидцев – это не просто корреспонденты, а праведники, отмеченные перстом штаба. Приходится допустить, что чувство благодарности расслабляющим образом подействовало на их органы наблюдения.
Но кое-что г. Викторов хоть слыхал, если не видал, – правда, уже после того как разоблачения жестокостей появились в русской и европейской печати. Он слыхал о насилиях в Македонии. Но тут дело шло не об армии, даже не о четах, а почти исключительно о "буйных македонских элементах, которые… упивались грабежом и местью". Почему же г. Викторов хоть об этом не писал раньше? Почему заговорил он о "буйных элементах" только теперь и то в целях опровержения чужих разоблачений? А не знает ли он чего-нибудь поближе об этих «элементах»? У меня, например, есть копия письма болгарского чиновника, отправленного в один из завоеванных городов Македонии к другому чиновнику в Софии, и в этом письме ошеломленный чиновник рассказывает, что в состав банды, члены которой при помощи убийств и грабежей составили себе в короткое время капиталы в 20–30 тысяч франков, входят не только низшие административные фигуры, но – по подозрению населения – также околийский начальник (исправник) и… митрополит!
Насчет чет г. Викторов почти ничего не слышал. А между тем, бесславием дел своих они заполнили все покоренные провинции, так что сербскому штабу пришлось распустить их еще во время военных операций. Болгарский штаб этого не сделал. В своем письме к г. Тодорову я прямо указывал на кровавую работу македонского легиона, и г. Викторов, если бы хотел, мог многое узнать на этот счет у бывших участников-добровольцев, находящихся в настоящее время в Софии.
А главное – регулярные войска. Здесь лежит центр тяжести обвинения. Я категорически утверждал и утверждаю, что прикалывание раненых и пристреливание пленных было возведено в систему. Я спрашивал, куда девалось то множество неподобранных турками раненых, о котором неоднократно сообщал болгарский штаб. Между тем, тут-то, в этом центральном вопросе г. Викторов становится окончательно невнятен. Он сам ничего не видал и не слыхал. Правда, он кое-что читал о болгарских жестокостях в немецкой прессе и даже относится "с известным доверием к этим, может быть, преувеличенным сведениям, потому что они собраны на местах путем сложной и кропотливой работы".
Правда, он твердо знает, что те самые цензурные демократы и радикалы, какие мешали нам своевременно поднять голос протеста, после войны (когда все жертвы будут перерезаны. Л. Т.) серьезно займутся вопросом о всех злоупотреблениях, о всех зверствах и сами формулируют свое, болгарское «j'accuse». И г. Викторов заранее твердо уверен, что это «j'accuse» будет «аргументированнее и потому страшнее» моих разоблачений.
Выходит, стало быть, что мои разоблачения не преувеличены, а скорее преуменьшены. Выходит, что в существе своем они совершенно правильны, ибо они подтверждаются "сложными и кропотливыми" немецкими расследованиями, к которым г. Викторов относится с известным доверием, а главное потому, что грядущие разоблачения штабных обличителей окажутся еще «страшнее». Выходит, стало быть, что источники мои были не так плохи и даже вовсе не плохи. Не считая для себя возможным отдаваться под покровительство болгарского штаба в качестве привилегированного (за способность не видеть и не слышать) журналиста и потому оставаясь в Софии, я, как оказывается, был вовсе не плохо осведомлен о той оборотной стороне воинских подвигов, на которую «привилегированные» закрывали глаза. Не скрою, что, отправляясь в Болгарию, я вовсе и не готовил себя к роли "певца во стане болгарских воинов". Я знал, что об этой стране с избытком позаботятся другие. И я не ошибся. В то же время я склонен был подозревать, что "певцы во стане воинов", подобно соловьям, ничего вокруг себя не видят во время пения. И в этом я тоже не ошибся. Как принципиальный противник войны, я, естественно, направлял свое внимание, прежде всего, на факты того развращения нравов, какое война неизбежно несет с собою. Кто же был этот осведомлявший меня «кто-то», о котором г. Викторов отзывается с таким презрением? Раненые болгарские солдаты и офицеры. Это они мне рассказывали о прикалывании раненых и пристреливании пленных – в Софии, как и в Белграде, – одни – с инстинктивным отвращением, другие – мимоходом и равнодушно, третьи – с сознательным нравственным негодованием. За этих моих осведомителей, которые только что явились с кровавого поля и, лежа на больничной койке или сидя с обвязанной головой в моей отельной комнате, во всех подробностях восстановляли передо мной ход событий, – за этих свидетелей и очевидцев моя совесть журналиста спокойна: в вопросе о болгарских жестокостях они напраслины не выдумают…
* * *
Да, разумеется, я не имел возможности проверить «мельчайшие подробности», я не производил «сложной и кропотливой» работы. Но то хотя бы немногое и недостаточное, что я знал, разве не обязывало оно меня немедленно поднять голос протеста и возмущения в русской печати? Разве журналист – прокурор, который составляет обвинительный акт на основании исследования всех условий и обстоятельств содеянного? Разве журналист – историк, который мирно дожидается накопления материалов, чтобы привести их в порядок? Разве журналист – только запоздалый бухгалтер событий? Разве самое имя его не происходит от слова journal, дневник? Разве он не несет на себе обязательств по отношению к сегодняшнему дню?
Г-н Викторов, в ожидании того времени, когда болгарские цензора станут обличителями, а болгарский штаб освободится от текущих дел, считает возможным – это его собственное заявление – "терпеливо ждать и примыкать к "заговору молчания" по отношению… к "вопиющим разоблачениям" г-на А. Ото". Он обещает нам за это в свое время поспорить – на гулянках – со штабом насчет наилучшего устройства цензуры и поддержать грядущие обличения отставных цензоров. После окончания войны, после того, как страшное дело будет сделано до конца.
Разве это не издевательство над общественным мнением! И в какое время считали Викторовы и, главное, их хозяева возможным «терпеливо» молчать по поводу балканских зверств? В то самое время, когда политические поджигатели изо всех сил стремились втравить в международную свалку нашу собственную страну. Разве не налагало это на нас, журналистов, на тех из нас, которые хотят быть честными журналистами, удесятеренного обязательства – раскрыть русскому народу глаза на ужасы и преступления, которые кроются за «патриотическим» и «национальным» фасадом войны? При этом была, разумеется, опасность ошибиться в деталях и перенести несколько «казней» из Лозенграда в Мустафу. Но в основе этих разоблачений, как показали дальнейшие данные, собранные к настоящему времени в газетах и книгах, была правда.
А в основе молчания лежало отнюдь не педантическое стремление выяснить факты в их мельчайших подробностях, нет, – в основе лежала ложь. Да, ложь. Политический расчет, нежелание кое с кем ссориться, а главное – нежелание сшибать кое-чью политику со страшными фактами. Ибо, когда дело касается "турецких зверств", от этого мнимого пуризма не остается и следа. В том самом номере, где г. Викторов проповедует добродетель терпения и молчания, напечатана, под жирным заголовком "Избиение христиан", агентская телеграмма об истреблении турками трех христианских деревень – со слов неведомой "молодой женщины с ребенком". И, ввиду этих обстоятельств, каким оскорбительным для нравственного чутья фарисейством звучит заключительная елейно-ехидная просьба г. Викторова – поделиться с ним моими взглядами на вопросы "профессиональной корреспондентской этики". У меня не было и нет желания вступать с ним на путь «этической» дискуссии. Но раз он на этом настаивает, то я могу лишь формулировать один принцип "профессиональной этики", который кажется мне самым неоспоримым и лучше всего исчерпывающим вопрос:
Не лги!
Вена.
"Киевская Мысль" N 39, 8 февраля 1913 г.
В порядке вещей!От укрывательства прижатая в угол «Речь» перешла к запирательству. Но ввиду полной безнадежности положения г. Милюков больше не показывается, предоставляя заметать следы старшему дворнику из «Печати» и некоему Викторову из Софии. Старший дворник продолжает «маханальную» тактику, т.-е. несет грубую чушь, с одной единственной целью – показать, что он бодрствует и состоит при доверенной ему метле.
Что касается г. Викторова из Софии, то с него, разумеется, взятки гладки. Почему Викторов писал о турецких зверствах и молчал о болгарских? Да потому, что этого требовал либеральный курс. Г-н Викторов, адвокат стамбулистского генерального штаба из проворовавшихся генералов, никому неизвестен, ни за что не ответственен и сам по себе никого не интересует. Он – лишь софийский человек при системе г. Милюкова. И он ли виноват, если ему задана неразрешимая задача?
Он спасается, как может. Совершенно обходя существо обвинений, он сосредоточивает свою умственную энергию на том, чтобы показать, что еще и не такие, как он, бывают на свете "собственные корреспонденты". В "Киевской Мысли", – рассказывает г. Викторов, – писали два корреспондента фальшивые корреспонденции из таких мест, в каких никогда не были. Верно ли это или нет, не знаю. Выяснить это – обязанность "Киевской Мысли". Что хуже: лгать ли о тех местах, где не был, как делали, по словам Викторова, два других корреспондента, или лгать о тех местах, где был, как это делает сам г. Викторов, – разбирать не стану. Но факты, которые я оглашал, сведения, на которые я опирался, не имеют никакого отношения к указанным двум корреспондентам, с которыми у меня не было решительно никаких точек соприкосновения. И солгал ли какой-нибудь корреспондент об осаде Адрианополя или нет, это была, во всяком случае, его индивидуальная ложь, за которую он, буде виноват, и должен понести заслуженную кару. А г. Викторов лжет не индивидуально. Он служит системе. А только о системе либеральной фальсификации общественного мнения и шла у нас речь.
Викторов спасается, как может. Стремясь отвлечь внимание от существа обвинения, он обличает меня перед читателями «Речи» в том, что я выступаю под разными псевдонимами, и рекомендует мне брать пример с… некоего Викторова из Софии, который, видите ли, всегда подписывается своей собственной подписью (и за этой никому неведомой подписью, прибавим, укрывается, как за каменной стеной).
Что я пишу под псевдонимами, это верно. Но я не сомневаюсь, что даже старший дворник «Речи» знает, почему я, подобно многим моим друзьям, лишен привилегии гг. Викторовых подписываться всегда и везде "своей единственной подписью". Это никогда не зависело от моей доброй воли. Если Викторов из Софии, адвокат стамбулистского штаба, связанный, по собственному признанию, круговой порукой «добросовестности» с нововременцем Пиленкой, бросает мне этот факт, как обвинение, то это только в порядке вещей. Но что «Речь», столь строгая насчет разоблачения псевдонима нововременца Медведского, печатает эту трусливую, ибо не доведенную до конца, гадость своего сотрудника, это… впрочем, это тоже в порядке вещей.
Одно могу сказать: под какими бы псевдонимами ни вынуждала меня писать проклятая судьба, я всегда сохраняю одинаковое презрение к либеральной журналистике, которая братается с Пиленкой, вступается за неприкосновенность Медведского и обвиняет русского социалистического журналиста в пользовании «псевдонимами».
"Луч" N 53 (139), 5 марта 1913 г.
На защите «добросовестного молчания»Итак, еще раз и, надеюсь, в последний раз о г. Викторове, который, считая «добросовестное молчание» долгом журналиста по отношению к балканским зверствам, в других случаях считает своим долгом недобросовестную разговорчивость.
Г-н Викторов, выдвинутый «Речью» на передовые позиции оборонительной линии, вообразил, по-видимому, всерьез, что дело идет действительно о нем самом: что русское общественное мнение сгорает от нетерпения узнать, почему именно он, г. Викторов, молчал, как убитый, – хотя был жив и здрав, – в то время как убивали других. Редакция «Речи» с своей стороны не считает нужным разъяснить г. Викторову его фатальное недоразумение – по той простой причине, что гораздо удобнее подставлять под удары бока г. Викторова, чем свои собственные.
Но дело все-таки не в г. Викторове. То, что было в его молчании индивидуального, никому не интересно. Было ли это молчание «добросовестное», негодующее, предостерегающее или еще иное – это нам в высшей степени безразлично. Молчание г. Викторова совпадало с молчанием всей «Речи». А молчание «Речи» совпадало с молчанием всей славянофильской и славянофильствующей печати. Молчали и молчат «Речь», "Русская Молва", "Русское Слово", "Новое Время", «Россия». Только об этом всеобщем, прямом и равном молчании и шла у нас речь, а никак не об индивидуальном молчании г. Викторова, одобренного болгарским генеральным штабом к употреблению в качестве ручного и безвредного журналиста. Правда, г. Викторов ручался за добросовестность всех молчальников, смотревших и не видевших, слушавших и не слышавших: он удостоверял своей подписью, что Пиленко из "Нового Времени" в наложенном им на себя подвиге молчания был также «добросовестен», как и Викторов, и что он, Викторов, отличается той же добросовестностью, что и Пиленко. Но тут дело испортила сама «Речь», назвавшая балканские писания г. Пиленко подхалимовскими. А читающей публике, согласитесь, совершенно невозможно отличить на большом расстоянии квалифицированно-добросовестное молчание г. Викторова от подхалимовского молчания г. Пиленки. Читающая публика считает себя вправе вообще отказаться от выяснения индивидуальных мотивов молчания г. Викторова, который так бесцеремонно ввел собственную маленькую фигуру в центр большого вопроса. Для общественного мнения остается политический факт: по поводу жестокостей, учинявшихся болгарами и сербами, молчали «Речь», "Новое Время" и «Россия». И если поверить на слово г. Викторову и захотеть объяснить это односторонне-выдержанное молчание «добросовестностью», тогда придется признать, что рекорд добросовестности побила, во всяком случае, «Россия». Ибо «Речь», хоть и с обиняками, кое-что уж признала. Пиленко еще раньше кое на что чуть-чуть намекал, а вот официозный славянофил Гурлянд* до сих пор не сказал ни одного слова. Следовательно, уравняв себя в добросовестности с Пиленкой, г. Викторов до нравственных высот Гурлянда так-таки и не дотянулся. А общественное мнение, – т.-е. та его часть, которою мы дорожим, – имеет полное право пройти мимо тех мотивов, которые руководили Викторовым, Пиленкой и гурляндовскими агентами – каждым в отдельности. Оно, это общественное мнение, уже сделало тот простой и неоспоримый вывод, что если «Речь», с одной стороны, «Россия», с другой, – каждодневно и, разумеется, без всякой проверки доставляли своим читателям сведения о турецких зверствах, шедшие, преимущественно, из болгарских и сербских источников, и в то же время замалчивали все сведения о болгарских и сербских жестокостях, шедшие не из турецких, а из русских, немецких, французских и английских источников, – следовательно, для такого образа действий были свои общие причины, лежащие не в нравственных качествах Викторова 17-го, а в интересах известной политики. «Политика эта такова, стало быть, – умозаключил читатель, – что требовала преднамеренного сокрытия от меня целой полосы фактов и явлений. Одобрять или даже принимать эту политику можно, стало быть, лишь не зная всех элементов, из которых она слагается. Но политика, – внешняя или внутренняя, – которая требует введения в заблуждение общественного мнения страны, есть плохая политика. Этой политике я доверять не могу. А до литературного целомудрия Викторова 17-го мне дела нет».
* * *
Но г. Викторов ни за что не хочет примириться с такой принципиальной постановкой вопроса. Он требует, чтобы не забывали при этом его самого, его пятилетнего пребывания в Болгарии, его осведомленности, его добросовестности, его благородства. В организованной славянофильством круговой поруке молчания он не согласен быть Викторовым 17-м, он хочет быть единственным в своем роде.
Он на каждом шагу тычет читателю свое пятилетнее пребывание в Болгарии, как будто ценз оседлости заменяет собою ценз добросовестности или ценз… проницательности! Вместо того чтобы прямо и просто ответить на вопрос: истребляли ли болгарские войска помаков, пленных и раненых турок и вешали ли мирных жителей под предлогом шпионства, он провозвещает моральные сентенции, вроде той, что прогрессивная пресса должна "стоять на страже истины, прежде всего и вопреки (!) всему", и что поэтому… что поэтому?…поэтому он, Викторов, молчал и молчит относительно таких фактов, детали которых он, конечно, не всегда мог установить, но в существе которых он нисколько, разумеется, не сомневается. В этом и состоит скверная сторона всех этих мнимых возмущений, всего этого самоохорашивания, этих ударов кулаком в собственную грудь. Все это – тартюфство – и только. Знает г. Викторов, знает и не сомневается, что прославленный Радко Дмитриев отдавал приказ принимать меры к ускорению транспорта путем истребления раненых и пленных турок, и что приказ этот широко применялся. Знает г. Викторов, что, под видом шпионов и башибузуков, истреблялись мирные турки. Знает, что дочиста снесено было село (одно ли?) крестьян-помаков. Все знает. Знает он, что в качестве корреспондента он вовсе не обязан был давать точный подсчет или именной перечень всех зарезанных и изнасилованных, но что он обязан был не скрывать самого факта массовых зверств, – факта, в котором он не мог сомневаться. Не сомневался в этом ни один из тех русских корреспондентов, с которыми мне приходилось встречаться, – а большинство их писало в славянофильствующих газетах. Мне известно, в частности, что одна из этих газет тщательно вытравляла из писаний своего софийского корреспондента малейший намек на болгарские жестокости, – даже такой, который проходил сквозь сито цензуры. Поступали ли так же и другие славянофильские редакции, или же корреспонденты у них сами были «догадливее» и в поисках синей птицы абсолютной истины умели не видеть той страшной правды, которая вокруг них творилась, – это, разумеется, все равно. Но круговая порука молчания была политическим фактом, и читатель русский никогда не забудет, что его обманывали в одну из самых критических эпох политической жизни Европы. И ввиду этого обстоятельства г. Викторову из «Речи» стократно выгоднее раствориться в остальных шестнадцати Викторовых, чем заботиться о том, чтобы облик его надолго запечатлелся в памяти читателя.
* * *
Политический облик г. Викторова вполне выяснился для меня уже из его первого полемического фельетона, где он взял на себя защиту болгарской штабной цензуры против обвинений – не только моих, но и всей вообще независимой печати. Он там развил – и «Речь» отвела ему для этого свои столбцы – вотчинно-полицейский взгляд на военную цензуру, как на мать-командиршу, которая не только охраняет тайну военных операций, но и блюдет добронравие журналистов, проверяет источники их познания и направляет их на правый путь. Он взял под свою защиту тех болгарских «радикалов», которые сочли для себя возможным превратиться в цензурных агентов стамбулистского штаба, чтобы препятствовать журналистам разоблачать насилия и таким образом налагать на насильников узду. Несгибаемый софийский легитимист «Речи» требовал молчаливого признания цензуры, как dura lex.
Я имел неосторожность заметить мимоходом, что в этом определении штабной цензуры – "дура лекс" – нужно вычеркнуть, по крайней мере, второе слово, ибо болгарская военная цензура не «лекс» (закон), а свободное, сверх-законное творчество стамбулистского генерального штаба. Викторов не удержался и поторопился даже в этом совершенно побочном вопросе показать себя во весь свой рост, как правдолюбец, одобренный штабом к употреблению. "Ваше указание на государственный переворот, – пишет г. правдолюбец, – путем которого якобы только и удалось ввести в Болгарии военную цензуру, является просто результатом вашего, г-н А. Ото, незнания болгарской конституции". Читатель – человек от природы робкий, и тон натиска рассчитан здесь на то, чтобы запугать его. Однако же, вместо этого голословного утверждения было бы лучше, если бы г. Викторов попросту сослался на ту статью болгарской конституции, в которой он отыскал законное основание для цензуры. Этого, однако, Викторов не делает. Почему? Да потому, что такой статьи нет. Военная болгарская цензура вполне анти-конституционна. Это не только мое мнение и не только мнение всей действительной болгарской демократии, – так же точно смотрят на вопрос и те моральные болгарские «октябристы», которые видят в цензуре "печальную необходимость". Но где же и когда реакционные посягательства на конституцию не оправдывались требованиями «необходимости»!
Как смотрит сам штаб на свое незаконное детище, не знаю. Но не сомневаюсь, что штаб весьма заинтересован в том, чтобы его частичный coup d'etat истолковывался, – вопреки голосу демократии – как акт, находящийся в полном согласии с конституцией. Такого истолкования г. Викторов не дает потому, что не умеет. Но он делает такое утверждение. Он показывает, что "рад стараться", раз дело идет о защите болгарской военной реакции от обвинений со стороны болгарской и русской демократии. Таков этот рыцарь "сей истины".
"Киевская Мысль" N 66, 7 марта 1913 г.








