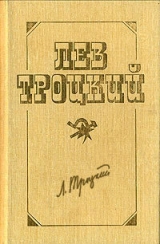
Текст книги "Том 6. Перед историческим рубежом. Балканы и балканская война"
Автор книги: Лев Троцкий
Жанр:
Политика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 44 страниц)
Поездка в Добруджу
I. В пути
В курьерском поезде из Бухареста на Констанцу все еще чудовищная теснота, так как люди и вещи еще не успели распределиться как следует по стране, после вызванного мобилизацией паралича железнодорожных сообщений.
Поезд отходит в 4 1/2 часа дня. Едем по плодороднейшей, но, в общем, монотонной равнине. Безветренно, безоблачно, сухо и жарко. Жара степная, безжалостная, изнуряющая, от которой высыхает и морщинится горло. Бархат сидений преет, клеенка размягчается и прилипает к платью, и накаленные докрасна соседи, справа и слева, кажутся извергами, достойными виселицы. После получасового пребывания в купе исчезает даже и эта ненависть к соседям: достигаешь того состояния полной физиологической деморализации, когда человек уже не обмахивается, не отдувается, не обтирается, не пьет, не жалуется, а беззвучно и тупо томится. Еще через полчаса, когда «Дракон» Федора Кузьмича Сологуба (поистине, я тут впервые познал в солнце дракона) стал уставать предвечерней усталостью, осоловевшие и отупевшие пассажиры зашевелились, понемногу приходя в себя: дамы мыли руки одеколоном и слегка наводили пудру, мужчины оправляли галстуки, завязывались разговоры. Любезный сосед предлагает новые папиросы – "La paix de Bucharest". Мы курим их и меланхолически следим, как "Бухарестский мир" превращается в пепел и дым. Не пророчество ли в этом?..
В центре всех перекрестных бесед – холера, которая, под шум демобилизации, министерских интервью, партийных интриг и газетной полемики, уверенно делает свое дело. С нами в купе фотограф-француз, разбогатевший в Констанце и обзаведшийся там румынской семьей, его жена, дочь, жених дочери и еще девушка, строгого и энергичного вида, как оказывается врач, на несколько дней едущая на побывку к родным из Корабии, с холерного поста.
– Пишут и говорят про непорядки, – рассказывает она, – но, ведь, непорядки непорядкам рознь. Я застала в Корабии один ужас, – это портовый наш город на Дунае, в нем тысяч 30 жителей, преимущественно болгар и греков, – прямо-таки уму непостижимо, что я застала там. Военные врачи не хотели ничего делать, боялись, понимаете ли, боялись подойти к больному, иные доктора подозрительных по холере разглядывали в бинокль. В этом сказалось то боярское презрение к жизни простого человека, крестьянина, солдата, которое так характерно для нашей Румынии. В Корабию болезнь занесли возвращавшиеся солдаты, а дальше развезли ее по ближайшим пяти департаментам крестьяне-погонцы, привозившие в армию съестные припасы. Их прошло 5 тысяч возов, и никто не подумал об опасности. Только когда погонцы стали падать от холеры, власти спохватились и решили учредить в ближайшем болгарском селе Бешликвой карантин. Задержали там 2 тысячи новых погонцев, окружили их под открытым небом цепью солдат, а есть не давали ни крестьянам, ни скоту, потому что нечего было. Им обещали, что в пять дней сделают необходимые исследования и отпустят их. Но для исследования не было ничего, даже микроскопа. Крестьяне заявили, что больше не могут терпеть, и хотели прорваться. Вызвали еще 40 солдат и пригрозили стрелять. Крестьяне говорят: "Что хотите делайте, нет сил мучиться дальше голодом, под дождем, возле голодного скота". Грозили с отчаяния в Дунай броситься. Среди них, конечно, распространилась холера, – и вот представьте себе: ни медицинской помощи, ни пищи, под дождем, мертвые вповалку со здоровыми. Мы, врачи, продержавши крестьян две недели, решили отпустить их без всякого исследования… В самой Корабии, где мы превратили в лазарет большую окраинную избу, то же самое: ни сыворотки, ни инструментов, ни достаточной пищи. Я привезла с собой для чая машинку-примус да кастрюльку, и вот в этой кастрюльке пришлось и шприцы стерилизовать и чай себе кипятить. Вследствие отсутствия дезинфекционных средств низший санитарный персонал стал вымирать от холеры, оставшиеся в живых разбежались, и нам, врачам, приходилось не раз самим выносить мертвых, укладывать в гробы и даже закапывать. При таких условиях смертность колоссальная, более 75%. В госпитале были матери с грудными младенцами, отцы с детьми, и потом вслед за родителями, помиравшими от холеры, гибли дети, за отсутствием молока, понимаете, умирали с голоду на наших глазах. А в зараженных деревнях и того хуже. Власти совершенно потеряли голову. Пробовали блокировать холерные деревни: окружали их цепью и не пропускали никого и ничего ни туда, ни оттуда. Обреченные на гибель крестьяне грозили сопротивлением, и блокаду пришлось снять. Население во всем обвиняет военное начальство, которое не предпринимало никаких мер предосторожности, точно и не слыхало, что в Болгарии холера. Во Враце, например, поставили полк прямо-таки у очага холеры. Полковой врач, – он мне сам рассказывал, – потребовал, чтобы командир передвинул полк. "Нельзя!" – "Почему?" – "Стра-те-ги-че-ские соображения не позволяют". А какая там стратегия, когда у болгар остались лишь дети да старики? Надутое фанфаронство да чванное легкомыслие, – вот и весь багаж наших военных властей. Знаете, в Корабии их ругали открыто, везде и всюду: на улице, в ресторанах, в кофейнях, – а офицеры находятся тут же и, потупясь, молчат, чувствуют себя как в неприятельском лагере… Худо, очень худо. Приобрели ли мы еще в новой Добрудже столько народу, сколько его погибнет от холеры!..
В вагоне-ресторане (вчера в этом самом вагоне был холерный случай) сидит нарядная и веселая публика, среди которой особенно выделяются господа офицеры – в лакированных сапожках, с чрезвычайно узкими талиями (дамы теперь таких не делают) и с французским прононсом. Усаживаясь за столиками, они ленивыми движениями, не глядя, снимают свои шпаги, с видом людей, которые, завоевав для отечества провинцию, приобрели для себя скромное право отдохнуть за бутылкой вина. В центре одной из групп восседает нарядная дама, оказывающаяся популярной метрессой одного не очень популярного сенатора. Ее французский дорожный костюм, кольца, часики в бриллиантах и трехметровая золотая цепь очень красноречиво свидетельствуют о внушительной емкости румынского государственного бюджета.
Приближаемся к Дунаю. Становится совсем темно. В ярко освещенный вагон через открытые окна набиваются комары с реки и болот, тучи, мириады комаров. При первом их появлении публика беззаботно отмахивается и шутит, но вскоре дело принимает серьезный оборот. Комары вьются сплошным роем вокруг головы, забираются за ворот, в рукава, покрывают скатерть, тарелки, стаканы и постепенно доводят всех до отчаяния. В воздухе мелькают руки, салфетки, газеты, все мотают головами, быстро перебирают под столом ногами, дергают плечами, иные заворачивают всю голову в газетный лист. Вагон превращается в сумасшедший дом. Закрыть окна невозможно из-за духоты. Наконец, вагонный служитель тушит электричество. Вагон погружается в полутьму, комары замирают, публика приходит в себя, а вокруг популярной дамы – "шепот, робкое дыханье" и виднеются в силуэтах сложные маневры всех родов оружия.
За дунайской долиной начинается Добруджа, т.-е. уже подлинный и бесспорный Балканский полуостров. На протяжении 16 километров поезд проходит над долиной Дуная – по двум мостам и каменной плотине. Сейчас темно, но на обратном пути я добросовестно рассматривал, согласно указания Meyer'a, главный дунайский мост, колоссальный и легкий, построенный в 1890–1895 г.г. итальянским инженером Saligny. Гигантские бронзовые статуи румынских пехотинцев по обеим сторонам моста напоминают путешественнику, что суша и вода одинаково стоят на Балканах под знаком милитаризма.
230 километров от Бухареста до Констанцы мы совершаем в 5 часов, так что в Констанцу приезжаем в 9 1/2 часов вечера. На вокзале нас встречает Козленко, «потемкинец», – он служит кучером в имении матери моего приятеля болгарского врача, с которым мы вместе совершаем путешествие.
– Ну как, Козленко, все у нас благополучно?
– Да, ничего, господин доктор, рапицу всю посеяли, уж она из земли вылазить стала… Только что паровой плуг у нас сломамшись, будь он неладен, четыре дня не работали. Опять же серая кобыла захромала…
– Старая или молодая?
– Нет, которая молодая.
Этот диалог звучит для меня музыкой. Где я: в Добрудже или же в Елисаветградском уезде, в незабвенной Громоклеевской волости?..
Идем на пристань дышать Черным морем. Этого запаха я не слышал полтора десятилетия, за это время сколько событий исторических случилось, а запах все тот же: не очень приятный, но страшно убедительный.
Налево – огромное, ярко освещенное, нарядное офицерское казино. Доступ туда еще не свободен: нужно каждый раз брать в штабе особое разрешение.
Слышу невдалеке русско-болгарский говор: другой потемкинец, слесарь, с гигантом-болгарином ждут своего приятеля с пароходом из Балчика, из новой румынской пристани.
Констанца мысом вытянулась в длину, и с обеих сторон своим гниловато-соленым дыханием дышит на нее Черное море.
Мы бродим по главной улице, ярко освещенной высокими электрическими фонарями. На площади, где играет военный оркестр и скользят нарядные дамы, стоит памятник Овидию*, и мне напоминают, что тут, под Констанцей, в Томи, римский поэт отбывал свою административную ссылку. В климатическом отношении эти места имеют, во всяком случае, значительные преимущества пред Киренским уездом Иркутской губернии.
В Констанце, по последней переписи, около 25 тысяч жителей, среди которых вряд ли менее 25 национальностей. Такова же и вся Добруджа. Вот бы где эсперантистам попытать свои силы!
II. Вокруг Мангалии
Потолкавшись по городу, потолковав с директором местного банка и председателем констанцского земства насчет «квадрилатерных» перспектив, выкупавшись в море и купив на дорогу фруктов у двух албанцев, мы выезжаем из Констанцы к вечеру на маленькой бричке, которая тут зовется «тресурой» и которая действительно трясет выше всякой меры. Дорога – русская, пыльная, наша херсонская дорога, и куры как-то по-русски удирают из-под лошадиных копыт, и вокруг шеи у малорослых коней повязаны веревки русские, и спина у Козленки русская… Ах, какая у него русская спина: всю землю обойдешь, такой спины не сыщешь, кроме как в Орловской губернии. «Но! Пасман, ленивая стерва!»… – Там, в Орловской губернии есть у Козленки семья, с которой он расстался, когда шел в матросы, не предвидя, что на всю жизнь превратится в изгнанника, – «потемкинца», – десять лет не видал жены и сына, да и не увидит уже никогда. Последнее письмо на свою деревню подавал четыре года назад. Теперь Козленко один на свете. Он угрюмо глядит не в глаза, а мимо, но совсем лишен так называемого «хохлацкого» лукавства, наоборот, слишком прост. «Теперь уж и по-румынски знаю, – говорит он мне, – по-болгарски трошки знаю, да трошки по-турецки, – уже не помру с голоду нигде, хлеба сумею попросить»…
В получасе от Констанцы останавливаемся в селе, где пять русских скопческих домов: хотим с доктором лошадей посмотреть у скопца, прицениться; военная реквизиция забрала в имении лучших лошадей, а теперь вот Козленко в Констанце одну только нашел, слабосильную, а что сталось с остальными, неизвестно. Рассказывают, что офицеры при демобилизации покидали своих плохих коней и выбирали себе из реквизированных, которые получше. У околицы встречает нас старший из трех братьев-скопцов, ведущих совместное хозяйство; ему лет 35, большой и обрюзгший, а с лица подросток. Подсаживается в тресуру.
– Все, господин доктор, в городу были, дела ломали, – говорит он, намекая на политическую деятельность доктора. – Да надо же кому-нибудь! Я не хочу, он не хочет, да и все мы не захотим, так я полагаю, что кому-нибудь же надо. Правильно я говорю или нет?
Идем сразу в загон глядеть лошадей. Козленко смотрит со страстью, он лошадям друг преданный.
– Вот эти першероны вчерась из реквизиции повернулись, а ничего, гладкие. Хвосты им только для чего-сь поотрезали, ироды, совсем оконфузили лошадей.
Скопец заламывает за лошадей фантастические цены и заодно уж предлагает откупить у него тресуру. Идем к нему в беседку чай пить. Подсаживаются два младших брата, неопределенного возраста, от 18-ти до 30-ти лет, а позже приходит и дядя, робкий старик, видно, победнее. На стол все ставят сами мужики; бледные, облезлые бабы дальше порога не высовываются. Разговор идет неопределенный, любезный, чайный.
– Ваня, а Ваня, – кричит старший хозяин Козленке, – иди и ты с нами чай пить!
– Не хочу, спасибо…
– Да иди, ничего!..
– Не хочу, я его в Констанце еще поутру пил и вчерась пил. Не хочу боле.
– Золотой у вас Ваня человек, господин доктор, – говорит умиленно «дядя». – Таких работников нету. Как у вас лошадь пала – плакал. Чего, говорю, плачешь, – не твоя? Да как же, говорит, жалко… Когда один в обрат едет, всегда шагом. Такой милован до лошадей, уж такой милован, другого такого не найти. А то вот у нас сосед цыгана в работники нанял, так беда, они на день двадцать разов дерутся… Уж он все боится: как бы, говорит, еще с ними криму (уголовщины) не вышло.
– А не скучно вам на чужой стороне? – спрашиваю хозяев.
– Да с чего, господин, скучать, – привыкли. Работаем свою обязанность, вот и все. А и поскучаешь, ничего не поделаешь. Это будь у меня капиталы, поехал бы, может, зимой со скуки в страйнатате (за границу). А без дивидентов нам скучать нельзя.
– Ну, да ведь вы не без деньжонок: тысяченок несколько у каждого припасено…
– А кто их мне дал, господин доктор, будем так говорить, – с явным раздражением в голосе возражает хозяин и затем продолжает отвечать на мой вопрос. – Об политике тоже зимой разговариваем. У нас тут на селе есть и молдаване, и греки, и турки, и болгары, и, например, армянин один был – весной помер, цыганы тоже есть, одним словом, всякого сословия народ. Соберемся промежду себя и говорим: все у нас есть амбассадоры, – турецкий, греческий, русский, армянский, – давайте иметь разговор про политику. Так и занимаемся.
– А как теперь, господин, в Расее? – спрашивает «дядя».
– Давно я из России…
– И вы давно, как и мы значит… Наши сюда недавно наезжали, из Сибири, они там прежде в ссылке были.
– Как же, как же, я ваших в Сибири много видал.
Слегка оживились.
– Видали?
– В 1900 году по реке Лене в одном с ними паузке десять суток плыли. Ваших душ сорок было. Потом они под Олекминском огородничеством занялись, хорошее хозяйство устроили, разжились…
– Так, так… А когда вышли им права из Сибири ворочаться, они огороды продали, в Расею приехали, там не выстроились, назад подались, а там уже нет ничего, так совсем и разорились, сюда к нам наведывались…
Кругом беседки яблони, груши, везде порядок. А скучно как-то, пресно, томительно. Чего-то не хватает. Жизни не хватает, детей не хватает, матерей не хватает. Лица отекшие и, несмотря на всяческую учтивость, неприятные.
– Да вы кушайте, пожалуйста, чай, кушайте! У нас расторгуевский, три рубля фунт. Сделайте милость, пейте еще!
Едем дальше. Бойко бегут лошадки, своего заводу, взращенные Козленкой, – он успел уже после 1905 году взрастить на румынской почве два лошадиных поколения.
– Неприятные люди, – говорит доктор, – не люблю я их. Они не только скучные, но сварливые, завистливые, жадные. Они не знают чувства сострадания и не прощают никакой обиды. Я их хорошо знаю: под Мангалией есть у нас целое скопческое село Доомай ("Второе мая", значит; это румынское 19 февраля). Так я вам для характеристики нравов интересный случай расскажу. Служил у нас лет восемь тому назад кучером старый скопец Василий, с любопытным прошлым. Во время русско-турецкой войны он был в Плоештах биржарем (извозчиком) и вслед за русской армией переехал в Софию. У болгарского князя Александра Баттенберга своей кареты еще не было, и Василий состоял при князе со своим выездом; он же возил князя и в Сербию с визитом, – железной дороги между Софией и Белградом тогда еще не существовало. Наконец, в 1886 году, когда Баттенберга сбросили, Василий отвозил его в последний раз на дунайскую пристань Лом. Баттенберг дал ему тогда за верную службу 50 наполеондоров, жал руку и плакал, – так рассказывал Василий… Скопил этот самый Василий тысяч 40 франков, да отдал их на постройку домов в Софии русскому офицеру, у которого сына крестил. Дела у офицера не пошли, а в 1885 году отозвало его русское правительство вместе с другими офицерами из Болгарии, – так все Васильевы деньги и пропали. Возвратился он снова в Румынию, без средств, и стал наниматься кучером к помещикам, у иных оставался по три, по четыре года. К нам он поступил в 1905 году, было ему уже за 60. Отличный кучер! Однако, прослужил недолго: через два-три месяца приключился у него паралич. Я отвез его в Мангалию в больницу, пролежал он там месяца полтора, оправился, его выписали, но стал он полным инвалидом. Власти решили сдать его на попечение доомайским скопцам. Те всячески сопротивлялись: Василий, мол, не наш, мясной суп ел, от веры отступился и пр. Но власти все-таки заставили принять. Прожил, однако, старик у них недолго. Через некоторое время я узнаю, что один из скопческих заправил, Кравченко, забрал в один прекрасный день Василия, будто бы в Констанцу, да и девал неведомо куда, – Васильев и след простыл. А слух пошел, что Кравченко утопил старика с ведома других скопцов, чтобы скинуть обузу. И это вполне вероятно, я лично в этом не сомневаюсь. Кравченко этот был мошенник отъявленный: он сильно понатерся в городе, узнал румынские законы, а главное – всякие ходы и подвохи, и стал, вернувшись в село, дела ворочать. У скопцов были в обычае сделки на совесть, а Кравченко научил такие сделки нарушать и проданное однажды продавать вторично. Только кончил он плохо: его самого убили. Он перекупил уже проданную однажды ветряную мельницу, возле этой мельницы и нашли его с пробитой головой… Наблюдая жизнь скопцов, убеждаешься, знаете ли, методом от обратного, что пол есть начало социальное, источник альтруизма и всяческого вообще человеческого благородства…
Козленко слушает с своего места и, видимо, сочувствует.
– А не стоит у них, господин доктор, коней покупать: дуже дорого просят. Других найдем. А тресура ихняя и вовсе не годится, не имеет фасону, у ей ящик приличный только разве для каруцы.
Едем мы на юг, все время берегом моря, и запах его сопровождает нас неотступно. Проезжаем мимо целебных грязей и санаторий, куда больные съезжаются со всех концов Румынии. Останавливаемся передохнуть в большой болгарской деревне Тузле, как раз посредине меж Констанцей и Мангалией, куда держим путь. Корчмарь, старик-болгарин, подает нам по ломтю поджаренного качкавалу с турецким кофе. Направо от нас три болгарина из квадрилатера, едут по делам в Констанцу. Налево русская речь: русский шорник, живет здесь 20 лет, с ним два русских немца, это – колонисты, переселившиеся в Румынию из России. Вавилонское столпотворение Добруджи глядит на нас из каждого угла. Мы условливаемся с квадрилатерными встретиться в Мангалии и снова садимся в тресуру.
Становится темно. Запах травы и дорожной пыли, потемневшая спина Козленки и тишина вокруг. Держась друг за друга, дремлем. – Тпррр… – Козленко останавливает на дороге лошадей, терпеливо ждет и задумчиво насвистывает им. Тихо, кровь зудит в ногах, и кажется, что едешь на каникулы в деревню Яновку[54]54
Деревня Яновка, Зиновьевского округа Украинской С.С.Р. – родина Л. Д. Троцкого. – Ред.
[Закрыть] со станции Новый Буг. Трогай, Пасман!
* * *
Приехали в Мангалию. Старый уездный дом, низкие двери, низкие потолки. Семья владельцев родом из Котела, из самого сердца Балканских гор. Отец и дед пастушествовали и захватывали свободные пространства все дальше к северу от Балкан. Этот процесс пастушеской колонизации южной Добруджи закончился в 50-х годах прошлого столетия. Старухе, охраняющей дом, его порядки и традиции, 75 лет. Большую половину своей жизни она провела под турецким игом. Муж ее, умерший несколько лет тому назад, был чорбаджием, т.-е. богатеем, представлявшим общину пред турецкими властями. Семья эта, известная в болгарстве, историческая. Савва Раковский, знаменитый деятель болгарского национального возрождения, «мечтатель безумен», по определению Вазова, сидевший с отцом своим в константинопольской тюрьме, повторно осуждавшийся на смертную казнь, – этот патриарх болгарской революции, умерший в 1867 году в Бухаресте, приходился старухе-хозяйке родным дядей. В доме собран единственный в своем роде архив по истории болгарской борьбы за национальную независимость.
Шкафы с книгами, старые наивные олеографии, замысловатой формы печи, домотканные ковры без числа, занавески везде, где можно, стеганые одеяла, а в окна запах моря, которое тут же, в пятидесяти шагах.
На другое утро осматриваем Мангалию. Город, несмотря на все свои тысячелетние традиции и на звание "второго порта" Румынии, совсем заштатный, менее 2 тысяч душ населения. Под турецким режимом Мангалия видывала лучшие дни. После русско-турецкой войны, когда северную Добруджу отрезали от южной, т.-е. от нынешнего «квадрилатера», и передали Румынии, Мангалия утратила свое торговое значение и захирела. Теперь, с присоединением новой провинции, город снова должен подняться… Сегодня Байрам. Татары разъезжают в повозках, стреляют из револьверов. "Байрам бумбарекы олсун!" – "Эвала, эвала!"… С мечети поет на все четыре стороны мюлезим какие-то невнятные тексты.
Солнечно, ярко, взморье блестит ослепительно, шхуны у пристани, бронзовые цыганята плещутся у берега. Турецкие цыгане в пестрых тюрбанах, широчайших красных, зеленых или желтых поясах, изукрашенных тесьмой штанах, с разрезами на икрах, справляют Байрам. Скопчиха, не оглядываясь по сторонам и не отвечая на наше приветствие, несет что-то с базара в свое село. Козленко возвращается домой с фунтом качкавалу, и я замечаю, что у него на левой руке вытатуирован якорь.
– Да вы, оказывается, были опасно ранены, Козленко? Мне доктор рассказывал.
– А то разве нет? В Феодосии солдаты с берега стреляли, как мы в шлюпке ехали. Пуля в бок вошла, а в спину вышла, только видать, что вред небольшой сделала. Как доктор к нам на корабль пришли в первый раз, я почти что без памяти лежал. А после справился, ничего, только если уморюсь, бок болит. Еще Ковалева ранили, он после в Тульче чего-сь помер…
Жарко. 32 градуса в тени. Вдоль базарной улицы у кофеен сидят за столиками городские и приезжие люди, деловые и бездельные, и улица похожа на этнографическую выставку. За одним столиком группа спокойных бородатых турок. Они медлительно пьют черный кофе, с хрипом втягивая его в себя маленькими глотками. Рядом с ними столик скопцов из соседней деревни; пьют чай с лимоном вприкуску и фальцетными голосами разговаривают о барышах. Группа местных нотаблей, румын, играет за двумя столиками в кости и в таблу. Три уже знакомых нам из Тузлы квадрилатерных болгарина – один из них оказывается не болгарином, а гагаузом – пьют пиво. Мы подсаживаемся, и волосатый грек подает нам рахат-лукуму с водой. У бакалейной лавки толпятся староверы-липовановцы; эти рыбаки, рослые, лохматые, никогда бород своих не подстригали, держат себя с достоинством; липовановцы военную службу отбывают, главным образом, во флоте. В повозках проезжают по улице праздничные татары. Цыгане турецкие (магометане) и цыгане румынские (христиане), очень между собой различные, бродят взад и вперед. Мы проходим с моим другом и чичероне вдоль всей улицы, и я почти с мистическим удивлением гляжу, как он орудует в этом этническом и лингвистическом хаосе. Он поворачивает голову направо, налево, раскланивается, перебрасывается словами с одним столом, с другим, заглядывает в магазины, наводит хозяйственные справки, ведет мимоходом политическую агитацию, собирает сведения для газетных статей, и все это на полдюжине языков. В течение часа он без затруднений переходит десятки раз с румынского языка на болгарский, на русский, турецкий, немецкий – с приезжими колонистами и французский – с нотаблями.
– Доктор усе языки знают, – говорит мне Козленко, как о деле, давно решенном.
– Вы, Козленко, липованцев знаете?
– Разве их усех узнаешь? Так что которых знаю…
– А как скопцы с липованцами живут?
– Ничего живут. Спорятся потрошку…
Прежде чем заняться квадрилатерными разговорами с новыми румынскими гражданами, мы решаем еще съездить в Геленджик, большое румыно-татарское село. Козленко на досуге подвязал лошадям ленты, но веревки оставил. Садимся снова в тресуру. Опасливо подходит к доктору молодой парень, русский, «липован», румынский подданный, военный дезертир, – справляется, что ему за это будет и не выйдет ли по случаю победы амнистии… Едем узкой полевой дорогой, хлеба уже все сняты, только кукуруза еще стоит, дозревает. Останавливаемся у бостана (огорода). Татарка-хозяйка, в шальварах, дети с голыми животами, злые собаки, арбузные корки и мириады мух над ними. Хозяин отлучился в Мангалию. На огороде копается работник-татарин, дезертир из Болгарии. Съедаем втроем три арбуза, рассуждая об опасностях холерного времени, укладываем десяток арбузов в тресуру и трогаем. Кругом курганы, совсем как у нас в Новороссии.
– А что, Козленко, нет в этих курганах золота?
– А кто его туда закопал? – меланхолически возражает Козленко.
Приближаемся к ферме.
– Пыхтит он, господин доктор, пыхтит, стало быть, справили.
И действительно, паровой плуг пыхтит; при нем в механиках состоит поляк, взятый из констанцского кинематографа, говорит механик много, главным образом, автобиографическое, но в машине смыслит мало. Доктор соскакивает с тресуры и, как полагается хозяину, полчаса бегает без толку за плугом. А Козленко мне пока рассказывает про Геленджик.
– Это вон наш управляющий коло бороны стоит, тоже румынец, хороший человек, у ево родной брат офицер. Раньше у нас болгарин управлял, да дуже крал, доктор терпели, терпели, да под конец того рассчитали. А село у нас пополам турецкое, пополам румынское, не дуже бедное. Прежде и совсем богато жили. Только турки ленивы, хозяйствовать не хочут: продаст гектарей пять, прохарчит и опять продаст. Так и остались турки без земли. Румын работает, да крепко выпивает. Так что обедняло село…
Доктор дает по арбузу управляющему и кинематографному инженеру, и мы едем в Геленджик.
– Смотрите: слева, это – крестьянская кукуруза, низкорослая, чахлая, а справа – наша, лес-лесом стоит. У мужика один кочан на стволе, а у нас два и три. Так же точно обстояло дело и с пшеницей и с рапицей. Вот вам и преимущества мелкого земледельческого хозяйства!..
В Геленджике дома крыты железом и черепицей, соломенных крыш и землянок я не видал. По случаю Байрама на улице оживленно. Много народу у пивной.
– Гарман отгарманили, урожай продали, теперь начали выпивать, – поясняет Козленко.
Мойси, хозяин корчмы, огромный румын из Трансильвании, лавочник, скупщик и ростовщик, просевает на брезенте рапицу через решето. Эти трансильванцы в городах – кельнера, цирюльники, банщики, а в деревне – капиталистические фермеры и кулаки, зимой – страстные картежники, вообще энергичная раса, которая во многих отношениях играет в Румынии ту же роль, какую македонцы играли в Болгарии. Политикой Румынии Мойси недоволен: вступились поздно, взяли мало. Надо было с самого начала войны запросить у Турции и у Болгарии, что каждая из них даст за поддержку, и пойти с той, какая готова дать больше.
Вот и ферма. В доме, где помещается управляющий, есть одна комната на замке, это – хозяйская. Покрытые пятнами стены уставлены книгами на всех языках. Значительная русская библиотека, обширная коллекция заграничной литературы и изданий 1905 года…
В поисках пищи идем в людскую, где поваром оказывается грек, дезертировавший из турецкой армии. Прошлой осенью доктор нашел его на дороге без шапки, без сапог, в слезах… Это, значит, уже третий дезертир, которого я встречаю сегодня: русский дезертир из румынской армии, татарин из Болгарии и грек из Турции. Босой, но с тщательной прической, явный пожиратель сердец, повар говорит немножко по-французски. Мы заказываем ему курицу с рисом, и в то время как он гоняется за этой курицей по двору, мы подходим к двухпудовому ящику с маслинами (маслины здесь – предмет первой необходимости) и подкрепляемся прямо из ящика.
Далее следует деловая часть программы: денежные расчеты. Приходит румын-сыровар, забирающий на ферме овечье молоко, со счетной палкой, на которой линиями и крестами обозначены сотни и тысячи литров молока. Приходят: кузнец, русский молдаванин; несколько болгар, пахавших под рапицу; две местные цыганки, одна – за расчетом, а другая, золовка, для надзора. Высокий и красивый турецкий цыган предлагает свой табор на работу: срезать головки с кукурузы, чтобы скорее вызрела.
Местные цыгане, румынские, работают скверно и воруют, но многие хозяева охотно пользуются ими, так как их можно обсчитывать самым бессовестным образом. Сколько раз бывает, что табор проработает два месяца, а уплачивают ему, примерно, за 27 дней: проверить расчет цыгане не в состоянии. Турецкие цыгане культурнее и работают лучше.
Расчеты закончены, курица, беспечно бегавшая по двору, стоит на столе, обложенная рисом. Козленко приносит от Мойси вина, и мы обедаем на крыльце. А в это время Козленко закладывает другую тресуру, побольше, натягивает на колеса резиновые шины и припрягает третью лошадь.
– Теперь будет ловчее, – говорит он.
– Но!..
Уже вечер. Мягко колышет тресура, и в полудремотном состоянии мы возвращаемся в Мангалию и снова вдыхаем гниловато-соленый запах Черного моря.
III. «Le president du conseil general»
– Симеоне, Симеоне! – зовет мой спутник через площадь, по направлению к Овидиеву памятнику, – иди сюда… Вот сейчас я познакомлю вас с местным политическим деятелем, интереснейшая фигура, политик истинно-румынского стиля, вы только повнимательней разглядите его…
"Симеоне" приближается к нашему столику. Несмотря на свой невысокий рост, он выглядит очень внушительно. Пока нас знакомят, я успеваю рассмотреть плотную фигуру в элегантном летнем наряде, черные с проседью усы, лукаво-веселые глаза южанина над мясистым носом, слишком толстую золотую цепь по животу, слишком большой бриллиант на пальце левой руки. Симеоне приподнимает шляпу, и я вижу черные с проседью курчавые волосы. Превосходный экземпляр южанина! На вид ему лет сорок пять.
– M-r Simeon N., president du conseil general. (Г-н Симеон N., президент генерального совета.)
– M-r N. N., journaliste russe. (Г-н N. N., русский журналист.)
– Enchante! (Очень приятно!) – говорит Симеоне и делает ручкой жест благожелательного гран-сеньора.
Le president du conseil general – это, по-нашему, будет вроде председателя губернской земской управы. По направлению, Симеоне – «такист», т.-е. консерватор-демократ, партизан нынешнего (1913 года) министра внутренних дел Таке Ионеску.








