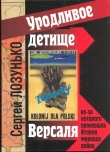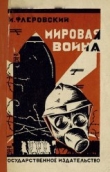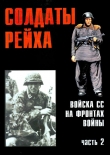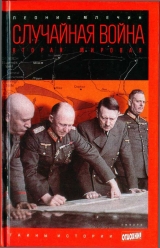
Текст книги "Случайная война: Вторая мировая"
Автор книги: Леонид Млечин
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 26 страниц)
4 сентября 1942 года французское правительство в Виши учредило Service du Travail Obligatoire (обязательную трудовую повинность). Все французы призывного возраста должны были отправиться на работу в Германию. К 1944 году один из трех работающих в немецкой военной промышленности был иностранцем.
Немецкая военная промышленность не была эффективной. В 1940 году, когда Германия потратила на оружие шесть миллиардов долларов, а Великобритания всего три с половиной миллиарда, британская промышленность выпустила в полтора раза больше самолетов, в двенадцать раз больше бронированных автомобилей, больше боевых кораблей, танков и артиллерийских орудий. К тому же Германия не поспевала готовить летчиков…
Но Герман Геринг просто не желал видеть разведывательные сводки о военном производстве союзников.
«Слабый уступает место сильному»
Последний шаг, который привел к мировой войне и предопределил катастрофу Германии, Адольф Гитлер сделал, напав на Советский Союз. Если бы он не пошел на эту авантюру, нацистская Германия, возможно, существовала бы достаточно долго – как минимум до смерти фюрера. Но вся политика Гитлера была сплошной авантюрой! Просто до поры до времени ему невероятно везло.
Его натура не позволяла ему жить в мире и согласии с окружающими. Его безумные взгляды толкали его к завоеваниям.
Нехватка земли – вот главный мотив, который определял политику европейских держав с XVII века. По этой причине коренные жители Северной Америки, Латинской Америки и Австралии подвергались геноциду. Тридцать миллионов рабов были доставлены из Африки в Северную Америку – выращивать рис, сахарный тростник и хлопок. Сорок миллионов переселенцев из Европы отправились по миру в поисках плодородной земли. Желание расширить свою территорию, чтобы иметь больше земли и природных ресурсов, владело умами европейцев как минимум двести лет.
Первая мировая война оказалась такой невероятной трагедией для Европы, что изменила воззрения многих людей. Но не Гитлера. Он жил старыми представлениями. Нацисты не признали результаты войн, которые велись в XVIII и XIX веках, не признали распределение ресурсов и территорий.
Германия оставалась аграрной страной – в одном ряду с Ирландией, Болгарией и Румынией. Когда нацистские идеологи славили крестьянскую жизнь, они находили немалый отклик среди немцев. В 1933 году почти треть населения Германии работала в сельском хозяйстве. Большая часть населения страны жила в небольших поселках, а не в городах, зависела от сельского хозяйства или как минимум еще морально не оторвалась от деревни. Многие миллионы горожан подкармливались со своих участков, держали кур и свиней.
Первая мировая война перевела продовольственный вопрос в разряд политических. Блокада кайзеровской Германии французским и британским флотом привела к тому, что немцы почти голодали. Считается, что от голода в Первую мировую погибло около шестисот тысяч немцев и австрийцев. Страх остаться без продовольствия преследовал Гитлера, как и многих других немцев.
Германия нуждалась в закупках продовольствия за границей. Гитлер считал, что импорт – это смерть Германии. Ему рисовались пугающие картины. Немцы, остающиеся без работы или получающие низкую зарплату, ютящиеся в маленьких квартирах, перестанут рожать. Лучшие и яркие эмигрируют в другие страны.
Нацизм был идеологией отсталого общества. Деревня сыграла важнейшую роль в приходе нацистов к власти. За них голосовали крестьяне. Влиятельное аграрное лобби, которое постоянно требовало списания долгов, защиты от иностранных конкурентов и сокращения импорта продовольствия, давило на президента Гинденбурга, чтобы он привел к власти Гитлера.
В первом кабинете министров Гитлера, сформированном 30 января 1933 года, пост министра сельского хозяйства достался одному из самых богатых немцев Альфреду Хугенбергу. Он позаботился о введении протекционистских пошлин, которые обезопасили бы немецкое сельское хозяйство от конкуренции. Он создал центральное закупочное бюро, которое гарантировало определенный уровень цен на продукцию сельского хозяйства. В июне 1933 года крестьяне-должники были взяты под защиту государства от кредиторов. Как и желало аграрное лобби, были введены квоты на импортное продовольствие. Рядом с Альфредом Хугенбергом даже Яльмар Шахт казался либералом.
Но Альфред Хугенберг не был нацистом, он представлял в правительстве германскую национальную народную партию. Уже через несколько месяцев Гитлеру не нужны были союзники, и с Хугенбергом расстались. Новым министром сельского хозяйства стал нацист Рихард Вальтер Дарре, автор книги "Кровь и почва". Он руководил аграрно-политическим отделом партии и считался главным специалистом по сельскому хозяйству. Своим заместителем он назначил Герберта Бакке, еще одного старого нациста.
Дарре родился в Аргентине в семье немецкого переселенца в 1895 году. Он не смог получить аттестат об окончании школы. Но после Первой мировой войны поступил в сельскохозяйственный институт, который окончил в 1925 году, овладев специальностью "свиноводство". Значение избирателя-агрария сделало Рихарда Дарре важной фигурой для партии. Он тесно сотрудничал с другим специалистом по сельскому хозяйству Генрихом Гиммлером и по его просьбе руководил в аппарате СС главным управлением рас и поселений. Потом отношения между ними испортились, зато Гиммлер сблизился с Гербертом Бакке.
Впрочем, базовые представления у них были общие: сохранение немцев на земле – вопрос выживания германской нации, немцы должны оставаться крестьянами. Враги немцев – это лишенные корней городские жители-космополиты. Выдвинув лозунг прав и свобод человека, либералы разорвали мистическую связь между немецким народом и землей. Земля превратилась в товар, который продают и покупают. Это лишает народ жизненных сил, потому что земля может принадлежать только настоящим немцам, в жилах которых течет арийская кровь. Люди чуждой крови не станут заботиться о земле. Основу расы составляют крестьяне, чью кровь нужно сохранять.
Герберт Бакке родился в 1896 году в Батуми, окончил гимназию в Тифлисе. Его семья переселилась в Россию из Вюртемберга еще в XIX веке. После начала Первой мировой семью интернировали и отправили за Урал. В 1918 году он вернулся Германию. В 1922 году вступил в нацистскую партию. В 1926 году написал докторскую диссертацию на тему "Российская зерновая экономика как основа народа и экономики России". Бакке исходил из того, что развитие России возможно только в том случае, если страной будут руководить иностранные этнические элементы. Он имел в виду немцев.
Дарре и Банке считали главной опасностью "придуманные англичанами и евреями" свободную торговлю, парламентаризм и либерализм. Собственное сельское хозяйство должно производить все, что необходимо государству, иначе враги задушат Германию.
Нехватка земли – вот что тревожило немецких политиков, потому что Германия – более населенная страна, чем Франция. И она не имела колоний, как Англия. Дарре и Бакке полагали, что для успешного ведения хозяйства землевладельцу нужно не менее двадцати гектаров. И выходило, что восемьдесят восемь процентов сельского населения Германии фактически лишены земли; крестьяне обрабатывали участки в полгектара или немногим больше. Для двенадцати миллионов малоземельных крестьян обещания нацистов дать им наделы были крайне важны. Перераспределение в их пользу земель крупных помещиков не изменило бы положения вещей. Даже если бы всю землю в Германии переделили, то на одно хозяйство пришлось бы не более тринадцати гектаров.
1 октября 1933 года нацисты провели первый праздник урожая. В район Хамельна свезли делегации со всех концов страны. Вечером на самолете прилетел Адольф Гитлер. Ему организовали восторженную встречу.
За несколько дней до праздника урожая, 26 сентября, Дарре и Бакке представили правительству проект закона о защите германского крестьянства. Это один из первых законов, подготовленных нацистами. Закон возвращал Германию к древним понятиям крови и почвы и знаменовал отказ от современных представлений о собственности.
В законе гарантировалось "здоровое питание германского народа благодаря свободному крестьянскому сословию, в котором только старший сын – единственный наследник неделимого крестьянского двора".
"Настало время борьбы, – писал участвовавший в разработке закона нацистский юрист Роланд Фрайслер. – время борьбы – это время сева. Посеем верность, пожнем жизнь".
Дарре и Бакке предлагали выделить наследственные наделы, которые должны быть защищены от долгов и от колебаний рынка. Размер надела – от семи с половиной до ста двадцати пяти гектаров. Но эти наделы нельзя продать или заложить. Владельцы обязаны были подтвердить чистоту своей крови вплоть до 1800 года и передавать землю только наследнику мужского пола. Делить надел запрещалось.
Предварительно министр Дарре съездил в Бергхоф, чтобы получить одобрение Гитлера. Тем не менее законопроект встретил сопротивление. Крупные землевладельцы не любили Дарре и Бакке, которых именовали "аграрными большевиками".
Глава Имперского банка Яльмар Шахт считал, что законопроект подрывает экономику сельского хозяйства. Крестьянин берет кредит под залог земли, покупает посадочный материал, технику, удобрения, выращивает урожай, продает его и возвращает кредит. Откуда крестьянин возьмет деньги, если землю запретят закладывать?
Министр экономики Курт Шмитт предупреждал, что появятся землевладельцы, которые совершенно не будут заинтересованы в эффективном хозяйствовании, потому что, как бы плохо они ни вели дела, государство спасет и от долгов, и от падения цен.
Идея передавать землю одному наследнику, чтобы надел не дробился, нравилась. Но получалось, что в таком случае хозяин и вовсе лишается права решать судьбу своей собственности. К тому же остальные наследники не могли рассчитывать даже на компенсацию за то, что земля досталась другим. Обделялись жены и дочери землевладельца. Гестапо фиксировало недовольство сельского населения. Был и другой аспект: Дарре и Бакке хотели стимулировать рождаемость, а этот закон подталкивал крестьянина к тому, чтобы иметь только одного наследника.
Тем не менее закон 29 сентября 1933 года приняли, земельные наделы площадью до ста двадцати пяти гектаров перевели в разряд наследственных неотчуждаемых владений. Но закон не привел к изменению структуры землевладения в Германии. Он прижился только в тех районах, где наделы равнялись примерно тем самым двадцати гектарам, что нужны были для эффективного хозяйствования.
Сельское хозяйство Германии оставалось отсталым, ему не хватало специалистов и умелых управляющих. Ситуация только ухудшалась тем, что Дарре и Бакке старались вывести сельское хозяйство из-под влияния сил рынка, введя систему контроля над производством и над ценами. Деревню пронизали партийные структуры. В каждой из пятидесяти пяти тысяч немецких деревень появился ортсбауэрнфюрер, который присматривал за односельчанами. Они докладывали о ситуации пятистам крайсбауэр-фюрерам (секретарям сельских райкомов партии), а те девятнадцати ландесбауэрнфюрерам (секретарям сельских обкомов)…
Закупочные цены были повышены – к радости крестьян, но к неудовольствию остальных немцев: расходы правительство напрямую переложило на потребителя путем повышения цен на продовольствие, что ударило по карману горожан.
В 1933 году был хороший урожай, и нацистские идеологи радовались. В 1934 году урожай был плохим. Министр продовольствия и сельского хозяйства Вальтер Дарре 21 июля попросил правительство выделить полтора миллиона марок в валюте на закупку за границей продовольствия и кормов. Предупредил: иначе придется сократить потребление. Но валюты катастрофически не хватало. Летом 1934 года президент Имперского банка Яльмар Шахт каждый день лично распределял валюту на покупку важнейшего сырья. Шахт не только отказал коллеге-министру в деньгах, но еще и обвинил Дарре в создании бесполезного бюрократического монстра. Дарре в ответ назвал Шахта масоном.
В 1935 году Дарре и Бакке объявили "битву за урожай". Проводились собрания и митинги, распространялись листовки. Нацистские уполномоченные ездили с лекциями по деревням. Пытались уменьшить зависимость от импортных кормов. Сократили вдвое закупки масличных семян, в два с половиной раза – закупки жмыховой муки. От покупки кукурузы отказались почти полностью. Крестьянам рекомендовали заменять импортные корма отечественными – сеном, турнепсом (то есть репой), ботвой сахарной свеклы. Свиней – откармливать картошкой.
Урожаи ржи и пшеницы в 1934–1937 годах были очень низкими. Пустили в ход стратегические резервы, оставшиеся от рекордного урожая 1933 года. Крестьян заставляли продавать молоко и масло по низкой цене. Они несли убытки. Теми, кто пытался самостоятельно торговать продовольствием, занималось гестапо.
Немцы получали работу на военном производстве, стали зарабатывать, хотели нормальной еды и не желали удовольствоваться диетой, предписываемой нацистскими лидерами. Летом тридцать пятого возникла идея введения карточек на хлеб. По политическим соображениям ее отвергли. В муку подмешивали кукурузу и картофельный крахмал. А вот масло и мясо в 1935 году продавали уже только местным жителям – по спискам.
"Даже я, дипломат, – записывал в дневнике американский посол в Берлине Уильям Додд, – должен написать заявление, чтобы покупать мясо у местного торговца. Магазинам разрешено продавать продовольствие только тем, кто включен в список, да и то в ограниченном количестве".
В 1936 году стало очевидно, что сельское хозяйство Германии не в состоянии обеспечить страну продовольствием. Но что-то менять в аграрном секторе нацистские руководители не хотели. Они видели выход в территориальных приобретениях – нужны еще семь-восемь миллионов гектаров плодородной земли. Взоры обращались на восток.
– Естественная сфера обитания немецкого народа, – говорил министр продовольствия и сельского хозяйства Вальтер Дарре, – это территории к востоку от рейха – до Урала, к югу до Кавказа, Каспийского моря, Черного моря. Мы должны освоить это пространство, следуя тому природному закону, что более полноценный народ имеет право захватывать землю, принадлежащую неполноценному народу. Вопросы морали к этой ситуации неприменимы. Немецкий народ имеет право считать своими огромные территории на востоке и выселить оттуда тех, кто там сейчас живет. На земле действует только один закон: слабый уступает место сильному…
Призыв в армию молодых мужчин, разгром и плен, сокращение выпуска кормов для скота и удобрений (их производство сократили ради выпуска взрывчатых веществ), мобилизация конского поголовья для военных нужд привели к тому, что во многих странах Европы, которые поставляли зерно и мясо Германии, в 1940 году разразился сельскохозяйственный кризис. Германия начала Вторую мировую войну, имея меньше девяти миллионов тонн зерна. Через год войны остался миллион.
Немецкие проблемы с продовольствием не были секретом для советского руководства. 13 августа 1940 года нарком внутренних дел Лаврентий Павлович Берия со ссылкой на своих разведчиков доложил Сталину:
"Германия начала вывозить из Норвегии и отчасти из Голландии имеющиеся там запасы продовольствия. В самой Германии нынешний урожай, по предварительным справкам, будет далеко хуже среднего. Положение же в Польше, Бельгии и Франции такое, что Германии придется заботиться о снабжении продовольствием этих стран".
С экономической точки зрения военные победы 1940 года не уменьшили зависимости Германии от поставок из Советского Союза. Только украинское зерно могло сохранить поголовье скота в Западной Европе.
Историки сегодня говорят о том, что Сталин и Молотов, на которых произвели впечатление успехи вермахта, проводили политику умиротворения Гитлера и шли на серьезные уступки в торгово-экономических делах. Это стало особенно ясно после того, как нарком иностранных дел Молотов во главе большой делегации побывал в Берлине в ноябре 1940 года.
Советские руководители желали объясниться с Гитлером. Но зазвать Риббентропа в Москву уже было невозможно. Пришлось Молотову впервые в жизни отправиться за границу. Сталин продиктовал ему подробные инструкции (записи сохранились), и Вячеслав Михайлович отчитывался перед ним после каждого раунда бесед. Нарком натолкнулся на жесткую позицию Гитлера.
Вячеслав Михайлович телеграфировал Сталину:
"Похвастаться нечем, но по крайней мере выяснил теперешние настроения Гитлера, с которыми придется считаться".
Немцы поставили вопрос об удвоении поставок зерна, которые уже достигли миллиона тонн в год. Они получили согласие. Советское руководство изъявило готовность распечатать стратегические запасы зерна, чтобы удовлетворить просьбу Германии.
28 ноября 1940 года Молотов, вернувшись в Москву, сказал Шуленбургу и Шнурре:
– Советское правительство решило пойти навстречу германскому правительству и потревожить свои общегосударственные резервы, причем эти резервы пришлось потревожить значительно. Тем не менее, учитывая нужду Германии в зерне, советское правительство решило полностью удовлетворить просьбу Германии и поставить два с половиной миллиона тонн зерна…
3 июня 1941 года, меньше чем за три недели до начала войны, в Москве особо секретным решением политбюро разрешили "из особых запасов" поставить в Германию тысячи тонн стратегического сырья, необходимого военной промышленности, – медь, никель, олово, молибден и вольфрам. В 1940 году на нацистскую Германию пришлось 52 процента советского экспорта.
Но все это не умаслило Гитлера. Напротив, он уверился в том, что первым делом, чтобы кормить Германию, надо захватить Украину.
Только в СССР были уголь, сталь, природные ископаемые, необходимые для бесперебойной работы военнопромышленного комплекса. Только на Кавказе была нефть, которая сделала бы Германию и захваченные ею территории независимыми от импорта нефти. Только с ресурсами Советского Союза Германия могла продолжать войну против Британии и Соединенных Штатов.
В октябре 1940 года сотрудник германского посольства в Москве Гебхард фон Вальтер отправил доклад начальнику Генштаба сухопутных войск Францу Гальдеру. Он предупреждал, что не стоит ожидать распада Советского Союза после первого удара и что Германия не так много приобретет, захватив Украину: это перенаселенный район с очень неэффективным сельским хозяйством.
Но в аппарате генерала Георга Томаса подсчитали, что смогут выкачать с Украины не менее четырех миллионов тонн зерна. Томас твердил, что вслед за Украиной нужно взять и Кавказ: для вывоза урожая с оккупированных территорий понадобится большое число тракторов и грузовиков, а топливо можно взять только в самом Советском Союзе.
Заместитель министра продовольствия и сельского хозяйства Герберт Бакке внушал Гитлеру:
– Оккупация Украины решит все наши экономические проблемы. Если нам нужна какая-то территория, то именно Украина. Только на Украине есть зерно…
Для своих подчиненных, отправляемых на работу в оккупированные советские районы, Бакке, родившийся в Российской империи, составил памятку:
"Не разговаривайте, а делайте. Русского вам никогда не переговорить и не убедить словами. Меньше слов и дебатов. Главное – действовать. Русскому импонирует только действие, ибо он по своей натуре женствен и сентиментален… Россия всегда была страной подкупов, доносов и византизма. Эта опасность может проникнуть к вам, особенно через эмигрантов, переводчиков и т. д. Русские, занимающие руководящие посты, а также руководители предприятий, старшие рабочие и надсмотрщики проявляют всегда склонность к подкупам и вымогательству взяток у своих подчиненных. Пресекайте взяточничество, будьте сами всегда неподкупны…"
После нападения на Советский Союз, 20 августа 1941 года, секретарь фюрера Криста Шрёдер писала подруге из "Волчьего логова":
"Мне непонятно, почему англичане не берутся за ум. После того как мы двинулись на восток, нам не нужны их колонии. Украина и Крым такие плодородные, что мы сможем получать все, что нам нужно, а остальное (чай, кофе, какао и так далее) ввезти из Южной Америки. Само по себе это так просто и ясно. Дай бог, чтобы вскоре англичане образумились".
Появляется любимый министр
Быстрый успех в сороковом стал неожиданностью даже для германских генералов. Разгром Франции привел к тому, что в вермахте приняли на вооружение стратегию блицкрига. Там поверили, что сочетание танков, авиации, хорошей организации всего за несколько месяцев позволит одолеть и Советский Союз.
Гитлер, зачарованный успехами собственных танкистов, заботился о том, чтобы за год, к лету сорок первого, число танковых дивизий удвоилось – с десяти до двадцати. Удвоилось и количество автотранспорта для перевозки пехоты.
Оккупация европейских стран не облегчила ситуацию с топливом в Германии. Напротив, Германии пришлось частично снабжать топливом эти государства (чтобы обеспечить выполнение собственных заказов), хотя оккупационные власти пытались вернуть Францию в эпоху до появления двигателей внутреннего сгорания. С лета 1940 года Франция получала всего восемь процентов предвоенного количества бензина. В результате французские крестьяне выливали тысячи литров молока, потому что не было бензина, чтобы отправить его потребителям.
Кроме того, Германии пришлось поставлять топливо воюющим итальянским войскам и флоту.
Германия добивалась гарантий поставок румынской нефти. Министерство иностранных дел Германии и абвер делали все, чтобы привлечь Румынию на свою сторону, играя на страхе перед Советским Союзом. Румыния согласилась поставлять нефть по умеренной цене – в обмен на гарантии безопасности и поставки оружия, в основном трофейного, польского. После разгрома Франции Румыния 27 мая 1940 года подписала договор с Германией о том, что практически вся нефть пойдет вермахту. В июле поставки нефти Англии прекратились.
В 1940–1943 годах Германия импортировала полтора миллиона тонн нефти, в основном из Румынии. Кроме того, немецкие заводы выпускали синтетический бензин: четыре миллиона тонн в 1940 году, шесть с половиной миллионов тонн (это был максимум) в 1943-м.
Англия же в 1942 году, несмотря на действия подводников Карла Дёница, получила десять с лишним миллионов тонн нефти – в пять раз больше, чем Германии давала Румыния. Вермахт, уже сражавшийся в России, отчаянно нуждался в топливе. В Москве, Лондоне и Вашингтоне не могли поверить, что Гитлер вступил в войну, имея так мало топлива.
В конце мая 1941 года генерал Адольф фон Шелль заговорил о том, что вермахту частично придется отказаться от моторов из-за нехватки топлива. Прежде всего страдала подготовка военных летчиков. Водителей в вермахте сажали за руль после того, как они проедут всего 15 километров, то есть совсем неопытных новичков. Машины постоянно выходили из строя и ломались (впрочем, не стоит забывать о плохих советских дорогах). В ноябре сорок первого остановилась работа на заводе компании "Опель", где выпускали грузовики для вермахта, потому что не было ни капли бензина, чтобы грузовики могли выехать из сборочного цеха.
Призыв в вооруженные силы серьезно повредил немецкой экономике. Весной сорок первого в Рурском экономическом районе стали обычными воскресные смены. Рабочие не имели и одного дня, чтобы перевести дух, побыть с семьей и отдохнуть.
Вермахт уговорили демобилизовать как можно больше опытных горняков. Это было сделано еще и по политическим соображениям, потому что смертельно боялись, что, как в Первую мировую, начнется нехватка угля и это приведет к возмущению среди населения.
К лету сорок первого мужское население Германии в возрасте от шестнадцати до пятидесяти шести лет делилось на три группы: семь миллионов триста тысяч мужчин уже были призваны на воинскую службу; два миллиона двести тысяч юношей в возрасте от шестнадцати до девятнадцати лет проходили военное обучение и готовились к службе; три миллиона шестьсот тысяч немцев были признаны негодными к воинской службе в основном по медицинским основаниям; остальные пять с половиной миллионов были необходимы для военной экономики.
Низкая рождаемость после Первой мировой означала, что призывали всех юношей, которых не отбраковывали врачи. Из молодых людей в возрасте от двадцати до тридцати лет летом сорок первого восемьдесят пять процентов уже носили военную форму. Иначе говоря, летом сорок первого вермахт уже мобилизовал всех, кого было можно призвать. Людские резервы Германии были исчерпаны.
Обширная территория, экономический потенциал и людские ресурсы Советского Союза были несопоставимы с немецкими. Население СССР в два с половиной раза превышало население Германии (хотя десятки миллионов остались на оккупированной территории). Все равно оставалось достаточно мужчин, чтобы создать новую армию. Эвакуация промышленности на восток и практически полный отказ от гражданского производства (плюс помощь, полученная от Соединенных Штатов по ленд-лизу) позволили снабдить Красную армию всем необходимым. А вот Германия длительной войны выдержать не могла.
Почему же Гитлер решился напасть на Советский Союз?
В мире сложилось дурное впечатление о боеспособности Красной армии. Все видели, что многолетние сталинские репрессии уничтожили командные кадры и деморализовали солдатскую массу, которая не верила своим офицерам и генералам. Неудачная зимняя война с маленькой Финляндией, казалось, подтвердила невысокий уровень командного состава и слабые боевые возможности частей Красной армии. Руководство вермахта пришло к выводу, что советские вооруженные силы более не представляют опасности.
6 мая 1941 года советский разведчик Рихард Зорге сообщал из Токио в Центр:
"Немецкие генералы оценивают боеспособность Красной армии настолько низко, что они полагают, что Красная армия будет разгромлена в течение нескольких недель. Они полагают, что система обороны на германо-советской границе чрезвычайно слаба…"
Последний абзац начальник разведывательного управления Генштаба генерал-лейтенант Филипп Иванович Голиков вычеркнул своей рукой, оставил резолюцию: "Дать в пять адресов (без вычеркнутого)". Начальник военной разведки знал, что нельзя раздражать Сталина, уверенного в превосходстве Красной армии.
Маршал Александр Михайлович Василевский, который во время Великой Отечественной возглавил Генеральный штаб, говорил так:
– Без тридцать седьмого года, возможно, и не было бы вообще войны в сорок первом году. В том, что Гитлер решился начать войну, большую роль сыграла оценка той степени разгрома военных кадров, который у нас произошел…
Германия подготовила для вторжения в Советский Союз более мощный кулак, чем для удара по Франции. Но немецкие планировщики исходили из того, что победа над Красной армией будет достигнута в кратчайшие сроки. Отклонение от этого плана исключалось. В 1940–1941 годах в Германии наблюдалась стагнация военного производства и катастрофическое падение производительности труда.
Германия оккупировала большую часть Западной Европы, но это не решило ее проблем. Британская блокада не позволяла Германии в полной мере использовать экономический потенциал оккупированных территорий. Помощь Соединенных Штатов помогла Англии выжить и продолжить борьбу. А тут еще началось стремительное развитие американской военной промышленности. Если Германия не захватит нефть и зерно Советского Союза, не нарастит добычу угля, говорили в Берлине, произойдет резкое падение производства и катастрофическое снижение уровня жизни.
Адольф Гитлер уверенно обещал своим солдатам, что они вернутся на свои рабочие места в конце августа. Даже в октябре сорок первого вермахт еще планировал демобилизацию трети солдат после разгрома Красной армии, чтобы нарастить военное производство. Гитлер намеревался, захватив Советский Союз, продолжить наступление на Ближний Восток и Северную Индию с баз в Северной Африке, Турции и на Кавказе. Для этого, подсчитали генералы, понадобится тридцать шесть дивизий и пятнадцать тысяч танков. Вермахт исходил из того, что в 1942 году в его распоряжении окажутся нефтяные богатства Кавказа. Это было условием развития военной авиации для будущей борьбы за раздел Британской империи и против Соединенных Штатов.
18 января 1941 года заместитель наркома внутренних дел генерал-лейтенант Иван Иванович Масленников, которому подчинялись пограничные войска, в недоумении докладывал первому заместителю наркома Всеволоду Николаевичу Меркулову:
"За последнее время отмечен ряд случаев, когда органы немецкой разведки дают забрасываемым ими в СССР агентам задание о доставке в Германию образцов употребляемых у нас нефти, авто– и авиабензина и масел… Агентам было предложено при добыче бензина точно выяснять, какой это будет бензин – летний или зимний…
Какую цель преследует германская разведка, занимаясь добыванием образцов наших нефтепродуктов, и для чего они ей нужны, ни один из задержанных не указал, ссылаясь на незнание".
Меркулов оставил резолюцию:
"Надо выяснить цель этих заданий".
Подчиненная ему политическая разведка обратилась за помощью к военной. 29 января 1941 года начальник 5-го отдела главного управления госбезопасности НКВД старший майор госбезопасности Павел Михайлович Фитин отправил записку начальнику разведуправления Красной армии генерал-лейтенанту Филиппу Ивановичу Голикову:
"Нами получены сведения, что германская разведка проявляет большой интерес к выяснению качества Советской нефти, авто– и авиабензина и масел, применяемых как в гражданском, так и в воинском ведомствах…
Прошу сообщить имеющиеся у Вас данные по этому вопросу и дать Ваше заключение о причинах заинтересованности немцев этим вопросом".
Трудно заподозрить советских разведчиков в наивности. Они переадресовывали друг другу вопрос, ответ на который напрашивался: немецкие снабженцы заранее хотели выяснить качество советского бензина, которым они собирались пользоваться. Но Сталин запретил даже думать о возможности скорого нападения нацистской Германии…
Немецкие генералы делали ставку на первую решительную битву, на скорость, на моторы, на концентрацию сил на главных направлениях. А ведь с самого начала им было понятно, что если Красная армия избежит разгрома на линии Днепр – Двина, то вермахту придется остановиться и перегруппироваться, чтобы продолжить боевые действия. И Германии не выдержать длительной войны на истощение. Но после победы на Западе военные утратили авторитет. Адольф Гитлер казался более умелым и удачливым стратегом…
Даже летние месяцы сорок первого, когда Красная армия терпела поражение и отступала, показали, что фюрер ошибся. В конце июля сорок первого запасы всех трех групп армий – "Север", "Центр" и "Юг" – были исчерпаны. Гитлер засомневался в быстром успехе еще раньше генералов. В конце июля он потребовал подготовить план боевых действий на тот случай, если Красная армия не будет уничтожена до конца года.