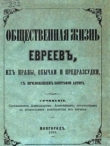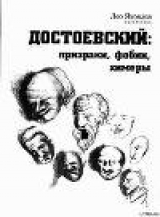
Текст книги "Достоевский: призраки, фобии, химеры (заметки читателя)."
Автор книги: Лео Яковлев
Жанры:
Критика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
* * *
«Нации живут великим чувством и великою всё освещающей и снаружи и внутри мыслью, а не одной лишь биржевой спекуляцией и ценой рубля».
* * *
«Я социалист, но переменил идеал с эшафота. Великая идея Христа, выше нет. Встретился с Европой во Христе».
* * *
«В самом деле: почему добродетель так страшна? Заменить бы ее какими-нибудь аксиомами экономическими и затем всем бы и воровать на здоровье».
* * *
«Католичество надеется на владычество и мутит воду».
* * *
«Высшее счастье (выше счастья нет, как увериться в милосердии людей и в любви их друг к другу)».
* * *
«Европа – 2-е отечество, мы любим Европу наравне с Россией, наша народная личность – всечеловечность. Пушкин».
* * *
«Самоутверждение, эстетику, искусство для искусства. Нет, уж лучше воспевать голых женщин».
* * *
«Болезни воли – всё фантастичнее. Как и вся наша жизнь с Петра».
* * *
«Решение правое, решение высшее, решение русское».
* * *
«…до понимания Пушкина еще вся Россия не доросла. Теперь вопрос о Пушкине вместо художественности перешел в вопрос о народности».
* * *
«Некрасов отдался весь народу, желая в нем очиститься, даже противуреча западническим своим убеждениям».
* * *
«Слишком виновную душу не надо иногда слишком явно и поспешно укорять в ее виновности, много уж и без того было муки».
* * *
«Души поэтов мягки и слабы, мягки и податливы, и чем больше пишут стихов, тем больше мягчают и подаются».
* * *
«Правда выше Некрасова, выше Пушкина, выше народа, выше России, выше всего, а потому надо желать одной правды и искать ее, несмотря на все те выгоды, которые мы можем потерять из-за нее, и даже несмотря на все те преследования и гонения, которые мы можем получить из-за нее».
* * *
«Если б даже было и доказано, что мы не можем быть лучше, то этим вовсе мы не оправданы, потому что вздор всё это: мы можем и должны быть лучше».
* * *
«Извинение не есть оправдание. В извинении кроется для извиняемого даже нечто унизительное».
* * *
«Юношам надо учиться, а не учить других».
* * *
«Не жившему совсем на свете так легко принять свечку за солнце».
* * *
«Пушкин был первый русский человек. Он первый догадался и сказал нам, что русский человек никогда не был рабом. И хотя столетия был в рабстве, но рабом не сделался».
* * *
«Фальшь тоже узнает народ, с какою бы печалью вы не приходили к нему».
* * *
«Всякий сильный ум и всякое великодушное сердце не могли миновать байронизма».
* * *
«Всемирная отзывчивость. Пушкин – положительное подтверждение этой мысли».
* * *
«Европа и удел всего арийского племени нам так же дороги, как Россия – удел всего арийского племени есть русское дело, родное нам, прирожденное, наша сущность, наш идеал».
* * *
«Все эти славянофильства и западничества – всё это лишь одно великое недоразумение, правда, исторически необходимое в просыпающемся русском сознании, но которое, конечно, исчезнет, когда русские люди взглянут прямо на вещи в глаза».
* * *
«Овладей собой и узришь правду и станешь достойнейшим праведником – наступит и для тебя золотой век. Это мысль русская, ее осознает и народ…»
* * *
«Удел той бедной и презираемой еще нами земли, которую в рабском виде Царь небесный исходил, благословляя. Чего нам стыдиться нашей бедности и нищеты».
* * *
«И тогда узришь Христа, не убьешь и не растерзаешь, а простишь и полюбишь, не призовешь защиты закона себе в помощь, – ибо сам исполнишь его».
* * *
«Пушкин реалист, каких еще не бывало у нас».
* * *
«Финал „Онегина“: русская женщина, сказавшая русскую правду, – вот чем велика эта русская правда».
* * *
«Духи и гении Европы – это недаром, этим многое обозначается, вот тут-то и пророческое значение Пушкина».
* * *
«Но есть еще чернь, толстосумы, невежественная чернь».
* * *
«Неужели восторг был оттого, что мы всех могущественнее и длинноголовее».
* * *
«Народ западный свергнет ту гнусную оболочку, в которую его заключили, и кончит тем, что найдет Христа. Может быть, к нам и придет за ним, к народу нашему великому, и тогда мы обнимемся и запоем новую песнь».
* * *
«Мои идеалы шире ваших».
1880–1881 гг.
«Тугое, картофельное и всегда радостно самодовольное немецкое остроумие».
* * *
«Вы изолгались и избарабанились».
* * *
«Продукт затупевшего и заподлевшего западничества».
* * *
«До чего человек возобожал себя (Лев Толстой)».
* * *
«Реальный (созданный) мир конечен, невещественный же мир бесконечен. Если б сошлись параллельные линии, кончился бы закон мира сего. Но в бесконечности они сходятся, и бесконечность есть несомненно. Ибо если бы не было бесконечности, не было бы и конечности, немыслима бы она была. А если есть бесконечность, то есть Бог и мир другой, на иных законах, чем реальный (созданный) мир».
* * *
«Мятущаяся, но не логическая голова».
* * *
«Семинарист. Кто таков. Семинарист проклятый, атеист дешевый. Русский либерал: аристократ проклятый, атеист дешевый. Над народом величается своим просвещением в пятак цены».
* * *
«Изверг сердцем и умом».
* * *
«Не всегда же мы грешны; напротив, мы же бываем и святы. И кто ж бы мог жить, если б было иначе».
* * *
«Комедия Грибоедова гениальна, но сбивчива».
* * *
«Самоограничение и воздержание телесное для свободы духовной, в противуположность материальному обличению, беспрерывному и безграничному, приводящему к рабству духа».
* * *
«Портрет свиньи. Мы имеем уже твердые данные в распоряжениях последнего времени, что у нас не хотят походить на этот портрет. И прочь его, этот портрет, надоел уж он нам довольно и прежде».
* * *
«Пресса, между прочим, обеспечивает слово всякому подлецу, умеющему на бумаге ругаться, такому, которому ни за что бы не дали говорить в порядочном обществе, напротив, разбили бы ему морду и вытолкали. А в печати приют: приходи, сколько хочешь ругайся, даже с почтением примут».
* * *
«Красота дается женщине вначале, чтобы привязать мужчину, ибо нравственная связь еще слаба. Потом и не надо уж красоты, любят женщину, потому что сживутся душами (органическое соединение)».
* * *
«Уничтожить общественное мнение – так не то, что ничего больше не будет, а то, что есть, исчезнет».
* * *
«Леонтьеву (не стоит добра желать миру, ибо сказано, что он погибнет). В этой идее есть нечто безрассудное и нечестивое. Сверх того, чрезвычайно удобная идея для домашнего обихода: уж коль все обречены, так чего же стараться, чего любить, добро делать? Живем в свое пузо».
* * *
«Не от омерзения удалялись святые от мира, а для нравственного совершенствования».
* * *
«Да уж одно ношение жажды духовного просвещения есть уже духовное просвещение».
* * *
«Вы скажете, что на Западе померк образ Спасителя? Нет, я этой глупости не скажу».
* * *
«Совесть без Бога есть ужас, она может заблудиться до самого безнравственного».
* * *
«Недостаточно определять нравственность верностью своим убеждениям. Надо еще беспрерывно возбуждать в себе вопрос: верны ли мои убеждения? Проверка же их одна – Христос, но тут уж не философия, а вера…»
* * *
«"Карамазовы". Мерзавцы дразнили меня необразованною и ретроградною верою в Бога. Этим олухам и не снилось такой силы отрицание Бога, какое положено в Инквизиторе и в предшествовавшей главе, которому ответом служит весь роман. Не как дурак же, фанатик, я верую в Бога. И эти хотели меня учить и смеялись над моим неразвитием. Да их глупой природе и не снилось такой силы отрицание, которое перешел я. Им ли меня учить».
* * *
«Черт. (Психологическое и подробное критическое объяснение Ивана Федоровича и явления черта.) Иван Федорович глубок, это не современные атеисты, доказывающие в своем неверии лишь узость своего мировоззрения и тупость тупеньких своих способностей».
* * *
«Точно варяги, пришедшие по приглашению. Земля наша велика и обильна, ушли и оставили землю в беспорядке. Я не про крепостников говорю и не крепостное состояние оплакиваю, как не замедлят мне приписать. Я беспорядок и безначалие оплакиваю. Это безначалие и отсутствие законности имеет развращающее свойство не менее пьянства. Доведет до отчаяния, до бунта».
* * *
«Жидовство как факт всего мира. Католичество, уступающее жидовству. Примирение с поляками. Франция, разрушающая себя окончательно в католичестве, ибо если не католичество, то должны были тотчас принять социализм. Они же не хотят ни того, ни другого. Остался один буржуазный либерал с своими бессмертными принципами [17]89 года. Скудное содержание».
* * *
«Народ. В народе потребность чего-то нового, нового слова, нового чувства, потребность порядка нового. Бесшабашный период пьянства после крестьянской реформы проходит. Никогда народ не был более склонен (и беззащитен) к иным веяниям и влияниям. (Даже нигилистическая пропаганда найдет дорогу. Не нашла до сих пор по неумелости, глупости и неподготовленности пропагаторов.) Надо беречься. Надо беречь народ. Церковь в параличе с Петра Великого. Страшное время, а тут пьянство… Между тем народ наш оставлен почти что на одни свои силы. Интеллигенция мимо».
* * *
«Немцы, поляки, жиды – корпорация, и себе помогают. В одной Руси нет корпорации, она одна разделена».
* * *
«Богатство (трудно спастись). Богатство – усиление личности, механическое и духовное удовлетворение, стало быть, отъединение личности от целого».
* * *
«Жиды. И хоть бы они стояли над всей Россией кагалом и заговором и высосали всего русского мужика – о пусть, пусть, мы и слова не скажем: иначе может случиться какая-нибудь нелиберальная беда; чего доброго подумают, что мы считаем свою религию выше еврейской и тесним их из религиозной нетерпимости, – что тогда будет? Подумать только, что тогда будет!»
* * *
«Жиды. „Новое время“. Среда. 19 ноября. Письмо о жидах Кояловича».
* * *
«Дельцами бывают только люди нравственности сомнительной».
* * *
«Совесть, совесть маркиза де Сада! – это нелепо».
* * *
«Инквизитор уж тем одним безнравственен, что в сердце его, в совести его могла ужиться идея о необходимости сожигать людей. Орсини тоже. Конрад Валленрод тоже».
* * *
«Общества слагались вследствие потребности ужиться. Это неправда, а всегда вследствие великой идеи».
* * *
«Вы говорите: да ведь Европа сделала много христианского помимо папства и протестантства. Еще бы, не сейчас же там умерло христианство, умирало долго, оставило следы. Да там и теперь есть христиане, но зато страшно много извращенного понимания христианства».
* * *
«Нравственно только то, что совпадает с вашим чувством красоты и с идеалом, в котором вы ее воплощаете».
* * *
«Народ. Там всё. Ведь это море, которого мы не видим, запершись и огородясь от народа в чухонском болоте. Люблю тебя, Петра творенье. Виноват, не люблю его. Окна, дырья – и монумент».
* * *
«Нам все не верят, все нас ненавидят, – почему? да потому, что Европа инстинктом слышит и чувствует в нас нечто новое и на нее нисколько непохожее. В этом случае Европа совпадает с нашими западниками; те тоже ненавидят Россию, слыша в ней нечто новое и ни на что не похожее».
* * *
«Русский народ весь в православии и в идее его. Более в нем и у него ничего нет – да и не надо, потому что православие есть все».
* * *
«Есть некоторые жизненные вещи, живые вещи, которые весьма, однако, трудно понять от чрезмерной учености. Ученость, такая прекрасная вещь даже и в случае чрезмерности, обращается от прикосновения к иным живым вещам в вещь даже вредную. Не все живые вещи легко понимаются. Это аксиома. А чрезмерная ученость вносит иногда с собой нечто мертвящее. Ученость есть матерьял, с которым иные, конечно, очень трудно справляются.
Чрезмерная ученость не всегда есть тоже истинная ученость. Истинная ученость не только не враждебна жизни, но, в конце концов, всегда сходится с жизнию и даже указывает и дает в ней новые откровения. Вот существенный и величавый признак истинной учености. Неистинная же ученость, хотя бы и чрезмерная, в конце концов, всегда враждебна жизни и отрицает ее. У нас об ученых первого разряда что-то не слыхать, второго же разряда было довольно, и даже только и есть, что второй разряд. Так что будь расчрезмерная ученость, и все-таки второй разряд. Но ободримся, будет и первый. Когда-нибудь да ведь будет же он. К чему терять всякую надежду».
* * *
«"Нет славянофилов и западников как партий". Это неправда. Именно в последнее время образовались в партии – славянофильство, правда, едва-едва, но западничество – это партия во всеоружии, готовая к бою против народа, и именно политическая. Она стала над народом как опекующая интеллигенция, она отрицает народ, она спрашивает, чем он замечателен, и отрицает всякую характерную самостоятельную черту его, снисходительно утверждая, что эти черты у всех младенческих народов. Она стоит над вопросами народными: над земством, так как его хочет и признает народ; она мешает ему, желая управлять им по-чиновнически, она гнушается идей органической духовной солидарности народа с царем, и толкует о европейской вздорной бабе».
* * *
«Жид. Бисмарки, Биконсфильды, французская республика и Гамбетта и т. д. – все это, как сила, один только мираж, и чем дальше, тем больше. Господин и им, и всему, и Европе один только жид и его банк. И вот услышим: вдруг он скажет veto и Бисмарк отлетит как скошенная былинка. Жид и банк господин теперь всему: и Европе, и просвещению, и цивилизации, и социализму. Социализму особенно, ибо им он с корнем вырвет христианство и разрушит ее цивилизацию. И когда останется лишь безначалие, тут жид и станет во главе всего. Ибо, проповедуя социализм, он останется меж собой в единении, а когда погибнет всё богатство Европы, останется банк жида. Антихрист придет и станет на безначалии».
* * *
«Идеал красоты человеческой – русский народ. Непременно выставить эту красоту, аристократический тип и проч. Чувствуешь равенство невольно: немного спустя почувствуете, что он выше вас».
«Самосочинение. Человек всю жизнь не живет, а сочиняет себя, самосочиняется».
* * *
«Русский народ весь в православии и в идее его. Более в нем и у него ничего нет – да и не надо, потому что православие всё. Православие есть церковь, а церковь – увенчание здания и уже навеки. Что такое церковь – из Хомякова. Вы думаете, я теперь разъяснять стану: нимало, нисколько. Это всё потом и неустанно. А покамест лишь ставлю формулу, да к ней прибавляю и другую: кто не понимает православия – тот никогда и ничего не поймет в народе. Мало того; тот не может и любить русского народа, а будет любить его лишь таким, каким бы желал его видеть. Обратно и народ не примет такого человека как своего: если ты не любишь того, что я люблю, не веруешь в то, во что я верую, и не чтишь святыни моей, то не чту и я тебя за своего. Широк, вынослив и в верованиях терпим. О, он не оскорбит его, не съест, не прибьет, не ограбит и даже слова ему не скажет. Народ искреннего человека, каким бы желал его видеть, выслушает, если тот умен и толков, поблагодарит за совет даже, за науку, мало того, советом воспользуется (ибо широк русский народ и отвлекать всё умеет), но своим не сочтет, руки не подаст ему, сердца своего не отдаст ему. А наша интеллигенция из чухонских болот прошла мимо. Сердится, когда ей говорят, что не знает народа».
* * *
«При полном реализме найти в человеке человека. Это русская черта по преимуществу, и в этом смысле я конечно народен (ибо направление мое истекает из глубины христианского духа народного), – хотя и неизвестен русскому народу теперешнему, но буду известен будущему».
* * *
«Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души человеческой».
* * *
«Что Россия не в одной только Европе, но и в Азии, и что в Азии, может быть, больше наших надежд, чем в Европе».
* * *
«Восточный вопрос разрешится сам собою. В сущности Восточный вопрос для нас теперь и не существует. Мы решим его вдруг, в грядущие времена, выберем минутку такую в Европе, вроде франко-прусской войны, и когда при том сама собой затрещит Австрия».
* * *
«Уничтожение аристократизма, петербургского взгляда на народ и на Россию и смирение перед нею».
* * *
«Петербург ничего, а народ всё».
* * *
«Проливать кровь вы не считаете нравственным, но проливать кровь по убеждению вы считаете нравственным. Но, позвольте, почему безнравственно кровь проливать?»
* * *
«Если мы не имеем авторитета в вере и во Христе, то во всем заблудимся».
* * *
«Нравственные идеи есть. Они вырастают из религиозного чувства, но одной логикой оправдаться никогда не могут».
* * *
«…огромный факт появления на земле Иисуса и всего, что за сим прошло, требует, по-моему, и научной разработки».
* * *
«Убеждение же человечества в соприкосновении мирам иным, упорное и постоянное, тоже ведь весьма значительно».
* * *
«Что царь русский есть царь и повелитель всего мусульманского Востока. Пусть приучаются к этой мысли в Константинополе».
* * *
«Я ничего не ищу, и ничего не прошу, и не мне хватать звезды за мое направление».
* * *
«Я, как и Пушкин, слуга царю, потому что дети его, народ его не погнушаются слугой царевым. Еще больше буду слуга ему, когда он действительно поверит, что народ ему дети. Что-то очень уж долго не верит».
* * *
«У нас всё в вопросах, всё будущее наше».
* * *
«Для народа в Петербурге только то лишь важно, что в нем его великий царь живет».
* * *
«Восторжествует православие, самодержавие, добрые мысли, святая простота и высота созерцания жизни».
* * *
«О, без интеллигенции нельзя обойтись, но и спросить после, а прежде народ».
* * *
«Много происходит, а вдруг и совсем даже как-то внезапно».
* * *
«Пусть приучаются к мысли, что мусульманский Восток и Азия принадлежат Белому царю».
* * *
«Имея море и флот, а теперь у нас всего только одна балтийская лужа, на которую польстился Преобразователь».
* * *
«У нас в России обратное: народ ждет всего от царя. Пугачев, шедший истребить помещика, должен назваться царем, чтобы иметь успех».
* * *
В заключение этого раздела хочу в порядке информации для размышления привести слова младшего современника Достоевского, человека талантливого и здравомыслящего – Герберта Уэллса:
«В то время как весь мир к западу от России изменялся очень быстро, сама она в течение XIX в. изменялась крайне медленно. В конце этого столетия, как и в его начале, она все еще представляла собой великую монархию в стиле позднего XVII столетия, основанием которой было варварство; она все еще находилась на той стадии, когда дворцовые интриганы и императорские фавориты могли осуществлять контроль над ее международными отношениями.
Она провела через всю Сибирь длинную железную дорогу, в конце которой ее ожидала катастрофа русско-японской войны. Она использовала современные методы войны и новые виды вооружений лишь в той степени, в какой позволяли ее слаборазвитая промышленность и ограниченное количество достаточно образованных людей. Такие писатели, как Достоевский, создали нечто вроде мистического империализма, основавшегося на идее Святой России и ее миссии. Эта идея была окрашена расовыми предрассудками и антисемитскими настроениями; однако, как показали последующие события, она не смогла глубоко проникнуть в сознание масс россиян» (из книги «Очерки истории цивилизации»).
Таким был взгляд со стороны на достоевское и постдостоевское время и на содержание и судьбу идей Достоевского. Оставлю его без комментариев, и насколько он верен, пусть судит читатель.
IV. Ставрогинский грех
Чужими грехами свят не будешь.
* * *
Название для книжки: старые грехи.
* * *
У каждого человека
что-нибудь спрятано.
Антон Чехов (из записных книжек)
Эта история начинается в тот момент, когда в одной из записных книжек и тетрадей Достоевского за 1860–1865 гг. появляется запись: «Чернышевский говорит, что он семинарист». Эта запись сделана под впечатлением статьи Чернышевского «Полемические красоты. Коллекция первая», где были такие слова: «…г-н Юркевич – профессор этой академии [Киевской духовной академии]. Я сам – семинарист». С этого момента «семинарист» пошел гулять по различным записям Достоевского: в записных тетрадях 1872–1875 гг. появляется запись: «Я обнаружу врага России – это семинарист», затем – в рабочих тетрадях 1875–1877 гг.: «Но может ли семинарист быть демократом, даже если б захотел того?» Мышление Достоевского начинает «вязнуть» в этой теме: «Это не слог М.М. Достоевского в обращении с людьми. Это не был подобострастный семинарист, начинающий делать карьеру, и наглый и бесстыдный, когда ее сделает» («Записная тетрадь 1876–1877 гг.»). И еще с десяток проклятий по адресу семинаристов.
И, наконец, конкретный облик:
«Н. Н. С<трахов>. Как критик очень похож на ту сваху у Пушкина в балладе «Жених», об которой говорится:
Она сидит за пирогом
И речь ведет обиняком.
Пироги жизни наш критик очень любил и теперь служит в двух видных в литературном отношении местах, а в статьях своих говорил обиняком, по поводу, кружил кругом, не касаясь сердцевины. Литературная карьера дала ему 4-х читателей, я думаю, не больше, и жажду славы. Он сидит на мягком, кушать любит индеек, и не своих, а за чужим столом. В старости и достигнув двух мест, эти литераторы, столь ничего не сделавшие, начинают вдруг мечтать о своей славе и потому становятся необычно обидчивыми и взыскательными. Это придает уже вполне дурацкий вид, и еще немного, они уже переделываются совсем в дураков – и так на всю жизнь. Главное в этом славолюбии играют роль не столько литератора, сочинителя трех-четырех скучненьких брошюрок и целого ряда обиняковых критик по поводу, напечатанных где-то и когда-то, но и два казенные места. Смешно, но истина. Чистейшая семинарская черта. Происхождение никуда не спрячешь. Никакого гражданского чувства и долга, никакого негодования к какой-нибудь гадости, а напротив, он и сам делает гадости; несмотря на свой строго нравственный вид, втайне сладострастен и за какую-нибудь жирную грубо-сладострастную пакость готов продать всех и всё, и гражданский долг, которого не ощущает, и работу, до которой ему все равно, и идеал, которого у него не бывает, и не потому, что он не верит в идеал, а из-за грубой коры жира, из-за которой не может ничего чувствовать. Я еще больше потом поговорю об этих литературных типах наших, их надо обличать и обнаруживать неустанно» («Записная тетрадь 1876–1877 гг.»).
Этим лицом, как видим, оказался Николай Николаевич Страхов. Тот самый Страхов, который:
– «дорогой Николай Николаевич», «голубчик Николай Николаевич», «родной мой», «быть того не может, чтобы за границей не встретились» и т. п. (26.06(08.07).1862, из Парижа);
– «Если Вы, добрейший Николай Николаевич, захотите припомнить многие годы наших близких и приятельских отношений, то, вероятно, не подивитесь тому, что я, в счастливую (хотя и хлопотливую) минуту моей жизни, припомнил об Вас и пожелал сердцем видеть Вас в числе моих свидетелей и потом в числе гостей моих, по возвращении молодых домой» (08.02.1867, из Петербурга);
– «Да, дорогой мой, много бы хотелось переговорить с Вами» (12(24).12.1868, из Флоренции);
– «До свидания, многоуважаемый и добрейший Николай Николаевич. Ваши письма для меня составляют слишком многое» (18(30).03.1869, из Флоренции);
– «С Вами удивительно приятно иметь дело» (6(18).04.1869, из Флоренции);
– «мне Ваше письмо было дорого» (9(21).10.1870, из Дрездена);
– «не забывайте меня и верьте моим искренним чувствам к Вам» (2(14).12Д870, из Дрездена);
– «Вы один из людей, наисильнейше отразившихся в моей жизни, и я Вас искренно люблю» (18(30).05.1871, из Дрездена); и т. д.
Да и по поводу «трех-четырех скучнейших брошюрок» прежде говорилось иначе: «Я всегда любовался на ясность Вашего изложения и на последовательность; но теперь [после появления брошюры «Бедность нашей литературы», 1867 г. ], по-моему, Вы стоите несравненно крепче».
И после всего этого в «Записной тетради 1876–1877 гг.» появилось приведенное выше «неустанное обличение» Страхова как «семинариста». Не в силах выкарабкаться из своей очередной «вязкой» мысли о вреде «семинаристов», Достоевский тут же, через страницу записывает более общее разоблачение «семинариста» как явления:
«Семинарист.
Семинарист, сын попа, составляющего status in statu, а теперь уж и отщепенца от общества, а казалось бы, надо напротив. Он обирает народ, платьем различается от других сословий, а проповедью давно уже не сообщается с ними. Сын его, семинарист (светский), от попа оторвался, а к другим сословиям не пристал, несмотря на все желание. Он образован, но в своем университете (в Духовной академии). По образованию проеден самолюбием и естественною ненавистью к другим сословиям, которые хотел бы раздробить за то, что они не похожи на него. В жизни гражданской он многого внутренне, жизненно не понимает, потому что в жизни этой ни он, ни гнездо его не участвовали, оттого и жизнь гражданскую вообще понимает криво, лишь умственно, а главное отвлеченно. Сперанскому ничего не стоило проектировать создание у нас сословий, по примеру английскому, лордов и буржуазию и проч. С уничтожением помещиков семинарист мигом у нас воцарился и наделал много вреда отвлеченным пониманием и толкованием вещей и текущего».
Весьма интересно появление в этом тексте понятия «status in statu», ранее применявшегося к «жидовскому царству», а теперь – к православному духовному сословию: так «вязкие» мысли и «сверхценные идеи» переплетались в больном воображении Достоевского-публициста.
Сам Страхов был несколько иного мнения о семинаристах – в его статье, посвященной памяти Добролюбова, с гордостью поминается семинарское прошлое покойного и содержится искренний гимн семинарии: «Семинария поглощает собой всю жизнь семинаристов, потому что только тут есть что-то светлое – товарищество, наука, движение. Для них не существует никаких других интересов, им нечего любить кроме того мерцающего света, который им является в училище. <…> Интереса, более исключительно господствующего, как интерес науки, в семинарии и представить себе невозможно».
Но что же все-таки произошло между слащаво-сентиментальными письмами прошлых лет и «разоблачительной» записью 1876 г. или даже до появления в «Записной тетради 1872–1875 гг.» маленькой заметки: «Если не затолстеет, как Страхов, затолстел человек». Из всех обстоятельств, связывавших Достоевского и Страхова в этот период, можно выделить два события: во-первых, Страхов все более увлекался личностью и творчеством Льва Толстого, а во-вторых, Страхов (и А. Майков) были шокированы тем, что Достоевский отдал «Подростка» в «Отечественные записки» «западникам» и «нигилистам» Некрасову и Щедрину. Этот роман начал там печататься в 1875 г., с первого номера журнала, и друзья и соратники писателя по той самой «партии» при встречах с ним не сумели скрыть своего разочарования. Достоевский почувствовал их скрытый упрек, а прощать упреки даже тем, чьим добрым отношением он пользовался в трудные времена, Достоевский не умел.
И вот он пишет Анне Григорьевне 12 февраля 1875 г. из Петербурга о посещении Страхова, у которого он встретился и с А. Майковым: «Нет, Аня, это скверный семинарист и более ничего; он уже раз оставлял меня в жизни, именно с падением «Эпохи» и прибежал только после успеха "Преступления и наказания". Майков несравненно лучше, он подосадует, да и опять сблизится, и все же хороший человек, а не семинарист». Вот те нате, каков оказывается тот, кого еще недавно писатель именовал «одним из людей, наисильнейше отразившихся» в его жизни, и кого он совсем недавно «искренно» любил. Да и Майков более не «сблизился» и всячески избегал общения с Достоевским.
Вскоре и появилась эта злосчастная запись о Страхове, а исследователи-апологеты вот уже сто лет как силятся объяснить эту выходку Достоевского его высокой идеологической «принципиальностью» и идейными расхождениями.
Когда же после смерти Достоевского Страхов, участвовавший в подготовке посмертного собрания его сочинений, для которого он написал биографию писателя, не утратившую своего значения и по сей день, получил разрешение Анны Григорьевны поработать с архивом покойного, он, по всей видимости, и обнаружил свою «благожелательную» характеристику. Страхов не стал сводить счеты с бывшим другом публично, и созданная им биография Достоевского безупречна, однако, закончив эту работу, он отвел душу в частном письме Льву Толстому.
Письмо это увидело свет уже после смерти «зеркала русской революции», когда в 1913 г. Б. Модзалевекий отдельным томом издал «Переписку Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым». Переписка эта появилась в печати в двух вариантах (оба в 1913 году): в виде отдельной книги, вышедшей в Петербурге в типографии Вольфа, и в виде ежемесячных приложений к популярному столичному журналу демократического направления «Современный мир», начиная с января 1913 г. Вот как звучало объявление об этом в декабрьском (1912 г.) номере этого журнала:
"…редакцией «Современного мира» приобретена от «Общества Толстовского Музея» с правом исключительного печатания в течение 1913 года неизданная переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым под редакцией, со вступительной статьей и примечаниями Б. Л. Модзалевского.
«Переписка» будет печататься в «Современном мире», сверх обычного журнального материала, в конце каждой книги…
Обширная (268 писем), захватывающая почти четверть века (с 1870-го по 1894 г.) «Переписка» Толстого со Страховым, касаясь самых разнообразных тем, однако, посвященная вопросам литературы, искусства, философии и религии, – вопросам, которыми жил Толстой и в кругу которых он силой своего обаяния крепко держал своего постоянного собеседника и корреспондента. Толстой дорожил перепиской со Страховым, настойчиво требовал от последнего непременно «длинных, обстоятельных» писем и «скучал» без них. «Когда проснусь, то первое, что представляется, это мое желание общения с Вами», – писал Толстой Страхову 23 ноября 1878 г.
Ввиду такого значения «переписки» для изучения личности «великого писателя земли русской», она будет представлена читателям «Современного мира» полностью".
Модзалевский, готовивший издание этой переписки и в книжном, и в журнальном вариантах, ни разу не упомянул о содержавшейся в ней бомбе – о письме Страхова о Достоевском от 28.11.1883 г. из Петербурга.
Не упомянул об этом письме и редактор журнала «Современный мир» – литературовед и писатель Вл. Кранихфельд. (Эта фамилия появляется в жизни Достоевского в 1879 г., когда, уезжая на лето в Старую Руссу, он и Анна Григорьевна сдали свою петербургскую квартиру неким Кранихфельдам, которым потом досаждали прусаки, жившие в этой квартире. Однако черные тараканы, обитавшие в кабинете писателя, при появлении Кранихфельда, как писал Достоевский, «мигом исчезли». Для успокоения патриотов сообщим, что все Кранихфельды «жидами» не были и принадлежали к дворянскому сословию, что не помешало Достоевскому пугать Анну Григорьевну тем, что они и денег за съем квартиры не заплатят, да еще и их мебель заложат. Что-то было все-таки не так в этих Кранихфельдах, и, возможно, займись этим вопросом какой-нибудь Кожинов, он сумел бы отыскать у Кранихфельдов некоторую долю еврейской крови, и тогда публикацию письма Страхова можно было бы представить как «сионистскую выходку».)