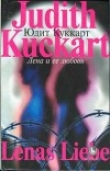Текст книги "Один счастливый остров"
Автор книги: Ларс Сунд
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
РАЗГОВОР В ИЮЛЬСКИХ СУМЕРКАХ
Гита сказала:
– Мне кажется, было бы как-то лучше, если б эти люди погибли в катастрофе… Как «Эстония» или Чернобыль…
Риггерт ответил:
– Не понимаю. Почему это было бы лучше?
Гита сказала:
– Тогда мы, по крайней мере, не чувствовали бы себя соучастниками преступления.
На этот раз не Гита Сааринен ждала Риггерта фон Хаартмана, а он ее. Она прибыла паромом «Архипелаг», поздним рейсом. Как и в прошлый раз, когда она была на острове, менялась погода: серо-белые валики облаков исполосовали небо, словно борозды на перевернутом вспаханном поле. Радио предвещало перемену ветра на северный и умеренную видимость. Шел третий день отпуска Риггерта фон Хаартмана.
Этот день он провел, меняя пару подгнивших досок в двери веранды старого полицмейстерского дома на новые.
Он играл в плотника: ему нравилось облачаться в рабочий комбинезон с дюймовой линейкой в нагрудном кармане и молотком в петле у пояса. Пилить, стругать, подгонять доски, касаться пальцами гладкой поверхности древесины, вдыхать сладкий запах столярного клея – все это дарило ему чувство тихого удовлетворения.
Сам он называет это «возиться».
Первой старый полицмейстерский дом полюбила его жена – точнее, бывшая жена, когда они пришли сюда десять с лишним лет назад. Тогда дом стоял с заколоченными темными окнами, обшивка стен истрепалась от ветра и дождей, жестяная кровля покрылась коричневыми пятнами ржавчины. Элисабет мечтала купить этот дом и сделать его летней дачей – потом, когда они вернутся жить на материк, разумеется. В те времена он еще верил, что они будут вместе в горе и в радости, пока смерть не разлучит их, и тоже мечтал о старом полицмейстерском доме. Ее влюбленность стала его влюбленностью – как и все, что было связано с ней. Он шутил, что старый полицмейстерский дом переименуют в новый полицмейстерский дом, когда они переедут сюда; он видел перед собой долгие летние месяцы в доме, полном детей – а потом и внуков.
Тогда Элисабет пугалась. Он не понимал, что она мечтает о доме не всерьез, – и понял это слишком поздно. Они с Элисабет так и не купили старый полицмейстерский дом. Он купил его один.
Дом достался ему дешево. Комнаты звенели пустотой, как его душа. Здесь пахло пылью, плесенью и распадом. «Что же я наделал?» – думал он, произнося имя Элисабет, раз за разом, громко. Он сглатывал ком в горле – не только от пыли, висевшей в густом, застоявшемся воздухе.
Ему посоветовали продать дом, но он так и не собрался.
Однажды он случайно увидел объявление в газете: Публичный институт Эрсунда приглашает всех желающих на курсы ремонта домов. Он подал заявку, не питая особых надежд на успех. Перед первым занятием он чуть было не передумал ехать – но все же поехал и, к собственному удивлению, заинтересовался работой. Он, не забивший за всю жизнь ни единого гвоздя и получивший в школе «тройку» по труду, стал изучать плотническое мастерство с нуля. Через некоторое время он смотрел на свои руки и не мог поверить, что они способны так трудиться. Он купил собственные инструменты. Вместе с руководителем курсов они осмотрели дом и решили, что нужно делать в первую очередь. Он заказал доски. Той весной, десять лет назад, Риггерт фон Хаартман начал ремонтировать старый полицмейстерский дом.
– С тех пор и вожусь, – сказал Риггерт фон Хаартман редактору Гите Сааринен, стоя на лужайке перед домом. Работа над дверью заняла больше времени, чем он рассчитывал, и, когда автомобиль Гиты въехал на гравиевую дорожку перед домом, фон Хаартман ставил дверь на петли. Новая древесина светилась желто-белым, и, даже не будучи выдающимся плотником, он видел, что работа сделана умело и аккуратно.
Вечернее солнце на западе выглянуло в просвет между облаками, лучи яркого золотистого света отразились в блестящей поверхности моря, как на раскрашенной церковной гравюре девятнадцатого века.
– И ни конца не видно, ни края, – сказал Риггерт фон Хаартман. – Да и зачем мне, холостяку, такой большой дом?
– Надо же, я и не думала, что ты такой… мастеровитый, – улыбнулась Гита.
Он пожал плечами, но Гита заметила, что ее похвала, пусть и неуклюжая, была ему приятна.
– Да что ж я стою в грязном комбинезоне, пойду переоденусь, – извинился он.
– Ничего страшного, мне нравятся мужчины в рабочей одежде, – сказала Гита и тут же прикусила язык, с которого только что сорвалось слишком интимное признание.
Однако он не заметил этого – или заметил? Он улыбнулся:
– Могу открыть строительную фирму, если юриспруденция надоест… Кстати, ты есть не хочешь? Я, к сожалению, не Бог весть какой повар, но в холодильнике есть нарезка и овощи, а в морозилке готовая еда, если ты не возражаешь…
– Слушай, я принесла кусок свежайшего лосося и пару бутылок белого вина к нему, – сообщила Гита. – Позволь мне занять твою кухню – вдруг что получится?
Когда он вернулся со второго этажа, переодевшись в светлую рубашку с короткими рукавами и бежевые брюки, Гита крошила салат, на плите стояла кастрюля, а на разделочной доске дожидалось своей очереди бледно-розовое лососевое филе. Она заметила, что его короткие темные волосы влажны, а по щекам будто бы только что прошлась бритва. За ним тянулся слабый запах бальзама или лосьона после бритья.
– Запеченный лосось с розовым перцем и морской солью, свежая картошка, салат, – бодро перечислила Гита. – Годится? Будь добр, достань форму для запекания. И нет ли у тебя укропа, я не нашла в ящике с овощами.
Ловкими, привычными движениями она нарезала помидоры, смешала заправку для салата, поставила форму с лососем в духовку, разогретую до двухсот градусов. Потом повязала фартук, дважды обмотав тесемкой талию и заткнув за пояс кухонное полотенце. Он смотрел, как она работает, видел разрумянившееся лицо, отмечая, что это ее красит. Он сказал:
– Ой, ты прямо как повар в телепередаче. Может быть, научишь меня каким-нибудь секретам?
Они ели на застекленной веранде старого полицмейстерского дома. Лосось получился сочным, филе делилось на тонкие ломтики от прикосновения вилки. К рыбе Гита подала холодный соус на растительном масле и яичном желтке, приправленный горчицей и пряными травами. Фон Хаартман хвалил еду.
– С укропом вышло бы лучше, – снова засмеялась Гита.
«Мне нравится ее смех», – подумал он и поднял бокал. Она подняла свой.
Он открыл новую бутылку; она стала рассказывать о южной поездке – то немногое, что узнала.
Работа на радио научила ее начинать с главного, исключая лишнее, пересказывая важное. Он внимательно слушал, он был хорошим слушателем, он слушал ушами и глазами. Он не перебивал. Гита рассказала, что знала и о чем догадывалась, – серьезно и без утайки. Ей показалось, что вышло хорошо. Она старалась не выставлять свои журналистские заслуги более значимыми, чем они были на самом деле.
– Я до сих пор злюсь из-за пропажи компьютера. – Она покачала головой. – Все было в нем. Какая идиотка – могла бы сделать копию файлов и отправить тебе.
Двое – мужчина и женщина – сидели друг напротив друга на застекленной веранде отремонтированного дома на острове архипелага. Как только женщина умолкла, стало совсем тихо. По небу катились облака – серые, плотные, как папье-маше, они впитывали дневной свет. Ветер усиливался, березы во дворе беспокойно раскачивались.
Заблудший ночной мотылек летал неровными кругами по веранде, быстрый трепет коричневых, словно потрескавшихся крыльев размывал контуры. Опустившись на рейку между двумя окнами, мотылек превратился в неподвижный темный треугольник на выкрашенном белой краской дереве. Гита Сааринен молча наблюдала за насекомым в ожидании слов Риггерта фон Хаартмана.
– Итак, если подытожить то, что ты рассказала, – начал он. – Прости. Мы, юристы, любим подытоживать. Значит, ты говоришь, что на юге ходят слухи об исчезновении людей. Бездомных, безработных, алкоголиков и наркоманов, больных без средств на лечение, сирот… За последние полгода пропали сотни людей.
– Да, – сказала она. – Я уверена в этом. И некоторых убили.
Плетеное кресло скрипнуло от недовольного движения – он не любил, когда его перебивают. Она поняла это и прикусила губу. Повисла небольшая пауза; бедный мотылек предпринял новую попытку вылететь через закрытое окно.
– Мертвых выбрасывали за борт. Некоторых вынесло сюда, на Фагерё.
На этот раз Гита молча кивнула.
– Ты говорила, что встретилась с правозащитником, который обвиняет местные власти и частные предприятия в смерти этих людей. Они хотели «зачистить» местность от нежелательного элемента. Но у него не было неопровержимых доказательств. Никто не хотел его слушать.
– Ее, – поправила Гита. – Ее зовут Анна Миллер. Она рассказала мне, что входит в состав небольшой группы, которая пытается выяснить, что на самом деле скрывается за этими исчезновениями.
– Но когда ты пыталась снова позвонить ей, оказалось, что номер, который она тебе дала, неверен.
– Да, я услышала лишь сообщение о том, что «данный номер не существует…» – Она тяжко вздохнула. – Ты во все это не веришь, так?
Осмелившись посмотреть в глаза Риггерту фон Хаартману, Гита и в самом деле увидела сомнение, но вдобавок к нему что-то другое – что-то, чего она не смогла бы выразить словами: желание хотя бы проверить услышанное, прежде чем полностью отвергнуть.
– Я, как уже сказано, юрист, а юристы предпочитают придерживаться фактов, – сказал он.
– Если допустить, что то, о чем ты говоришь, произошло на самом деле, что люди исчезают…
У них на юге ведь есть власти, есть регистрация населения. Если бы люди пропадали, кто-нибудь заявил бы об этом в полицию. Начались бы расследования. Вскоре этим заинтересовались бы журналисты.
– Но если предположить, что ни у кого из этих людей не было семьи, которая могла бы заявить в полицию? Или родным нет дела? И у нас случается, что люди умирают и лежат у себя дома по нескольку месяцев и никто о них не вспоминает.
– Ну да, такое бывает. Но несколько сотен пропавших… Трудно поверить, что такое произошло и никто не заметил.
– Но можно, – парировала Гита.
За окном двигались воздушные массы, шумная песня ветра и берез во дворе проникала на веранду сквозь закрытые окна, вновь подчеркивая повисшее молчание. Риггерт фон Хаартман встал, принес масляную лампу, чиркнул спичкой; крошечное пламя фитиля сначала беспокойно дрожало, но, поймав струю воздуха, вытянулось, пожелтело и стало ровным.
Она вертела в руках бокал; стекло поймало желтый отблеск масляной лампы, высветивший отпечаток губ, – это отчего-то показалось ей неприятным.
– Если есть простой способ избавиться от ненужных людей, которые не годятся ни для работы на производстве, ни в качестве потребителей, – сказала Гита, размышляя вслух, – от тех, кто является грузом для общества… то это обойдется дешевле, чем выплачивать социальные пособия и пенсии. Многие состоятельные люди наверняка одобрили бы такое решение.
Он долго не сводил с нее взгляда.
– Ты серьезно?
– Не знаю, – вздохнула она. – Правда не знаю… Но ведь раньше иногда социальные проблемы решались таким способом… Ни для кого не секрет, что владельцы магазинов в больших городах третьего мира нанимают бригады убийц, чтобы избавиться от беспризорников, которые клянчат деньги у входов в их магазины. В Центральной Америке регулярно убивают рабочих банановых плантаций, которые протестуют против предприятий-владельцев. Десятки тысяч индийских крестьян совершили самоубийство, потому что им не по карману генно-модифицированная рассада, без которой они не могут прокормить свои семьи. И никто не бьет в набат. А когда американцам понадобился остров Диего-Гарсия под авиабазу в Индийском океане, что они тогда сделали? Депортировали все население, а потом двадцать лет врали об этом… Кстати, эти люди – те, чьи трупы оказались на Фагерё: может быть, их не собирались убивать? Может быть, их решили депортировать, как население Диего-Гарсии? Но план сорвался. Может быть, судно пошло ко дну. Они утонули. А говорить об этом было запрещено – ведь это бросило бы тень на власти страны. Пришлось отрицать. Возможно, все было именно так.
Она слышала, что говорит на повышенных тонах, резко. Не договорив, она замолчала, слова безнадежно повисли в воздухе.
Ветер кинул горсть дождевых капель в стекла веранды.
Мотылек неподвижно сидел на прежнем месте. Гите захотелось протянуть руку, коснуться его, чтобы улетел.
После продолжительного молчания он произнес:
– В последнем письме ты писала… будто ты не веришь, что компьютер пропал случайно?
Вопрос застал Гиту врасплох. Облокотившись на край стола, она сплела пальцы, потерла одну ладонь о другую. Не найдя в себе сил ответить, она кивнула.
– Это произошло до или после того, как ты говорила с той правозащитницей… Анной Миллер?
– После, – выдавила она.
Он снова умолк, глядя в стол.
– Знаешь, Гита… Я тоже не верю в то, что компьютер украли случайно, – произнес он наконец.
ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ В «АМЕРИКЭН БАР»
Автор и читатель в последний раз переступают порог «Америкэн бар». У стойки мы заказываем по пиву – сейчас здесь «счастливые часы», пиво стоит три евро за бокал. Можно выпить лимонада или другого безалкогольного напитка, если бочковое пиво Коробейника по какой-то причине неугодно. Мы берем бокалы и садимся в закуток. Кто-то угостил джук-бокс, знаменитый «Вурлицер», монеткой, и тот играет «(I Can’t get no) Satisfaction» «Роллинг стоунз».
Порывистый северный ветер принес на Фагерё обильный дождь. Капли исполняют партию ударных на жестяной крыше бара, вода стекает вниз жемчужным занавесом перед окном, выходящим на пустынную террасу, где сложенные рекламные зонтики дрожат от порывов ветра, пытаясь вытряхнуть воду из складок. До вечера еще далеко. В баре царит спокойствие. Несколько незнакомцев собрались в другом закутке, чтобы выпить по первому на сегодня пиву; они тихо беседуют, над головами тает серо-голубой табачный дым. Подростки в расшнурованных кроссовках и мешковатых джинсах сгрудились у игры «флиппер», погрузившись в собственный мир позвякиваний, стука и мигающих огоньков. Больше посетителей в заведении Коробейника в данный момент нет.
Впрочем, это не так. Кто-то стоит у джук-бокса – спиной к нам, чуть нагнувшись. Он – или она? – одет в темную ветровку и что-то вроде фуражки. Нам не видно, кто это.
Дверь «Америкэн бар» открывается, впускает дождь, ветер и Абрахамсона с Бусё.
Абрахамсон с Бусё являет собой точную копию растиражированной картинки «Старый рыбак»: на нем зюйдвестка и дождевик, белая борода всклокочена, не хватает только изогнутой трубки. Абрахамсон снимает зюйдвестку, стряхивает с нее воду, шлепая о косяк двери, после чего закрывает дверь. Он расстегивает дождевик, с которого капает вода, и идет к бару, оставляя темные мокрые следы на половицах.
– Ну, здорово, – произносит Абрахамсон. – Шел мимо – надо, думаю, проведать.
Коробейник, вешающий только что вымытые бокалы на сушилку над барной стойкой, еле заметно кивает в ответ.
– Ну и погодка, мать ее за ногу… Коньячку бы капельку не повредит, хоть и рано еще.
Лицо Коробейника неподвижно, замкнуто; весь он будто печка с закрытым устьем: то ли огонь горит внутри, то ли холодный пепел вместо огня. Плеснув коньяку, он ставит бокал на стойку и толкает к посетителю. Абрахамсон взбирается на барный стул, шаря в кармане в поисках денег. Коробейник качает головой. Этот ритуал повторяется всякий раз, когда Абрахамсон приходит в бар: Коробейник угощает первой порцией коньяка, Абрахамсон редко заказывает больше одной.
Здесь следовало бы пересказать разговор между Коробейником и Абрахамсоном. Они должны были говорить о Бедде Густавсон, однако не о ее озабоченности проблемой мертвых, оказавшихся на Фагерё, а о более пикантных вещах: у Бедды Густавсон появился поклонник. Да, это могут подтвердить Эльна из Бакки и прочие осведомленные личности: Элис с Нагельшера пригласил Бедду на ужин и танцы в эрсундском ресторане «Сегель». А еще Эльна сообщила, что к приглашению прилагался большой букет роз.
Об этом Абрахамсон должен был рассказать Коробейнику, которому полагалось покачать головой в ответ: «Ну, Элис – это Элис… С тех пор как жена умерла, за всякую юбку цепляется…»
Разумеется, сперва Коробейник изобразил бы удивление, ведь хозяин заведения не должен быть осведомлен лучше, чем посетители. Но на самом деле Элис сидел у этой самой стойки не далее чем накануне вечером, одетый в пиджак с иголочки и белую водолазку; заказывая восьмую порцию виски, он проклинал весь женский род и в особенности Бедду Густавсон. Коробейнику пришлось помочь ему добраться до ожидающего неподалеку такси Ленни. Розы, которые Элис бросил на стойку, остались у Коробейника.
Но этому разговору не суждено состояться.
Происходит нечто полностью меняющее ход повествования.
Происходящее невозможно описать, ибо внешне ничего не заметно.
Двое мужчин стоят по разные стороны барной стойки. Один из них, Абрахамсон с Бусё, будто бы произносит слова – нам не слышно, какие именно, так как в эту минуту металлическая рука джук-бокса хватает новую пластинку и кладет на вертушку. Пластинка начинает вращаться со скоростью 45 оборотов в минуту, тонарм опускается, позволяя игле коснуться ее поверхности, из колонок раздается классика шестидесятых: «Stand by Me».
Можно предположить, что Абрахамсон начинает рассказ о неудачливом ухажере. Возможно, он упоминает имя Бедды Густавсон.
И тогда с Коробейником что-то происходит. Что-то меняется в лице, его будто стягивает, челюсти и виски напрягаются, словно он стиснул зубы. Губы сжимаются.
Сперва Коробейник стоял, нагнувшись над стойкой, будто ловя слова собеседника в шумном помещении, теперь же он выпрямляется, отстраняясь – и это движение еле заметно.
Он чуть отворачивает лицо от Абрахамсона.
Вот и все, что можно заметить.
К стойке подходит один из мужчин, пивших пиво в закутке. У Коробейника появляется уважительная причина оставить Абрахамсона. Он наполняет бокал пивом, принимает деньги, обменивается с мужчиной парой слов. Он никуда не спешит.
Озадаченный Абрахамсон сидит у стойки, прервав рассказ на полуслове.
Коробейник все так же неспешно идет к компании с подносом в руке, собирает пустые бокалы, вытряхивает пепельницу, говоря с посетителями на их языке. Он относит поднос на кухню, дверь раскачивается от толчка то вперед, то назад.
Абрахамсон еще некоторое время сидит у стойки. Дверь кухни больше не качается.
Он уходит, оставив недопитый коньяк. «Stand by Ме» доиграла. Человек у джук-бокса оборачивается. Это Юдит.
КО-ДЭ МАТСОН ПРОВОДИТ СОБРАНИЕ
Апостол Матфей говорит: «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных».
Да, Господь наш небесный распределяет солнечный свет и непогоду согласно демократическим принципам, всем поровну. Хоть порой кажется, что злые и неправедные заслуживают меньше солнца и больше непогоды.
Так думает Ко-Дэ Матсон, прислушиваясь к звукам дождя.
Если бы только дождь шел сорок дней и сорок ночей, если бы только случился новый всемирный потоп! И все бы началось с самого начала.
Ко-Дэ Матсон, председатель муниципалитета, а также уполномоченный по ряду вопросов, ведет собрание в цехе по обработке рыбы Мёрёвикской лососевой фермы. Он только что объявил заседание открытым. В списке присутствующих на встрече всего одно имя: его собственное.
Ко-Дэ пришел сюда, чтобы, согласно демократическим принципам, призвать себя к ответу.
Порывы ветра бьются о стены цеха, крытые листовым железом, звук дождя напоминает шелест пшеницы, ссыпаемой на дно тракторного прицепа. В цехе прохладно, пахнет сыростью. Желтовато-белый свет люминесцентных ламп падает на мраморную поверхность разделочного стола, тачки для отходов, весы, умывальник, краны, цементный пол, на котором поблескивает серебристая чешуя. Скрученный шланг лежит, как свернувшаяся ядовито-зеленая змея, остатки воды по капле вытекают из пасти на пол. Вдоль стены стоят пустые ящики для рыбы, отмеченные штампом фирмы «Лосось Фагерё», – признаем, не слишком изобретательно, но серьезно и основательно. Все в этом цехе пока еще ново, чисто, незатерто, неизношенно. Здесь успели разделать лишь несколько тонн рыбы.
Ко-Дэ проводит ладонью по прохладной поверхности разделочного стола. Замерев, он смотрит на свою руку: толстые короткие пальцы, вены, словно еловые корни под морщинистой, пятнистой кожей. «Руки, – думает он. – Все это скоро окажется в других руках, в чужих руках».
АО «Лосось Фагерё» прекратил выплаты, о банкротстве заявлено. Долги составили миллион евро с лишним. Аксмар, который время от времени работал на лососевой ферме по найму, опустив голову и руки, выслушал Ко-Дэ, объявившего, что работы больше нет. Аксмар не произнес ни слова в ответ. Он держал в руках жестяной черпак. Мокрые пряди жидких бесцветных волос облепили череп, сапоги перепачканы глиной. Ко-Дэ смотрел, как Аксмар удаляется по направлению к Стурбю на старом дамском велосипеде «Тунтури» с потертыми деревянными ручками руля и коричневыми пятнами ржавчины. Пригнувшись к рулю, Аксмар с силой давил на педали, велосипед вилял, ветер трепал полы куртки.
«Можно ли освободить владельца от ответственности за разорение лососевой фермы?» – спрашивает себя Ко-Дэ.
Он обсуждает вопрос с самим собой. Обсуждение длится недолго.
Решение: освободить владельца от ответственности нельзя.
Включается компрессор в холодильной камере, свет ламп дрожит и тускнеет от увеличения нагрузки на электросеть.
Следующий пункт на повестке дня: брак Ко-Дэ Матсона.
Он предлагает отложить рассмотрение вопроса.
Он слышит собственное дыхание: напряженное, тяжелое. Ко-Дэ облизывает сухие губы.
Два вопроса из повестки дня рассмотрены, остается один, самый важный.
Ведь политика – самое важное в жизни Ко-Дэ Матсона.
Компрессор ворчит за стенкой, заглушая дробь дождевых капель по крыше. Звук напоминает Ко-Дэ шум рефрижератора в приемном пункте Тунхамна, не утихавший ни днем, ни ночью, когда трупы прибывали ежедневно.
– На мой взгляд, забота об этих трупах не должна ложиться на плечи муниципалитета, – оправдывается Ко-Дэ, слыша, как слова отзываются эхом меж стен цеха.
То же самое Ко-Дэ говорил на заседании муниципалитета несколько дней назад.
Но Абрахамсон с Бусё только покачал головой.
– Ты сам все время откладывал этот вопрос, Ко-Дэ, – сказал он прокуренным голосом, напоминавшим шорох крупного гравия, сгребаемого совком. Он говорил медленно, будто нехотя, и оттого обвинения были еще неприятнее.
И Абрахамсон, конечно, был прав. Ко-Дэ старался действовать наиболее правильным с точки зрения политики образом.
– Но дальше так нельзя, – продолжил Абрахамсон. – Фагерё – муниципалитет небольшой. Не можем мы заботиться о сотнях чужаков.
– Но ведь новых трупов не было со дня солнцестояния…
Так ответил Ко-Дэ, и теперь, стоя посреди пустого цеха, он понимал, что начинать спор не следовало, ведь таким образом он признал, что против него выдвинуто обвинение, и как политик сделал себя уязвимым.
– Ты знаешь, многие на Фагерё считают, что эти трупы нужно убрать с Чёркбранта и похоронить в другом месте, – вставил Петтерсон. – Подписи собирают за то, чтобы их убрать. Говорят, многие уже подписались.
Ко-Дэ неотрывно смотрел на Абрахамсона, на Петтерсона. Имена обоих значились в подписи листовки, созывавшей на обсуждение в «Одинсборге», вместе с той Беддой Густавсон – обсуждение, в котором, по мнению Ко-Дэ, не было никакой необходимости. Ко-Дэ рассуждал так: может быть, и не стоило тех мертвых хоронить на Фагерё, но вывозить их – это ему не по душе. Кого предали земле – пусть в земле остается. Выкапывать мертвых, нарушать их покой – это неприлично. Это против христианской этики. Если бы не то злополучное собрание, до такого никто бы и не додумался. Люди приняли бы все как есть.
В зале заседаний воцарилась странная атмосфера, неподвластная уму Ко-Дэ. Однако он понимал, что теряет контроль над ходом обсуждения. Это было новое, прежде незнакомое ощущение. Он облизал губы, рука потянулась к председательскому молотку, неприятное чувство усиливалось.
– Ну, раз уж об этом заговорили, то я замечу, что этого вопроса нет в повестке дня… – Он бросил взгляд на Сульвейг, которая заменяла муниципального главу Берга, ища поддержки у нее, но та упрямо не отрывала взгляда от бумаг. – Однако если этот вопрос необходимо обсудить, то предлагаю сделать это в другой раз, согласно демократическому порядку.
– Нет, надо обсудить сейчас! – резко перебил его Абрахамсон. – Мы, народные избранники, не можем больше увиливать от ответственности, как раньше.
Это был открытый выпад против него, Ко-Дэ Матсона, и того, как он руководил работой муниципального правления. Это была оценка его труда – и оценка неудовлетворительная.
Ко-Дэ рассердился. И это стало его главной ошибкой.
Ко-Дэ Матсон и Абрахамсон были старыми подельниками в политической жизни муниципалитета. Во многих вопросах они занимали одинаковые позиции. Оба были реалистами, по опыту знавшими, что возможно сделать, а что нет.
Ко-Дэ хотел верить, что они были и друзьями.
Позиция Абрахамсона в вопросе о мервых чужаках его удивила. Абрахамсон был человеком известным и уважаемым, в силу положения и богатства. Деньги и власть – этим вещам жители архипелага отдавали должное. За годы в политике Ко-Дэ научился понимать, что значит лидерство: без предводителя, который проявляет инициативу и указывает путь, народ вряд ли сдвинется с места. Ко-Дэ считал, что, если бы не имя Абрахамсона среди подписавших листовку, она не оказала бы на людей такого действия.
Ко-Дэ пришлось спросить Абрахамсона:
– Почему ты решил поддержать митинг… и это «Собрание Фагерё»?
Заседание муниципалитета уже закончилось, они вышли под дождь, Абрахамсон закурил, втянул дым, закашлялся.
– Это самое, трупы… – Абрахамсон снова закашлялся, сплюнул комок коричневой мокроты. – Черт, надо бы бросить курить… Народу это не нравится, ты сам видишь, не так ли?
– Ну да, – согласился Ко-Дэ, – но…
– Надо было раньше отказаться. Сказать, что они нам тут не нужны. На нашем острове.
Абрахамсон умолк, сделал затяжку, дождь капал на злых и на добрых, на живых и на землю, скрывавшую мертвых.
– Чего я хочу – так это чтоб на Фагерё все было как раньше, до этих покойников, – сказал под конец Абрахамсон.
Ко-Дэ Матсон выходит из разделочного цеха. Дождь все еще льет. Он в последний раз запирает дверь, медленно идет к берегу, смотрит на залив Мёрёвикен: серая вода ощерилась мелкими волнами и глухо ворчит.
Он смотрит на сети рыбофермы, до которых можно добраться по плавучим мосткам. На стальных опорах у берега стоят белые цистерны для рыбьего корма. Ко-Дэ выходит на мостки, они качаются, доски скользят под ногами. Волны бьются о понтонные бочки, брызжа пеной на сапоги.
Ко-Дэ думает о том, что обсуждалось на заседании правления, что говорил Абрахамсон, думает о своих словах. Думает о том, что он сделал и чего не сделал.
И на этот раз он не может освободить себя от ответственности.
«Как только банкротство и развод будут обнародованы, я оставлю пост председателя муниципального правления, – думает он. – Наверное, мое место займет Абрахамсон. Абрахамсон, которого я когда-то считал своим другом, но не теперь».
Ко-Дэ Матсон стоит на дальнем конце скользких плавучих мостков и смотрит на серые мрачные воды, и дождь льет, и лицо мокрое, и с одежды стекает вода.