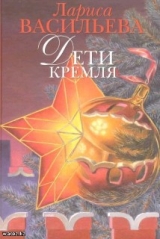
Текст книги "Дети Кремля"
Автор книги: Лариса Васильева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 25 страниц)
Окопная звезда
Что-то мешает мне поставить точку в главе о Светлане. Чего-то не хватает для завершения образа. Наплывают мои собственные встречи и ощущения, давно забытые.
Когда это было? Кажется, в 1969 году. Весной, кажется. В те дни по радиостанции «Свобода» читали «Двадцать писем к другу» Светланы Аллилуевой – сенсационную книгу о Сталине, о времени, о себе.
Я не слушала «Свободу» – уже привезли мне тайком эту книгу, и я прочитала ее.
Центральный дом литераторов. Зашла выпить кофе, ко мне подсели Алексей Яковлевич Каплер с женой, поэтессой-фронтовичкой Юлией Друниной. Каплер, давно вернувшийся из тюрьмы, был знаменит еще более, чем во время войны. Он замечательно вел популярную в стране телевизионную передачу «Кинопанорама»: мудро, остроумно, весело.
Седой Каплер казался мне похожим на добродушную бабушку. Славу донжуана, пожирателя сердец, в прошлом возлюбленного дочери Сталина, поддерживала лишь всегда находившаяся рядом с ним прекрасная Юлия.
Впервые я увидела Юлию Друнину в конце пятидесятых на кинопросмотре в «Литературной газете». Она была старше меня лет на десять-одиннадцать и показалась немолодой, неприметной, серенькой. Рядом с нею был ее муж, поэт Николай Старшинов, худенький, невысокий, с огромными глазами, и тоже как будто не очень приметный. Но не могла я их не приметить, слишком волновали меня слова: «поэт», «стихи», «поэтесса». Друнина и Старшинов – люди моей мечты, явления из мира поэтической жизни.
Через несколько лет, когда в этом мире я стала своим человеком, Юлия Друнина и Николай Старшинов были в разводе. Один знакомый, живший в дачном поселке в Пахре, сказал вскользь: «Мой сосед Каплер. Много дам перебывало у него на даче, но в последнее время вижу одну. Она прикрывает лицо шарфом, но я узнаю ее – это Юлия Друнина».
Каплер и Друнина поженились.
Так получилось, что мы с Юлией нередко оказывались вместе в писательских поездках по стране. Дружбы между нами не было, но и вражды тоже. Она очень изменилась с тех пор, как я впервые увидела ее. Откуда-то возникла яркость красок. Отрастила волосы – их копна очень украшала новую Юлию. Хорошая, стройная, безвозрастная фигура.
Мне нравилось ее внешнее спокойствие, уверенность не то чтобы в себе, а вообще в жизни. Несколько раздражала монотонная тематика ее стихотворений – война, окопы, опять война, окопы. Один из ее сборников назывался «Окопная звезда». Эта ухоженная красавица и окопы не совпадали. Всюду в газетах и журналах критики часто цитировали ее стихи:
Я только раз видала рукопашный,
Раз наяву и тысячи во сне,
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Мне казались фальшивыми эти всех восхищавшие строки.
Да кто же говорит, что на войне не страшно? Однажды я сказала об этом Юлии, и она ответила: «Верно. Но ведь это стихи, в них все можно».
– Не пойму, что в Каплере особенного. Умеет он увлечь женщину. Вон как Юленька расцвела с ним. А посмотреть – доброго слова не стоит этот Каплер, – проворчал Павел Филиппович Нилин на литературном вечере во время выступления Друниной. Я восхищалась этим суровым, резким, вредным, неосторожным на слово писателем и его общество предпочитала многим. – Тартюф!
Бабушка, донжуан, Тартюф, возлюбленный сталинской дочери, Юлин муж – Каплер казался мне совершенно неинтересным. И даже его трогательно-подобострастное поведение с Юлией при ближайшем рассмотрении охлаждало первые восторги: старый муж – она была моложе его на двадцать лет. Юлия – 1924-го, Каплер – 1904 года.
Последняя любовь.
Чувство Каплера к Друниной было известно всем. И всем видно.
В составе делегации Юлия едет в какой-то город. Каплер провожает ее с цветами, в дороге в вагон без конца несут телеграммы от него к ней, а на конечной станции он встречает ее с цветами. Однажды Нилин, увидев Каплера с букетом в окне вагона, завистливо сказал:
– Каплер не оригинален. Так поступал летчик Серов, когда добивался любви своей будущей жены Валентины.
– Пусть не оригинален, – возникла я, – приятно видеть, как любят женщину.
Вечером этого дня Павел Филиппович купил мне букетик цветов.
– Я не Каплер, – сказал он, заметно стесняясь, – не умею ухаживать.
– У вас и результаты другие, – жестоко ответила я.
Каплер и Друнина много путешествовали вдвоем. Любили весной уезжать в Коктебель, на сезон цветения степных маков, и ходили пешком по Карадагу многие десятки километров.
– Она загонит в гроб бедняжку Каплера, – судачили пляжные кумушки. – Не может быть, чтобы ему, старику, нравились эти походы.
– Движение – жизнь, – возражали им другие пляжные кумушки. – Каплер продлил себе молодость, женившись на Юлии. Уж он-то знает толк в женщинах. Сама Светлана была у него…
Разговор угасал, возможно, за отсутствием конкретного материала.
Но вернусь к началу.
* * *
Каплер и Друнина подсели ко мне, а к ним подсела их знакомая, неизвестная мне прежде женщина, ярко-восточного типа, полуседая, с летящей прической.
– Ты слушаешь «Свободу»? – спросила она Каплера и улыбнулась, покачивая в руке небольшие часики на длинной цепочке. – Тебя не забыла.
– Ах, она подонок! Мещанка! Не хочу я слушать! Все, что услышу, – ложь! – Он волновался, был красен, щеки тряслись.
Юлия молчала так, словно ее это не касалось, но какая-то тень была на ее лице.
Каплеры быстро допили кофе и ушли. А я подумала: «Зачем он так? Даже если Светлана в чем-то перед ним виновата, зачем? И почему волнуется?»
Но я не имела права судить. Каплер был человеком сталинского времени. Он отстрадал свое и, возможно, опасался, что вражеские голоса снова треплют его имя и неизвестно еще, как и чем аукнутся ему воспоминания Светланы.
Через несколько лет, гуляя после поэтического вечера в тихом парке города Пскова, Юлия сказала мне:
– Я хочу прочитать тебе стихотворение, оно называется «Царевна»:
Какая грусть в кремлевском парке
Октябрьским ознобным днем!..
Здесь девочка еще за партой
Счастливо думала о Нем.
Не просто девочка – царевна
в кремлевском тереме жила.
Там с нею сладко и напевно
Аукались колокола.
(«Какие колокола, – думала я. – Кремлевские колокола мертвы. Но „это стихи, а в них все можно“».)
Ах, как глаза ее мерцали,
Когда ждала свою мечту!..
Но самый грозный меж отцами
Сослал безумца в Воркуту.
Ушел в безмолвие. С концами…
Что передумала она?..
Ей в сердце врезалась зубцами
Навек Кремлевская стена.
Я молчала.
– Ничего не говори, – сказала Юлия, – я просто хотела прочесть это тебе.
В стихотворении Юлия как бы становилась Светланой, переживая ее поруганную любовь. И она читала его мне, помня ту встречу за столиком, как бы извиняясь за слова Алексея Яковлевича, не мне даже сказанные, но вынужденные в конце шестидесятых, когда еще боялись теней, которых уже не было.
И я подумала: если бы Сталин понял чувства дочери, поверил Каплеру и поженил их – что было бы?
Трудно предсказать. Возможно, тюрьма уберегла Алексея Яковлевича от чего-то не менее страшного если не физически, то духовно.
От разложения кремлевским бытом?
Или от бессмысленного сопротивления этому быту?
От всех иллюзий, связанных с разоблачением культа личности?
От непредсказуемости характера самой Светланы?
* * *
Мы с Каплерами жили на одной улице. Однажды я встретила Алексея Яковлевича на рынке. Мы пошли вместе между рядами, он говорил исключительно о Юлии, покупая ей лучший творожок, любимые яблоки, полезную морковку, говоря, что она плохо себя чувствует, а он беспокоится.
Это было скучно.
Оказавшись с Юлией в одном купе поезда, несшего нас на литературные торжества, я узнала ее беду – бессонницу. Проснулась – в купе, кроме нас двоих, никого не было, – она сидит на противоположном месте и вправо-влево раскачивает головой.
– Что с тобой?
– Ничего. Спи. Все в порядке.
Опять просыпаюсь среди ночи. Она все в том же состоянии. Сажусь на постели.
– Юленька, объясни.
– Ах, это у меня со времен войны. Ночью, как в окопе.
– В поезде вообще трудно уснуть.
– Не только в поезде. Я совсем не сплю.
– И дома? С Каплером?
Она смеется:
– И с Каплером.
Несколько раз мы оказывались в одном номере гостиницы. Я никогда не видела Друнину спящей.
«Плохо себя чувствует», – сказал тогда на рынке Каплер.
А как можно себя чувствовать, если никогда не спишь?
Зная эту особенность Юлии, я почему-то стала внимательнее относиться к ее стихам и разглядела в них цельную, последовательную, бескомпромиссную натуру, уверенную в своей правоте, – типичный характер эпохи.
Окопная звезда… Отражение звезды в лужице фронтового окопа?
В нашем литературном мире, разделенном на правых – славянофилов – и левых – западников – лакмусовой бумажкой для определения принадлежности писателя к тому или иному лагерю был еврейский вопрос.
Если ты еврей, значит, западник, прогрессивный человек. Если наполовину – тоже. Если ни того, ни другого, то муж или жена евреи дают тебе право на вход в левый фланг. Если ни того, ни другого, ни третьего, должен в творчестве проявить лояльность в еврейском вопросе. Точно так же по еврейскому признаку не слишком принимали в свои ряды группы правого, славянофильского фланга. Помню, ко мне в дом напросились два поэта, а уходя, один из них, сильно подвыпивший, сказал:
– Мы приходили проверять твою мать, не еврейка ли она.
– Ну и как, проверили?
– Вроде бы непохожа. Все равно, хоть у тебя и русские стихи, ты по духу – не наша. Но и им не подойдешь. Скорей всего – не пробьешься.
Западники, в свою очередь, советовали мне расстаться с подчеркнутой русскостью в стихах и написать что-то проеврейское, а я думала, что оскорблю евреев нарочитым подлаживанием к ним. И вообще вся эта возня была для меня ниже уровня культуры.
Я рассказала это о себе, думая о Друниной. Она была еврейкой по матери. А также – по Каплеру. Но левый фланг не слишком жаловал ее прямолинейные патриотические стихи. Правому флангу она не подходила, наверно, из-за матери и Каплера.
Юлию всегда избирали членом правления Союза писателей СССР, награждали орденами, государственными премиями. Книги ее выходили в свет одна за другой.
Друнина вписалась бы в небольшой ряд официальных литераторов, которые могли себе позволить не быть справа или слева, но ей для этого явно не хватало общественного темперамента: она сторонилась собраний, совещаний, пленумов и съездов.
Остается признать, что Друнина позволила себе определиться в литературном мире вполне самостоятельно, не связанно с группами. Это роднило нас, и мы, случайно оказавшись в купе или в номере гостиницы, иногда жаловались друг другу на трудности быть вне группы или гордились своей кажущейся независимостью.
«Я сама по себе».
«И я сама по себе».
Я говорила ей, что, если бы мы не были женщинами, нам труднее было бы определяться в литературном мире. Она не соглашалась со мной и высмеивала мое деление людей только на мужчин и женщин.
– Пойми, – убеждала я, – почему мы с тобой незаменимы в поездках? Бедные люди, уставшие от идеологии, видят тебя с твоими волосами. И ты начинаешь:
По улице Горького, что за походка,
девчонка плывет, как под парусом лодка.
У них вздох облегчения – пошел человеческий язык.
Юлия не спорила.
* * *
Каплер умер. Юлия втянула голову в плечи. Люди говорили:
– Перед Друниной три дороги. Вдоветь. Организовать быт, беречь здоровье, писать, радоваться жизни. Все для этого есть. Второе – жить с молодым мужчиной. После Каплера – в самый раз. Полезно для здоровья, хотя и шатко – молодой скоро будет смотреть в сторону. Друнина не потерпит, и разойдутся. А третий путь – искать замену Каплеру. Но второго Каплера не будет.
Она пошла по третьему пути. Борис Пидемский, директор ленинградского издательства «Аврора», даже внешне чем-то напоминал Алексея Яковлевича.
– Вот идет Друнина с новым Каплером, – злословили прилитературные языки.
В дни Пидемского Друнина как-то сказала мне:
– Ведь я увела Бориса из семьи. Жена прокляла меня. Сказала: «Чтоб ей больше ни одного стихотворения не написать!» Вообще, это плохо. Я уже второй раз увожу. Счастья не построишь на чужой беде.
– А кого ты уводила в первый раз? – спросила я.
– Каплера.
– Так ты же с ним была счастлива.
– Была-то была, да вот его нет. Какое это счастье? Наказание.
Я не спросила тогда у Юлии, от кого она увела Каплера. Мне было неинтересно.
Юлия и Пидемский вместе ездили на могилу к Алексею Яковлевичу – Юлия похоронила его в Старом Крыму, там, где они вдвоем бродили по степям и горам. Потом, вернувшись, она читала мне строки: «Твои тюльпаны на его могиле» и говорила: «Вот не знаю, как лучше сказать, может быть: „Его тюльпаны на твоей могиле“?»
Второго Каплера из Пидемского не получилось. И Юлия свернула на вдовью дорогу, возможно, все еще надеясь на чудо новой встречи.
* * *
В середине ноября 1991 года мы встретились с Юлией в Союзе писателей. Она пожаловалась, что ей вернули стихи из нескольких журналов, мол, такие сочинения теперь никому не нужны. Она была депутатом Верховного Совета СССР последнего созыва, сильно переживала происходящее в обществе, воспринимая обвал негативных тенденций как надругательство над святынями.
– Не знаю, что делать, – сказала она растерянно.
– Ты женщина, у тебя есть возможность уйти в женское движение, только там можно возрождать нравственные идеалы. Мужской мир себя исчерпал, – твердила я Друниной, но она морщилась.
– Ах, ты все о своем. Мне это чуждо.
– Как может быть чуждо то, чего ты не знаешь, о чем не задумываешься?
Несмотря на переживания, Юлия середины ноября выглядела превосходно: светлые, пышные волосы нарядно контрастировали с бархатным черным костюмчиком в стиле Шанель.
Видя ее нарядной и бодрой, я всегда говорила: «Горжусь знакомством», и Юлия радостно улыбалась комплименту.
Через несколько дней – я запомнила число, это был мой день рождения, 23 ноября – вечером раздался звонок. Юлия. Мы никогда не звонили друг другу – поэтому я удивилась.
– Лариса, я хотела спросить. У тебя в книге «Облако огня» есть очерк об Александре Яшине. Задолго до смерти он попросил прийти на его похороны и принести три желтые розы. Почему три? Покойнику нужно четное число цветов.
– Не знаю, Юля. Почему-то три. У него теперь не спросишь.
Она засмеялась:
– Вы не были друзьями с Яшиным?
– Я вообще мало его знала. Как говорится, слегка ухаживал.
– Скажи, у нас с тобой все в порядке?
Я не поняла вопроса.
– Ну, мы ведь никогда не ссорились? Я тебя никогда не обижала?
– Никогда. Да и я тебя, по-моему, тоже.
В это время раздался звонок в дверь. Муж пошел открывать. В комнату с букетом гвоздик вошла гостья. Она не забывает напомнить, сколько мне лет.
Юлия продолжала что-то говорить, я уже отвлеклась, но в памяти задержалась фраза, сказанная то ли Юлией, то ли пришедшей Олей: «Нужно шесть красных гвоздик».
Через несколько дней Юлия Друнина, войдя в гараж, сев в машину, включила зажигание и так покончила с собой. Я положила ей в гроб шесть красных гвоздик – как она и сказала мне по телефону.
Почему она это сделала?
Спустя некоторое время я вела вечер памяти Друниной в Центральном доме литераторов. Зал был полон. Вечер вышел трогательный, цельный, как и его героиня. Но всех интересовал один вопрос: почему?
Думаю, на такие вопросы не бывает окончательных ответов. В данном случае собралось многое: слом времени и нежелание видеть не свои времена. Бесперспективная новая любовь. В третий раз уводить человека из семьи – ничего хорошего, а это как раз надвигалось в жизни Юлии. Оскорбительные отказы из редакций.
И… Каплер.
Да, она не пережила его, не перенесла потери его любви к себе, хотя физически продолжала жить. Он заполнял ее память, выигрывал в каждом сравнении и, мертвый, давал понять, что с его уходом кончилось ее счастье.
Узнавший счастье – забыть не может…
Каплер, дав Друниной время прочувствовать, какова жизнь без него, увел ее с земли. Но не в могилу.
* * *
Недавно астрономы открыли в небе новую звезду и назвали ее «Юлия Друнина».
Она действительно была звездой. Неяркой, мерцающей, принесшей счастье одному, несчастье другим, оставленным ради ее любви, доставившей радость тем читателям, которые любили ее немудреные, но искренние и чистые стихи.
Она светит оттуда, и некоторым здесь, на Земле, кажется, что случайно, по прихоти звездочета-читателя попала так высоко.
А я думаю, Юлия, звезда современной любви, окопная звезда, – как раз на месте.
Соперница Токарская
Моя Кремлениада пишется по неким, не всегда понятным мне законам. Не успела я поставить точку в главе о Юлии Друниной, как возникла новая беспокойная мысль: не сходятся концы с концами. Юлия, окопная звезда – все так, но какая связь со Светланой? Возможно, разлука с Каплером изменила характер царевны более, чем все вместе удары судьбы? Возможно, но это еще нужно доказать, а мне пока что даже неясно, почему Каплер так резко отозвался о Светлане в застольном разговоре в Доме литераторов: сама ведь слышала.
Что все-таки случилось между Светланой и Каплером после его возвращения из мест не столь отдаленных? Не мог он примитивно трусить перед ее воспоминаниями. И кто был в его жизни между Светланой и Юлией – какая женщина? Эти мысли не давали мне покоя еще и потому, что помнилось, когда-то я читала о ней в ксерокопии страниц, не вошедших в первое издание книги «Двадцать писем другу». Где они?
Нашлись.
Светлана рассказывала в них о встрече с Люсей после его возвращения, о его жизни в Воркуте, где он сошелся с актрисой Валентиной Токарской, а когда они с Токарской вернулись в Москву и у него со Светланой опять начались встречи, подобные тем, далеким, наказанным ее отцом, то Каплер опомнился первый. Он сказал Светлане, что «обязан посвятить Токарской остаток своей жизни». Она не спорила, но…
«Светлана влюблялась бешено. Скандалила, приходила к женам, разбивала окна, при разлуке отнимала подарки» – это из журнала Times.
«Когда мы с Серго уже были женаты, она звонила ему, назначала свидания», – вспоминала Марфа Пешкова.
Говорит Светлана: «Я позвонила Токарской и пошла в театр, чтобы увидеть ее. Не знаю – зачем. У меня было смутное чувство, что мне надо это сделать. Она была очень мила со мной – немолодая, умная, изящная женщина, актриса до мозга костей. Она хотела быть доброжелательной и великодушной. И, увидев, я поняла, что все на своих местах и мне остается только уйти, и как можно скорее…
Я все-таки произнесла: «Я люблю Люсю», на что она, усмехнувшись, великодушно сказала: «Пусть он делает, что хочет, только чтоб я об этом не знала». И еще она сказала, зная силу своих слов: «Да, я всегда знала, что Люся очень неверный человек. Не обольщайтесь. Он любил в своей жизни одну лишь Тасю Златогорову, но даже и ей он не был верен. Это такая натура».
Мне нечего было больше говорить. Я получила все те удары, которых искала получить… Я знала – это конец всему.
Люся ополчился теперь против меня, его негодованию не было границ. Его не стало больше.
– Зачем ты это сделала? Зачем? Ты можешь объяснить мне?
Нет, я не могла объяснить. Что-то двигало мной помимо моей воли«.
* * *
Ситуация проясняется. Оказывается, царевна способна вести себя как обыкновенная женщина. Слово «мещанка», сказанное Каплером, становится понятным. И понятным становится их разрыв, на котором и следует поставить точку.
Не успела я поставить эту точку, как позвонила актриса Вера Кузьминична Васильева и пригласила на свой бенефис в Театр сатиры. Спектакль по пьесе Жака Кокто «Священные чудовища».
Я пришла рано, сдала пальто, обернулась к зеркалу поправить волосы и среди фотографий актеров сразу увидела немолодое женское лицо с какой-то вымученной улыбкой: Валентина Токарская.
Купила программку. Среди действующих лиц читаю: «Старая дама – народная артистка России Валентина Токарская».
Сегодня увижу!
В спектакле одна из героинь настойчиво говорит о своей маме, которая ничего не видит и почти ничего не слышит. Она так часто повторяет эти слова, что зритель все время ждет появления мамы.
Старая дама появляется, как чеховское ружье, которое весь спектакль висит на стене и лишь в последнюю минуту выстреливает. Впиваюсь глазами. Токарская очень старенькая, маленькая, согбенная. Она приплясывает, улыбается и, кажется, вот-вот упадет. Зал хохочет, аплодирует. Занавес закрывается. Я иду за кулисы к Вере Кузьминичне сказать ей слова восхищения. Перед лифтом стоит Токарская. Вблизи она кажется совсем ветхой. Еду с нею в лифте и хочу спросить… О чем? О Светлане, о Каплере? В лифте?
Захожу к Вере Кузьминичне – она возбуждена, как это бывает у актеров, когда они знают, что сегодня были на высоте. Говорю слова, в таких случаях всегда неадекватные чувствам, а потом решаюсь:
– Мне нужно увидеть Токарскую.
– Это не сложно. На днях будет юбилей нашего Токарика. Ей исполняется девяносто. Хотите пойти со мной?
* * *
Четвертого апреля 1996 года мы с Верой Кузьминичной на юбилее. Зал переполнен. Восемь телекамер. Думаю: весь вечер очень старая дама будет молча выслушивать скучные приветствия.
На сцену выходят – все в черном – молодые актеры и актрисы Театра сатиры. Рассаживаются полукругом перед старинным креслом – в него сядет юбилярша. Я не представляю, как справится с юбилеем та, почти отключенная от жизни старушка, с которой я поднималась в лифте.
Не верю глазам: в роскошном палевом платье до полу, с такого же цвета длинным шарфом, который через минуту превратится в чалму, – наряд сделан самим Славой Зайцевым – на сцене появляется героиня вечера – стройная, фигуристая, с горящими глазами. Девяносто? Не может быть!
Легко садится в кресло:
– Я благодарна всем, кто пришел сегодня посмотреть на уцененный товар, сделанный в 1906 году.
«Каплер родился в 1904-м, Светлана Сталина родилась в 1926-м, – высчитываю я, – Валентина Токарская старше Светланы ровно на двадцать лет».
– Папа мой был артист, а мама – немка (смех в зале). Однажды папа заехал в маленький городок с деревянными мостовыми. Царицын на Волге. Там жили немцы. Увидел маму, попросил ее руки. Родители мамы были кузнецы, для них артист – это прощелыга. Не согласились. Папа поехал в Петербург. Он играл вторые роли. Мама потихоньку убежала из дому и приехала к нему. Они пошли в церковь, венчаться. Пешком – не было денег нанять извозчика. Но был шафер, знаменитый артист Монахов. Крестной моей стала примадонна оперетты. Она сказала маме: «Придешь утром, я что-нибудь подарю крестнице».
Утром моя крестная выпила шампанского и подарила маме шкатулку, а в ней двадцать пять рублей. Тогда это было – ого! Мы жили при царе. Какое было время!
Я болела в петербургском климате, и папа увез нас в Киев. Я училась в Фундуклеевской гимназии. Ее основала императрица Мария Федоровна, мать Николая Второго. Я царя видела. Я вообще все видела. Царица приезжала на большие праздники – у нее было эмалевое лицо.
Я терпеть не могла учиться. Но выступала в концертах. Читала монолог Чацкого из «Горя от ума». Успех – бешеный. С этим «Горем от ума» первый приз мне всегда был обеспечен.
Танцам училась я в школе Чистякова. И тут началась война. В четырнадцатом году. Папа выступал перед ранеными, и царь подарил ему булавку для галстука. С бриллиантом.
Потом началась революция, и все пошло прахом. Папа нас оставил, пошел к другой женщине. Мы жили очень трудно, меняли вещи на продукты. Я устроилась танцевать восточный танец «Айше».
На следующий день в газете появилась статья. Там было сказано: «Темным пятном вечера явилась балерина Токарская с ее шантанным стилем».
Я разучила другой танец, он назывался «Еврейская вакханалия».
В Киеве ежедневно менялась власть. Красные, белые, деникинцы, немцы… Подруга мамы писала из Ташкента, что там очень хорошо живется, все есть, не надо доставать…
В Ташкенте я устроилась в балет. Придумала себе танцы, сомнительные. Имела успех. Это не понравилось главной балетмейстерше, жене главного режиссера. Была статья: «Распоясавшаяся хозяйка увольняет талантливую балерину».
Я вышла замуж в шестнадцать лет. Он был тенор. Безработный. В Москве пошел на биржу, и мы с ним уехали в Новониколаевск, теперь Новосибирск.
Все было хорошо. Но кончилось и это. Ездили бог знает по каким городам. В Москве кто-то кому-то сказал, мол, она поет из «Баядерки». Но самый любимый мой номер, за него меня взяли в Мюзик-холл, был танец с веером из оперетты «Роз-Мари».
В Мюзик-холле я танцевала с большим успехом. Уйма поклонников. Писали мне изысканные письма: «Моя прекрасная Валентина Георгиевна, неужели вы по-прежнему будете так жестоки и не подарите мне свою фотографию? Ваш до гроба А.А.», «Валя, разденься голой, я буду тебя лепить, лепить, лепить…» Без подписи.
А потом какое-то очень высокое лицо придумало, что Мюзик-холл не наш жанр. Народу это не нужно. И открыли вместо него театр народного творчества. Раньше в Мюзик-холле бывало полно народу, а когда стало народное творчество – народу не стало – в зале пять человек.
Меня взяли в Театр сатиры. Я играла Беатриче, девушку, которая переодевается в мужское платье.
Начался сорок первый год. Актерская труппа поехала на фронт и попала в плен. Мой партнер Рафаил Холодов был еврей. Мы разорвали его паспорт и сказали, что он – донской казак.
Были мы в Вязьме. Есть нечего. Пошли в городскую управу, сказали, что артисты, будем играть, пусть платят. Явился немец: «Докажите, что вы артисты».
Мы запели: «Волга, Волга, мать родная, Волга русская река». Нас отправили в городской театр. Там был знаменитый конферансье Вернер. Из берлинского кабаре. Мы его полюбили. С нами в плен попали и артисты цирка. Вернер поехал в Берлин, привез музыкальные инструменты. Но однажды отправился в командировку и не вернулся. Ходили слухи, что его расстреляли.
Нас отдали очень плохому немцу-руководителю. Он возил нас по Белоруссии, довез до Берлина. Шло наступление наших. На Холодова кто-то донес. Его взяли. Я сказалась его женой, искала его. Холодова в тюрьме били. Мне все же позволили с ним встретиться. У немцев было правило: евреи не имели права работать в помещении, а только на улице. Но встретилась русская женщина, устроила его гладить брюки. По ночам, чтобы не на улице. Он спасся, потому что был уже конец войны и немцы не могли его отправить в концентрационный лагерь.
Пришли наши. Домой стали возвращаться те, кого угнали в Германию. Нас с Холодовым оставили давать им концерты. Было это в городе Загань.
В ноябре сорок пятого нас наконец отправили домой. Премировали трофейным пианино.
Доехали мы до Бреста. От Бреста в Москву добраться казалось невозможно: поезда переполнены, люди ехали на крышах, на подножках вагонов. Холодов отдал начальнику станции пианино за два билета до Москвы.
В столице нас тепло встретили, сказали, что отправят на курорт. Как только я отдала паспорт на прописку, за мной пришли. Холодова тоже взяли. Обоих на Лубянку. Без суда приговорили к заключению в разные места. Попала я в Вологду. Я все выискивала Холодова. Работала на общих работах – деревья из воды тащила. Тяжело, не привыкла. Докторша взяла меня к себе в санчасть, научила делать уколы. Потом я все же встретила Холодова, и на нас прислали требование из Воркуты, чтобы нас отправили туда «для прохождения наказания в областном театре». На спектакли ходили под конвоем.
Играли дивные пьесы. Никогда бы я здесь, в Москве, не получила таких ролей…
Мы отсидели свой срок и остались в Воркуте.
Поехали на фронт на месяц, а задержались на двенадцать лет.
Когда умер вождь и учитель, мы вернулись в московский Театр сатиры. Холодов умер в семьдесят пятом году, в своей постели, а не в яме.
* * *
Зал, замерев, слушал Валентину Токарскую. Изредка она прерывала свой рассказ, удалялась за кулисы, и тогда актерская молодежь плясала ее давние танцы и пела ее старые песни: «Шумит ночной Марсель», «А я хочу, чтоб ты меня взял в Парагвай».
Токарская опять появлялась, уже в черном платье с перьями над головой или в черной шляпе, танцевала с молодыми актерами и актрисами. И все это был смех сквозь слезы и слезы сквозь смех, хотя никто не плакал – ни она, ни актеры, ни зрители.
Потом, когда я в холле ждала, пока схлынет очередь в раздевалку, рядом со мной села пожилая женщина и спросила:
– Вы не знаете, за Валентиной Георгиевной есть уход дома?
– Не знаю. А вы с ней знакомы?
– Это была моя любимая артистка. Дуэт «Холодов и Токарская» славился. Я не пропускала их выступлений.
Лишь выйдя на улицу под вечерние огни Старого Арбата, я вдруг поняла, что своим юбилейным монологом, удивительным по емкости и многозначности всего пережитого, Токарская не ответила ни на один мой вопрос. Ни слова не было о романе с Каплером. Ни слова о разговоре со Светланой. Вся та история была либо неприятна Токарской, либо незначительна с высоты девяностолетия?
Спустя несколько дней я попросила Веру Кузьминичну Васильеву позвонить Токарской, попросить принять меня.
– Она, наверно, хочет расспросить меня про Каплера? – проницательно предположила старая дама.
* * *
Нирензее – имя архитектора. Дом Нирензее известен в Москве и как ее геометрический центр, и как место, где до революции жили одни холостяки и незамужние девицы, а после революции в его квартирах поселились писатели, актеры, художники. На первом этаже был театр Никиты Балиева, ставилась нашумевшая «Летучая мышь». На последнем позднее расположилось издательство «Советский писатель», где можно было встретить всех творцов советской литературы, начиная с Максима Горького.
14 апреля 1996 года я вошла в первый подъезд дома Нирензее и позвонила в квартиру № 245. Дверь открыла сама Валентина Георгиевна Токарская.
Удивительно.
В течение одной недели я видела трех Токарских: синильную старушку в спектакле и у лифта, блистательную юбиляршу и, наконец, опрятную, подвижную пожилую женщину, одетую в уютную домашнюю пижамку. Последняя и поставила точку в истории первой любви Светланы Сталиной.
– Мы с Каплером встретились в Воркуте, где я играла в местном драматическом театре, а он был заведующим фотографией, ездил по всему городу с пропуском и вообще «сидел» комфортно. Я же по-настоящему, в бараке, с крысами. Потом мне в этом же бараке отделили угол, занавеску повесили, вроде комнатки получилось: кровать и стул.
– Почему вас выделили?
– Я стала очень нужным человеком в городском театре. Играла главные роли. В театр меня водили под конвоем. В местных газетах писали: «Актриса, играющая роль Софьи Ковалевской, или Дианы, или Джесси, справилась с ролью неплохо». Без имени, без фамилии.
– Но народ-то все равно знал?
– Народ все знает. Жена начальника лагеря была у нас в труппе, она нас поддерживала, всегда что-нибудь приносила…
Каплера освободили раньше меня. Без права жить и появляться в столице, но он первое, что сделал, – поехал в Москву. Там оставалась вся его жизнь. Думаю, он хотел также повидаться со своей главной любовью, Тасей Златогоровой, хотя в Москве жила его официальная жена, актриса Сергеева, она известна по фильму «Пышка», но они уже не жили вместе, когда Каплер встречался со Светланой. Кто такая Тася Златогорова?








