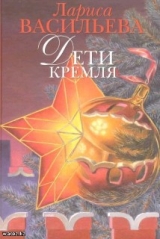
Текст книги "Дети Кремля"
Автор книги: Лариса Васильева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц)
Загадочный сын
О Василии Сталине бродило не меньше легенд, чем о Якове Джугашвили, хотя Василий, в отличие от Якова, с детства был весь на виду.
Устойчивая сказка о том, что он не умер в Казани, а скрылся и живет в Китае, спровоцирована самим Василием: сидя в тюрьме после смерти отца, он писал в разные инстанции и просил отправить его «для дальнейшей службы в Китай». Видимо, мысль о широких крыльях китайского диктатора Мао Цзэдуна и его режиме, близком к сталинскому, давала Василию надежду, что в Китае он сможет прожить за счет имени отца так, как привык. Подобные пожелания высказывал он и в разговорах с сестрой Светланой и Капитолиной Васильевой.
Странно – его происхождение почему-то всегда было окружено легендами, хотя в кремлевских кругах оно не вызывало сомнений: Аллилуева была на виду.
Народная молва называла Василия сыном большевика Артема, взятого Сталиным и Аллилуевой на воспитание. Эта легенда имела некоторое основание: в семье Сталина, в Кремле, вместе с Василием, Яковом и Светланой некоторое время воспитывался и сын Артема.
Говорили, что Василий – сын героя Гражданской войны Александра Пархоменко.
Устойчивой, хотя и смутной, была легенда о Василии как о сыне женщины, у которой в селе Зимовейка Туруханского края в царское время квартировал ссыльный Сталин. Еще слух: якобы Буденному в конце 20-х годов, во время его инспекционной поездки, первый секретарь Восточно-Сибирского крайкома в Иркутске рассказал об учительнице из Туруханска, которая «донимает его, требуя назначить ей пособие за рожденного от Сталина ребенка». Буденный поговорил с учительницей, она отдала ему Василия, рожденного в 1916 году, и Сталин с Аллилуевой в 1920 году привезли его в Кремль, оформили как своего родного сына, несколько изменив дату рождения, чтобы правдоподобной казалась разница в возрасте Аллилуевой, родившейся в 1901-м, и Василия, убавив мальчику добрых пять лет.
Все это, разумеется, могло быть в жизни, но генетика и реальность жизни опровергали сплетни: рыжеволосый Василий напоминал и отца, и Надежду Аллилуеву, об этом свидетельствует не только писательница Уварова, умевшая, благодаря своей профессии, смотреть и видеть пронзительно, но и близкие, и неблизкие люди, – Василий Иосифович был виден всем. Однако во всех нелепицах о происхождении Василия слышалось нечто, позволявшее догадываться о каком-то еще сыне Сталина. Или сыновьях?
Безусловно, в истории мальчика, приехавшего к отцу в Кремль, есть отголосок приезда в Москву Якова Джугашвили, но – учительница, Буденный, первый секретарь крайкома…
Ходил слух, что Василий родился от Иосифа, когда тот отбывал ссылку не в Сибири, а в Ухто-Печерских лагерях Сольвычегодска и жил на квартире у какой-то женщины.
Туруханский край и Ухто-Печерские лагеря Сольвычегодска – действительно факты ссыльной жизни Сталина, но сами эти места друг от друга находятся на огромном расстоянии. Могло ли быть, что и там и там у Сталина оставалось по сыну? Почему нет?
В середине шестидесятых участие в литературной поездке по Сибири привело меня в Туруханск. Там увидела я полуразрушенный музей Сталина – дом с колоннами и мраморный пол, залитый водой, сквозь которую просвечивал барельеф вождя.
Стоя посередине этого дворца, даже в разрушенном виде являвшего резкий контраст с убогими деревянными постройками, окружавшими его, думая на вечную тему «Sic transit gloria mundi»1, внезапно вспомнила я давно забытые строки из учебника истории девятого или десятого класса средней школы, где говорилось, что Сталин, живя в ссылке, квартировал у мещанки Кузаковой.
– Помните ли вы, что Сталин жил в ссылке у мещанки Кузаковой? – спросила я двоих писателей, которые были рядом со мной в Туруханске.
Оба отлично помнили эту фамилию. Один из них, сибиряк, сказал, что Кузакова, кажется, жила здесь.
– Она жива? – полюбопытствовала я.
Ответа не последовало. Спросить не у кого – мы торопились на самолет. Да и особого интереса к имени Кузаковой тогда у меня не было. Так и провисло бы в памяти это имя, если бы не… телевидение.
* * *
Чувство внутренней раскованности в советском послесталинском обществе нарастало независимо от обстоятельств. В 1964 году свергли Хрущева, взошел Брежнев, казалось бы, задавивший свободомыслие, свободочувствие и свобододействие, но диссидентское движение нарастало – люди интуитивно ощущали, как ослабляется власть; и каждый проявлялся соответственно своим взглядам и намерениям. Мне, лирической поэтессе, притом женщине, многое оказалось легче, чем писателям и поэтам мужчинам, ввергшим себя в политику: у меня цензура выбрасывала из книг от десяти до двадцати любовных стихотворений, я заменяла их другими, такими же, – и все. Некоторым литераторам приходилось настолько туго, что они или спивались, или шли на конфликты, или эмигрировали.
С начала шестидесятых стала я иногда на телевидении участвовать в передачах литературно-драматического вещания: в поэтических встречах, интервью и в вечерах «Голубого огонька».
От сознания внутренней ли свободы, а скорей всего, с удовольствием подчиняясь новой моде, явилась я однажды на репетицию… в брюках. Репетиция прошла спокойно, лишь когда я собралась уходить, ко мне подошел мой университетский друг и редактор передачи Леня Ершов.
– Не вздумай завтра на запись явиться в таком виде. Лапин категорически запрещает снимать мужчин с бородами и женщин в брюках.
Сергей Георгиевич Лапин был председателем телерадиовещания всей страны. Он имел право запрещать все, что ему заблагорассудится. А я только что написала стихотворение, там были строки о родине, «где невозможное возможно, зачем возможного нельзя?».
В самом деле, почему нельзя в брюках? Я ведь не голая приду. Это самодурство, глупость, провинциализм, ахинея.
– Если сказано нельзя, значит, нельзя, – уговаривала меня мама, пережившая тридцать седьмой год, – в конце концов, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Что, у тебя нет платья или юбки с кофтой?
Я не понимала, почему телевидение – монастырь Лапина? А завтра его снимут и придет другой, который разрешит бороды и брюки.
– Иди, – сказала мама, устав убеждать, – но не плачь, если твое выступление вырежут из передачи из-за такой чепухи, как брюки.
«Именно чепухи», – думала я, убеждаясь в своей правоте. И пошла, как хотела.
– Ты что, нарочно? – спросил меня Ершов, но не огорчился, лишь сказал операторам: – Васильеву снимайте до пояса, чтоб брюк не было видно.
Не знаю, операторы то ли забыли, то ли созорничали, но снимали они меня, не думая о требовании Лени Ершова.
На следующий день он позвонил:
– Доставила ты мне хлопот. Начальство отсмотрело материал, там твои брюки, как нарочно, в каждом кадре. Я изнервничался. Все бы сошло, если бы ассистент режиссера, – называет женское имя, – не встряла: «Ее предупреждали не приходить в брюках. Поэтесса, видите ли». За что она тебя так не любит?
– Не знаю, Леня, – ответила я, – ты скажи мне лучше – вырезали мое выступление?
– Нет, Кузаков все решил. Сказал, ничего страшного. Он вообще, по-моему, к тебе неравнодушен. Впрочем, не к одной тебе.
– Кто такой Кузаков? Я никогда его не видела.
– Зачем тебе видеть его, важно, чтобы он видел тебя на экране. Это наш главный редактор. Между прочим – сын Сталина.
– Перестань шутить.
– Какие шутки. Все говорят – незаконный сын. Похож на него. Помнишь, мы учили в школе, что Сталин жил в ссылке у мещанки Кузаковой?
И я вспомнила школьную программу.
Как вспомнила, так и забыла. И после разговора с Леней никогда не встречала главного редактора литературно-драматического телевещания – со мной имели дело простые редакторы, режиссеры, операторы и ассистенты режиссера. Но по женскому тщеславию не забыла я слов Ершова о том, что Кузаков ко мне неравнодушен. Может, и скорей всего, это было не так, просто Ершов сказал для красного словца или желая сделать мне приятное.
О Леониде Ершове вообще стоит рассказать подробнее.
* * *
На отделении филологического факультета МГУ, где изучали русский язык и литературу, всегда преобладали девушки, как на подбор, а неказистые филологические юноши такими девицами всерьез не рассматривались.
На их скучном фоне появление Лени Ершова было замечено сразу: высокий, с темными кудрями едва ли не цвета вороньего крыла, с черными очами – в них были спокойствие и уверенность, и дивным глубоким голосом – когда он позднее появился на телевидении, диктор Левитан, познакомившись с ним, хотел сделать Леню своим преемником. Странная походка, будто он идет на несгибающихся ногах, очень быстро разъяснилась: у Ершова не было обеих ног по самые бедра – в восьмилетнем возрасте их отрезало трамваем.
Говорили, что Леня дома снимает свои негнущиеся протезы и передвигается по квартире на руках. Говорили, что его сильно мучают фантомные боли. Но никто никогда не говорил о том, что многие девушки филологического факультета русского отделения, включая также романо-германское и славянское, влюблены в Леню. Не говорили потому, что и так было видно. С некоторыми из них, как правило, самыми прекрасными, у Лени бывали романы.
Из-за него рыдали и обещали уйти из жизни – к счастью, ни одна не выполнила обещания.
Ему посвящали милые, беспомощные девичьи стихи с мотивами разлуки и просьбами вернуться.
Напрочь отметаю предположение о том, что женщины его жалели. Одна из брошенных однажды сказала мне: «Ершов настоящий мужчина. И я благодарна ему за то, что он был в моей жизни».
Собственно, что такое – настоящий мужчина? Много бессмыслицы можно сказать на эту безмерную тему: и сильный, и добрый, и мужественный, и храбрый. И постоянный в чувствах – редчайшее у этого пола свойство, как бы противоречащее законам мужской физиологии и уж никак не относящееся к Ершову…
Наверно, я была одной из немногих, с кем у Лени на факультете не было романа. В первый же день нашего знакомства, когда я уже была почти в плену его жарких очей, мы вместе спускались по крутой чугунной лестнице с верхнего этажа здания, где располагался филологический факультет. И Леня неожиданно упал. Прогремел с верхней ступеньки до нижней всем телом, вместе с протезами. И лежит внизу, у поворота лестницы – ноги как бы отдельно. Я, конечно, кинулась за ним: помочь, спасти, удержать. Но он падал быстрее, чем я бежала. Когда же я остановилась перед ним, готовая поднять его, то споткнулась о его ненавидящий взгляд, как бы ставящий между нами стенку. Вокруг никого не было – лишь я и он. Наклонилась – он взглядом оттолкнул меня. И тут я, кажется, поняла. Выпрямилась.
– Вставай, – сказала я резко и отвернулась, чувствуя себя… дрянью.
Он быстро поднялся. Наверно, ему было очень больно, но мы пошли как ни в чем не бывало, он ловко ставил на ступеньки негнущиеся протезы, да еще поддерживал меня.
С того случая мы стали друзьями особого рода. В студенческих столовых и потом в кафе на телевидении – везде вела я себя так, словно не замечала, что он – инвалид.
– Леня, возьми мне суп грибной, на второе рыбу, на третье пирожное. Пойди принеси хлеба. Принеси кофе. Сходи за вилками.
И он весело шел на своих негнущихся ногах.
Люди, сидевшие поблизости, смотрели на меня осуждающе, но это было не их дело. Как уж я себя чувствовала при этом, было дело мое – отвратительно чувствовала, но знала – так надо.
Спустя годы Леня купил себе автомобиль, и мы иногда ездили вместе. В любую погоду, несмотря на московскую слякоть и сильный гололед, он, когда мы доезжали до места, выключал зажигание, обходил машину, открывал мне дверь и помогал вылезти наружу. Я, презирая себя, ждала.
Леня был женат трижды. Каждый раз уходил от очередной жены, оставляя ее в жестоких переживаниях. Жены продолжали любить, помнить и ждать назад.
– Что в тебе такого? Почему женщины так любят тебя? – спрашивала я его, а он пожимал плечами.
– Не знаю. Ничего особенного.
– Зачем ты оставил Анну с Танечкой – ребенок ведь? Я тебя считала настоящим мужчиной.
– Что делать, разлюбил. И потом… Понимаешь, как только я начинаю чувствовать жалость к себе – не могу терпеть. А Танечку не брошу никогда.
Не могу вспомнить ни одного своего здорового сверстника, который бы так же, как Леня, вынимал меня из машины.
Он умер в пятьдесят лет. О нем плакали жены и возлюбленные – самые красивые женщины советского телевидения. Все они, как и я, потеряли настоящего мужчину, так и не зная, что это такое.
Кузаков не возникал в наших разговорах с Леней. Лишь однажды сказал, что, если какую-то передачу не пропустят на экран, он пойдет к Кузакову:
– Константин Степанович здравомыслящий человек – все поймет.
– Правда, что он сын Сталина?
– Говорят, правда. Какое это имеет значение? У нас работает еще племянница Сталина, Политковская, ассистент режиссера. Ну и что? Работает и работает.
– Сравнил. Ассистент режиссера и глава всего вещания. Он не деспот?
– Не заметил. Думаю, нет.
– Он тебе не делает поблажек?
Леня внимательно посмотрел на меня и тогда сказал нечто, чего я никогда не забуду:
– Не делает. Как и ты. Я так благодарен тебе – ты за все годы нашей дружбы ни разу не дала мне почувствовать, что я – несчастный инвалид.
– Ты – настоящий мужчина, – сказала я ему, желая ободрить и не слишком уверенная в правоте своих слов: все-таки оставил дочь, ушел на своих негнущихся ногах.
Мне запомнился разговор о Кузакове лишь потому, что в нем единственный раз Леня Ершов вслух оценил мое поведение, от которого я страдала, интуитивно ощущая, что не могу иначе.
* * *
В 1995 году Константин Степанович Кузаков впервые в прессе открыто заговорил о своем происхождении:
«Я был еще совсем маленьким… У нас, в Сольвычегодске, на пустыре, неподалеку от дома ссыльные устроили футбольное поле, и я часто бегал туда смотреть игру. На краю поля подбирал мячи и подавал игрокам. Тогда, конечно, я не понимал, насколько сильно отличаюсь от своих сверстников. Черные-пречерные волосы – ребенок, как теперь говорят, кавказской национальности.
На меня все поглядывали с любопытством. И как-то я заметил – один ссыльный пристально смотрит на меня. Потом он подошел ко мне, спросил, как зовут.
– Костя, – ответил я.
– Так это ты сын Иосифа Джугашвили? Похож, похож.
Я не сразу спросил маму об отце. Она была женщиной доброй, но с железным характером. Гордой женщиной. Иногда суровой. Губы всегда плотно сжаты. Крепкая была. И очень разумная – до последних своих дней.
Когда я все же собрался с духом и спросил, правда ли то, что обо мне говорят, она ответила:
– Ты – мой сын. Об остальном ни с кем никогда не говори«.
Этот образ совсем не похож на учительницу, досаждавшую партийному руководителю в Иркутске.
«У меня было три брата и две сестры, – говорит Константин Кузаков, – от законного брака моей матери и ее мужа Степана Михайловича, он умер за два года до моего рождения. И самое интересное то, что меня, незаконнорожденного, вся семья обожала. Особенно баловали сестры мамы. Смешно, но старшая сестра была замужем за жандармом».
Жизнь переплетала судьбы людей, подбрасывала нелогичные ситуации, парадоксальные связи и события. И то обстоятельство, что в северном русском Сольвычегодске в дружной семье любили черненького, прижитого матерью мальчика, – явление нормальное, обычное, человеческое. Его не дразнили, у него не было особых комплексов за стенами дома, потому что в доме все делалось для того, чтобы мальчик рос спокойно.
Константин Степанович рассказывает по воспоминаниям матери: «До Сталина квартировал у меня ссыльный, Давид. Уехал. Вскоре является грузин.
– Здесь жил Давид?
– Жил.
– Он порекомендовал мне поселиться у вас.
Это и был Иосиф Виссарионович«.
Мама говорила Косте, что помогала Сталину налаживать связи с товарищами. Договаривалась с соседями, чтобы на их имя приходили для него письма. Она сама забирала письма и другую почту Сталина и приносила ему.
«Однажды, – рассказывала она, – Сталин бежал из ссылки летом. Тогда многие бежали, он бежал несколько раз – надзор над ссыльными был не слишком суровый. Спустя некоторое время пришел слух, что двое беглецов-ссыльных утонули, переплывая через реку Вычегду. О Сталине долго ничего не было слышно. Я сильно горевала, думала – не выплыл».
Были в Сольвычегодске и другие ссыльные. Недалеко от Кузаковых жил Якуб, кажется, из Чечни. Не политический ссыльный, уголовный. Их в Сольвычегодске было немного. Якуб сам спокойно говорил о себе, что убил несколько человек. Любил детей, возился с ними. Мать Кузакова рассказывала сыну, что Якуб – человек огромной физической силы, каким-то образом подружился со Сталиным, везде сопровождал его как охранник. Но, став кремлевским вождем, Сталин не взял его к себе. Якуб остался в Сольвычегодске и погиб, когда вез продукты из соседнего Котласа: лошадь не вытянула на скользком подъеме, сани покатились вниз и придавили его.
* * *
Мать сказала: «Ты – мой сын. Об остальном ни с кем никогда не говори». И он молчал. Но в последнем классе школы, когда на товарищеский матч по футболу из Великого Устюга в Сольвычегодск приехала команда, к нему подошел секретарь окружкома Вася Слепухин.
– Ты куда собираешься после школы?
– Хочу изучать политэкономию.
Вася пообещал ему комсомольскую путевку.
И отправился Константин в Ленинградский финансово-экономический институт, сдавать экзамены. Сдал. Подходит к нему тот же Слепухин – он уже год как был студентом этого института.
– Ну, сын Сталина, отец-то теперь будет доволен.
Константин даже испугался. Подумал: «Разболтает всем, беды не оберешься». Не разболтал.
После института Кузакова оставили на преподавательской работе. Он читал лекции, и вскоре его пригласили в лекторскую группу обкома партии. Хотя в партии не состоял: когда решил вступить, в партии шла чистка, и прием был закрыт. Стал коммунистом Кузаков лишь в 1939 году. После этого очень быстро попал на работу в ЦК КПСС – в Москву. Он рассказывает об этом так: «Я читал лекции на курсах секретарей райкомов. Смотрю, в зал вошел Жданов. Посидел. Послушал. Мне потом передали, что ему понравилось. Через короткое время меня телеграммой вызвали в Агитпроп ЦК, в Москву. Агитпропом руководил Жданов. Мне предложили стать инструктором, я согласился. Ездил, проверял, как идет изучение «Краткого курса истории ВКП(б)». Скоро стал помощником начальника отдела, потом управления, и пошло, пошло…
Знал ли Жданов о моем происхождении? Думаю, большим секретом это не было. Для него тоже. Но я всегда ухитрялся уходить от ответа, когда меня об этом спрашивали. Полагаю, мое продвижение по службе связано и с моими способностями, хотя не могу отрицать, что, приближая меня к себе, Жданов хотел стать ближе к Сталину.
Очень хорошо относился ко мне помощник Сталина, Поскребышев. Он же передавал мне и личные поручения Сталина. Одно время я чувствовал особое отношение ко мне Маленкова. Он попытался устроить мне личный прием у Сталина, но ничего не вышло по моей вине: мы работали в ЦК на Старой площади до самого утра, и, вернувшись домой, я крепко уснул. Семья была на даче. Мне звонили и по вертушке (вертушка, правительственный телефон – знак того, что Кузаков достиг немалых высот в сталинском ЦК. – Л.В.), и по городскому телефону, а я спал. Проснулся, позвонил к себе в отдел, узнать, как дела. Сказали, что нужно срочно перезвонить Поскребышеву. Тот на меня шуметь: «Слушай, мы тебя искали-искали. Маленков сам звонил тебе. Сталин хотел видеть тебя. Теперь поздно, к нему зашли маршалы»«.
* * *
Родной сын вождя работает на расстоянии полукилометра от отца, работает на него, для него, во имя него. Ничем плохим себя не зарекомендовал, напротив: прекрасный, талантливый работник, и у отца не возникает необходимости увидеться с ним. Отец следит за его жизнью, невидимо помогает его продвижению по службе – зачем же вдруг он понадобился отцу?
Говорит Константин Степанович: «Перед этим произошла такая история. На съездах партии и сессиях Верховного Совета СССР создавалась редакционная комиссия. Делегаты и депутаты за день до выступления сдавали в нее тексты своих речей. В комиссию входили люди из аппарата ЦК, Совнаркома и Президиума Верховного Совета. От ЦК, как правило, назначали меня. Я занимался политическим редактированием этих речей.
За несколько дней до несостоявшейся встречи со Сталиным, на сессии, один из депутатов сдал на проверку речь, в которой обрушился на советских и партийных руководителей Прибалтики. А было негласное указание – прибалтов не критиковать. Я в перерыве заседания подошел к Жданову.
– Что делать? – спрашиваю.
Андрей Александрович просмотрел текст. Помолчал. Потом говорит:
– Пойдем посоветуемся с Молотовым.
И мы пошли в буфет Президиума. Молотов начал читать. Вдруг я вижу – на меня смотрит Сталин. Он рядом, в двух шагах. Молотов говорит: «Я бы не стал эту речь давать, но надо посоветоваться». И глазами показывает на Сталина. Шага не успел я сделать в сторону Сталина – раздался звонок. Члены Политбюро пошли в зал. Сталин остановился и опять посмотрел на меня. Я чувствовал – ему хочется что-то сказать мне. Хотелось рвануться к нему, но что-то остановило. Наверно, я подсознательно понимал – ничего, кроме больших неприятностей, публичное признание родства мне не принесет. Сталин махнул трубкой и медленно пошел…
Видел я его не раз. И издали, и близко. Но к себе он больше не вызывал. Думаю, не хотел делать меня инструментом в руках интриганов.
Однажды я наблюдал его очень близко. На заседании Оргбюро ЦК сидел недалеко от него. Заседание было посвящено кинематографии. Неожиданно вошел Сталин. Сел. Мне врезались в память его руки. Странные, необычные. На Оргбюро он все время делал пометки на листках. И потом рвал эти листки. На мелкие, нет, микроскопические кусочки. Никто бы не смог их снова собрать воедино. Совершенно закрытый человек. И от врагов, и от друзей, и от обычных человеческих чувств«.
* * *
Законные дети в сороковые годы не радовали Сталина: Яков погиб в плену, Василий спивался, Светлана выбирала не тех любимых, какие бы нравились отцу. А этот мог радовать… Но вождь представлял себе всю сложность его появления в семье, где Кузаков получил бы неадекватный прием у Василия или Светланы. Он также мог представить себе Константина, попавшего в круг охраны, сверхсекретности дач и кремлевских семей. И Сталин, скорей всего, решил не портить единственного оставшегося неиспорченным сына – ничего не менять. От добра, как говорится, добра не ищут. Значит, он, возможно, видел в своем несомненном сыне – добро? Значит, женщина из Сольвычегодска, никогда ничего не требовавшая от вождя и содержавшая семью, сдавая комнаты ссыльным большевикам, говорившая сыну: «Не думай о деньгах, как живем, так и проживем», правильно воспитала его в скромности, строгости и молчании о самом главном?..
* * *
В 1947 году прервалась блистательная карьера скромного мальчика из Сольвычегодска. Ему тяжело вспоминать это время:
«Поздно вечером меня вызвал Жданов. У него сидел министр госбезопасности Абакумов. Мне было сказано, что мой заместитель в ЦК КПСС, Борис Сучков, – шпион и выдал американцам секрет советской атомной программы. В глазах у меня потемнело. Не верил, что Борис предатель, но это уже не имело никакого значения. Его, кстати, впоследствии peaбилитировали. Атомными вопросами занимался сам Берия, и никакой пощады ни Сучкову, ни тем, кто с ним знаком, ждать не приходилось. Особенно мне, поскольку именно я поручился за Бориса при его приеме на работу в ЦК. Тогда была такая форма взаимной ответственности. Нигде в документах не было зафиксировано, но на работу в аппарат ЦК Сучкова рекомендовал Жданов, а я по его просьбе только подписал поручительство. Берия пытался уничтожить Жданова и хотел, чтобы я дал компромат на Жданова самому Сталину; он, конечно, мог сам доложить об этом, но предпочел обзавестись свидетелем, которому Сталин поверил бы безоговорочно. Жданов делал вид, будто не имеет к Сучкову никакого отношения. Говорил, что плоховато мы знаем своих сотрудников. Он не просил меня не выдавать его как поручителя за Сучкова, но я прекрасно понимал: назови я Жданова, и мы все автоматически станем участниками грандиозного заговора – защитить нас уже не сможет никто.
Меня судили судом чести ЦК за потерю бдительности. Исключили из партии. Сняли со всех постов. Было тяжело, но все же не лагерь, не расстрел.
А потом, в день ареста Берия, меня восстановили в партии. Председатель Комитета партийного контроля Шверник показал мне мое персональное дело. Многие, кого я считал друзьями, написали на меня страшные доносы. Тогда меня спас сам Сталин. Берия вынес вопрос об «атомном шпионаже» на Политбюро и там, как мне рассказывал Жданов, требовал моего ареста. Он понимал, что в тюрьме они заставят меня подписать любые признания.
Сталин долго ходил вдоль стола, курил и наконец сказал:
– Для ареста Кузакова не вижу оснований«.
Отец, потерявший из-за своей партийной принципиальности первого сына, Якова, каждый день теряющий из-за кастовой принадлежности второго сына, Василия, наконец-то позволил себе мягкость по отношению к третьему, незаконному сыну, которого он, всенародный настоящий мужчина, за всю жизнь так и не решился не то чтобы обнять, хотя бы принять в своем кремлевском кабинете и спросить о женщине, приютившей его в тяжелые времена…
* * *
Кира Павловна Политковская, племянница Сталина по линии Аллилуевых, вспоминает:
«Когда я работала на телевидении и оно переехало в Останкино с Шаболовки, я услышала, что нашим главным редактором будет Кузаков Константин Степанович, а он – незаконнорожденный сын Сталина. Это было уже после смерти Иосифа Виссарионовича, а значит, и после моего и моей мамы возвращения из тюрьмы. Я, конечно, удивилась. Пришла к маме, рассказала ей. Она говорит: «Верно. Иосиф говорил мне, что у него в ссылке был сын от русской женщины».
Я, конечно, не посмела подойти к Кузакову, потому что он был очень большим начальником, а я всего лишь помощником режиссера. Но стала наблюдать за ним, за походкой, как он ест, как пьет. Так как я очень хорошо с самого детства знала Иосифа Виссарионовича, то обратила внимание, что Кузаков так же, как Сталин, приседает, когда идет. Движется словно вприсядку. Восточная походка. У Сталина всегда были мягкие сапоги, а у этого ботинки, но походка одинаковая.
Потом в столовой следила, как кушает Кузаков. У Сталина были очень изящные руки – у Кузакова такие же кисти. Он ел, точно как Сталин.
А подойти к нему постеснялась. Лишь когда ушла на пенсию и он узнал, что я родственница, позвонил, пригласил к себе в кабинет – пришла. Мы познакомились. У меня оказалось много интересных семейных фотографий – их мне вернули после тюрьмы. Он рассматривал, удивлялся. И сказал:
– А ко мне сталинские дети не проявили интереса.
– Я как только узнала о вас, проявила интерес, но постеснялась к вам подойти«.
* * *
Странная наша человеческая жизнь.
Отец не познакомился с сыном, работавшим в непосредственной близости от него.
Братья и сестра не проявили интереса к сводному брату, возможно, даже не знали о его существовании.
Храбрая и веселая Кира Павловна не переступила барьера, которого, возможно, и не было: сын Сталина начальник над племянницей того же Сталина, а самого Сталина уже и нет в живых!
* * *
Возвращаюсь к старым слухам. Сольвычегодский сын Сталина обнаружен. Но был ли туруханский сын? И если был он – какова его судьба? Неизвестно…
Не удивлюсь, если такого не было.
Не удивлюсь, если сын учительницы, досаждавшей партсекретарю из Иркутска, обнаружится и судьба его будет самой непредсказуемой.
Вопрос же о настоящем мужчине для меня остается открытым. Кто он?
Леня Ершов, страстно утверждавший свое право быть таким, как все, превозмогавший фантомные боли ради желания не казаться инвалидом?
Константин Кузаков, удержавший себя от порыва броситься к отцу, опасаясь больших неприятностей?
Или Сталин, не обнявший незаконного сына?
Не знаю.
Могу понять Киру Павловну. Как настоящая женщина, да еще жившая в сталинские времена, она боялась всего на свете в мире настоящих мужчин.
* * *
Знаменитая тележурналистка Татьяна Сергеевна Земскова проработала под начальством Константина Степановича Кузакова с 1970 по 1986 год. Она рассказывает:
«Кузаков – личность. Красивый мужчина. Производил впечатление на всех женщин. Благородное лицо. Седые волосы. То, что называется комильфо. С хорошими манерами. Красивым голосом. Когда он пришел заведовать всем литературно-драматическим вещанием первого канала, я как раз хотела уходить. Меня звали в газету «Книжное обозрение». Кузаков узнал о моих намерениях, вызвал:
– Я вам не советую. Ну что газета? На телевидении интереснее. Подумайте.
И удержал меня. В нем чувствовалась воля. Леонид Леонов говорил о Сталине, что у него были глаза без блеска, а у Кузакова взгляд с блестинкой. Но тяжелый взгляд. Он им как бы припечатывал. Пригвождал к месту.
За годы работы я несколько раз пыталась уйти из редакции. Звали меня в «Литературную газету», звали в другую телередакцию, в «Русскую речь», вести программы. Я уже и вещи собрала, все папки свои приготовила к уходу. Каждый раз меня удерживал Кузаков«.
Что-то почувствовала я в рассказе Татьяны Сергеевны личностное, неравнодушное. И коснулась деликатной темы:
– Он ухаживал за вами? А за другими женщинами в редакции? Были у него романы в коллективе?
– Ухаживал. Но это выглядело благородно. Он вообще был неравнодушен к прекрасному полу. И женщины к нему. Если он вызывал к себе какую-нибудь сотрудницу, она непременно прихорашивалась, приосанивалась.
– Каким он был руководителем? Властным? Сильным?
– Умным. Образованным. Со вкусом. Очень любил книгу. В доме у него хорошая библиотека. Любил театр. И культивировал его на телевидении. При нем литдрама слыла элитарной редакцией. Стабильной. Люди уходили крайне редко.
– Его боялись? Кто-нибудь ненавидел?
– Побаивались, но уважали. Он был не мелочной руководитель. Никогда сам не опускался до административных взысканий – это было делом его заместителей. Сам – выше суеты. Чувствовал людей. Не любил недоучек и всяких «понтярщиков».
– Вы сказали: образованный. Но ведь ему приходилось быть в рамках дозволенного и недозволенного.
– Кузаков – человек системы. Строго соблюдал все запреты. Приказ товарища Лапина был, конечно, законом, перешагнуть через него – невозможно. И все-таки…
В семидесятых Марина Цветаева и Анна Ахматова были нежелательными именами на телевидении. В начале восьмидесятых наша редакция при поддержке Кузакова сделала передачу об Ахматовой. Тогда это было смелостью.
– А через что он так и не перешагнул тогда?
– Помню, мы хотели записать передачу «Шукшин читает свои рассказы». С Шукшиным было очень трудно встретиться. Ирочка Диалектова ухитрилась, договорилась с Василием Макаровичем на субботу, а тогда было строго, любая съемка регистрировалась. Кузаков узнал о наших намерениях и отменил съемку. Могли, конечно, снять тайком, но у нас не было такого опыта.








