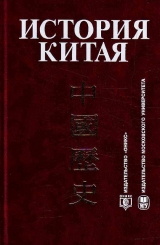
Текст книги "История Китая"
Автор книги: Л. Васильев
Соавторы: А. Писарев,З. Лапина,А. Меликсетов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 65 страниц)
Однако использовать в полной мере возможности экономических связей с Китаем голландцы не смогли, поскольку в XVIII в. в мировой торговле их серьезно потеснили англичане. В конце XVII в. в пригороде Гуанчжоу англичане основали одну из первых факторий в континентальном Китае, ставшую в первые десятилетия XIX в. основным пунктом распространения английских товаров. Недовольство коммерческих кругов Запада вызвало то, что с середины XVIII в. огромный китайский рынок был закрыт для европейских коммерсантов. В 1757 г. цинский двор, стремясь оградить страну от иностранного проникновения, поставил под запрет всю торговлю вдоль китайского побережья, за исключением района Гуанчжоу. В этой ситуации правящие круги Англии и других европейских держав склонялись к принятию решительных шагов для открытия китайского рынка. К этому правительства европейских стран подталкивали требования, выдвигавшиеся предпринимательскими кругами, заинтересованными в превращении Китая в рынок для сбыта продукции европейской капиталистической промышленности. Был и еще один важный мотив, лежавший, в частности, в основе английской политики. К началу XIX в. Англия имела весьма значительный дефицит в торговле с Китаем, что побуждало ее особенно энергично настаивать на допущении английских товаров на китайский рынок.
Период экономического расцвета и сравнительной стабильности в социальных отношениях китайского общества продолжался до последней четверти XVIII в. С этого времени становятся очевидными приметы кризиса империи и нарастания социальной напряженности в обществе. Во многом эти явления были результатом завоеваний, осуществлявшихся маньчжурами на всем протяжении XVIII в. Военные походы, охрана новых границ, подавление восстаний покоренного населения – все это требовало огромных затрат. Подчинение одной лишь Центральной Азии обошлось империи в сумму, равную всем доходам государства за два года, а средства, необходимые для охраны границ, ежегодно составляли до трети всех налоговых поступлений в казну. Разумеется, мобилизовать эти ресурсы можно было лишь за счет увеличения общего налогового бремени. Поскольку поземельный налог должен был оставаться стабильным, это достигалось путем роста дополнительных сборов. Усиление государственной эксплуатации сопровождалось ужесточением рентных притязаний землевладельческой части деревни, стремившейся разделить бремя государственных налогов с арендаторами.
Признаки династийного кризиса, переживаемого цинской державой, проявились и в разложении государственного аппарата, в распространении коррупции, охватившей значительные слои чиновничества. Так, например, Хэ Шэнь – фаворит императора Цяньлуна (1736—1796), в течение 20 лет один из наиболее приближенных к императору сановников, сосредоточил в своих руках ряд важнейших государственных постов. С приходом к власти нового императора Хэ Шэнь был обвинен в казнокрадстве и других злоупотреблениях и приговорен к смертной казни. Принадлежавшее ему имущество, конфискованное и возвращенное в казну, превосходило ценности императорского двора, а общая его стоимость равнялась государственным доходам за восемь лет. Таким образом, только одним этим всесильным министром было украдено больше, чем потрачено на присоединение Синьцзяна. По признанию цензоров, обязанных бороться против злоупотреблений, чиновники присваивали обычно более половины сумм, выделенных государством на проведение ирригационных работ. Так было, в частности, во время строительства на Хуанхэ в 1820 г., когда из средств, предназначенных государством для починки дамб и других ирригационных сооружений, ими было присвоено 60%. Еще один пример злоупотреблений чиновничества – установившаяся система сбора налога, предназначенного для финансирования отправки риса из бассейна Янцзы в Пекин. Реально величина этого налога в четыре раза перекрывала официально установленную ставку, при этом три четверти общей суммы шло в карман местного чиновничества.
Определенную роль в обострении династийного кризиса сыграл и рост народонаселения, не сопровождавшийся значительным ростом посевных площадей. Дефицит земель в расчете на душу населения приводил к росту цен на них, ухудшению условий аренды. Это сопровождалось увеличением ростовщической эксплуатации со стороны землевладельцев. Усилия властей по организации переселения в районы, где оставались свободные земли, и по обработке незанятых земель в глубинных китайских провинциях не давали ощутимого результата, поскольку все сколько-нибудь приспособленные для традиционных китайских форм земледелия районы были освоены. Присоединение к Китаю огромных пространств в Центральной Азии не могло решить проблемы аграрного перенаселения в Китае, поскольку в состав империи вошли главным образом пустыни и полупустыни.
Все эти обстоятельства вели к росту социальной дифференциации в общине, имели своим следствием увеличение слоя деревенских низов, пополнявших ряды безземельных, пауперов, батраков. Нередко сельский и городской люд без определенных занятий пополнял ряды разбойников. В последней трети XVIII в. сельский бандитизм стал настолько распространенным, что вокруг зажиточных деревень, в особенности в южных провинциях Китая, стали воздвигать оборонительные укрепления. Эти кризисные явления вызывали сопротивление общественных низов, проявившееся в ряде народных восстаний на рубеже XVIII—XIX вв.
В цинский период истории Китая организаторами народного сопротивления продолжали оставаться религиозные секты и тайные общества. В отличие от религиозных сект тайные общества ставили своей целью главным образом подготовку и осуществление антиправительственных восстаний. Вера в изначальное равенство людей, уравнение бедных и богатых, проповедь взаимопомощи, пропаганда наступления новой, счастливой эры, что связывалось с приходом земного воплощения будды Майтрейи, утверждение на земле новых принципов общественных отношений сектанты связывали с победой восстания, поднятого под их руководством. Самым распространенным лозунгом, выдвигавшимся инсургентами, был призыв к свержению маньчжурской династии, не имевшей, по убеждению повстанцев, легитимных прав на китайский престол, и утверждение на нем императора-китайца. Именно он должен был претворить в жизнь мечты простых людей о счастье и процветании. Идейные искания лидеров религиозных сект и тайных обществ, восходившие к утонченной интеллектуальной традиции прошлого, были понятны лишь узкому кругу посвященных. Для привлечения рядовых участников использовались обращения, в которых доходчиво объяснялись причины бедственного положения народа и содержались призывы готовиться к антиправительственной борьбе.
В деятельности этих организаций огромную роль выполнял сложный, насыщенный мистицизмом ритуал. Он был призван внушить сектантам ощущение силы и единения. Один из элементов этого ритуала – ушу, или «военные искусства», с обучения которым, как правило, и начиналось привлечение новых сторонников. Наиболее широко распространенным видом боевых искусств было умение вести рукопашный бой. Постижение его тонкостей давало неофиту ощущение защищенности, возвышало его в глазах окружающих, что в какой-то мере компенсировало его обычно невысокий социальный статус. Привлеченные таким образом новые сторонники обучались сложным ритуалам, соблюдение которых, как считалось, делало их неуязвимыми для действия холодного и огнестрельного оружия.
Организационные структуры сект и тайных обществ в ряде случаев были весьма разветвленными и охватывали не только деревни, но и уездные и даже провинциальные города. Их членами становились представители различных общественных групп, большинство составляли малоимущие крестьяне, привлеченные проповедью братской взаимопомощи и имущественного равенства, но руководителями часто становились шэньши, купцы и даже чиновники, вдохновлявшиеся идеями свержения маньчжурского господства и установления китайского правления. Буддийское и даосское духовенство зачастую также симпатизировало сектантам. По преданию, одно из наиболее популярных и массовых обществ «Триада» было основано монахами буддийского монастыря Шаолиньсы, и поныне широко известного в Китае как одного из традиционных центров искусства рукопашного боя. Когда монахи отказались признать установление маньчжурского правления, монастырь был осажден цинскими войсками и сожжен. Почти все его защитники погибли в бою, избежать смерти, как гласит легенда, удалось лишь «пяти старшим братьям», которые отправились в странствие по Китаю, обучая народ искусству ушу и призывая к борьбе с маньчжурами.
Наиболее активным в конце XVIII в. становится «Общество Белого лотоса», в основе идеологии которого лежали идеи наступления справедливой эры правления будды Майтрейи, призывы к имущественному уравнению, свержению власти маньчжурской династии. В 1796 г. под его руководством началось одно из наиболее крупных в цинский период народных восстаний, охватившее главным образом провинции Центрального Китая. На протяжении 1798—1799 гг., когда народная война приобрела наибольший размах, повстанческим войскам удалось нанести ряд поражений цинским войскам и взять под контроль значительные территории.
Правительство, напутанное размахом восстания, сосредоточило все силы для его подавления. Были сменены неспособные и бездеятельные военачальники, переброшены крупные подкрепления. Примерно в 1800 г. в ходе гражданской войны наступил перелом, ускоренный тем, что на сторону маньчжурского двора перешли многие влиятельные кланы, верхи которых были напуганы размахом народной борьбы и наступившей смутой. Отряды местной самообороны, созданные ими, приняли активное участие в войне, оказывая помощь войскам центрального правительства. С восставшими расправлялись с крайней жестокостью. Население, оказывавшее помощь инсургентам, насильно уводилось из районов боевых действий, а их жилища и посевы уничтожались. В середине 1800 г. был схвачен и казнен в Пекине один из наиболее популярных руководителей восстания Лю Чжисе, однако сопротивление продолжалось.
Чтобы привлечь на свою сторону недовольных, цинские власти пообещали сократить налоги и поборы, а также простить тех, кто готов прекратить сопротивление. Вместе с тем для содержания армии повстанцы были вынуждены проводить насильственные мобилизации и реквизировать продовольствие, что не всегда находило поддержку у населения. К концу 1803 г. пекинское правительство смогло восстановить контроль почти над всей территорией Центрального Китая. Лишь в глухом районе на стыке Сычуани, Хубэя и Шэньси, покрытом густыми лесами, продолжали укрываться последние отряды повстанцев. К середине 1804 г. были подавлены и эти последние очаги сопротивления.
С поражением восстания 1796—1804 гг. религиозные секты и тайные общества не отказались от дальнейшей борьбы. В 1813 г. «Общество Небесного разума» (скорее всего, одно из ответвлений «Белого лотоса») организовало восстание в Северном Китае Его руководитель был объявлен правителем Китая, преемником минской династии. В октябре 1813 г. отряд заговорщиков, насчитывавший около 200 человек, проник на территорию «Запретного города» – резиденцию маньчжурских правителей в Пекине Однако нападение было отбито многочисленной дворцовой стражей. Цинские войска расправились с восставшими, их предводителе был схвачен и казнен. К началу 1814 г. были разгромлены последние повстанческие отряды.
Несмотря на поражения, религиозные секты и тайные обществу продолжали антиправительственную деятельность на протяжении всего XIX века. Под их руководством крестьяне и горожане боролись против маньчжурской династии, требуя сокращения налогов и повинностей, ликвидации коррумпированного чиновничества.
Характер народной борьбы на рубеже XVIII—XIX вв. по сравнению с предшествующими эпохами не претерпел существенных, изменений. Это были по-прежнему вполне традиционные требования свержения династии, утратившей мандат на управление государством, подкрепленные патриотическими лозунгами восстановления китайского правления.
3. Общественный строй Китая накануне вторжения иностранных держав
После маньчжурского завоевания характер социально-экономических отношений в Китае не претерпел кардинальных изменений. Это в равной мере можно отнести к сфере как городской экономики, так и аграрного строя. В этом смысле можно говорить о едином минско-цинском периоде в истории Китая. Для этого времени, с точки зрения функционирования экономических и социальных институтов, характерно действие тех же тенденций, которые сложились в стране в послесунский период. Они характеризовались возрастанием значения интенсивного поливного рисоводства, прогрессирующим увеличением численности населения, деградацией технологической основы сельскохозяйственного производства.
В соответствии с традицией и в цинский период все земли делились на две категории: народные (минь) и чиновничьи или государственные (гуань). Основой экономической и социальной жизни в деревне продолжала оставаться китайская клановая община, покоившаяся на совместном владении землей и родственных связях, объединявших общинников. Земли, находившиеся в коллективном владении, как правило, обрабатывались совместно, а также сдавались в аренду членам общины или жителям соседних деревень. Арендная плата, собиравшаяся с общинной земли, принадлежала всему деревенскому коллективу. По установившейся традиции коллективные земли, реально принадлежавшие общине, включались в категорию гуань, т.е. с них, как и с других земель, входивших непосредственно в казенный фонд, поземельный налог не собирался.
На характер использования доходов от земли указывало само название той или иной формы коллективного землевладения. Получили распространение, например, «училищные» земли, доход от которых шел на содержание деревенской школы, оплату услуг учителя, помощь талантливой молодежи, желавшей продолжить образование, испытать себя на государственных экзаменах, если у родителей не было средств.
Доходы от «храмовых» земель использовались для религиозных церемоний в деревенском храме предков, а от «благотворительных» – предназначались для помощи наименее обеспеченным членам общины. Перечисленные категории земель в соответствии с нормами обычного права запрещалось продавать и покупать без согласия всех общинников.
Коллективная земельная собственность под разными названиями была распространена во всем Китае. Однако особенно заметную роль она играла в провинциях центрально-южного Китая, где преобладало поливное рисоводческое земледелие. В некоторых провинциях коллективные земли составляли около половины всего земельного фонда. Особенно велика была роль коллективного землевладения в таких провинциях, как Гуандун, Фуцзянь и Чжэцзян. Помимо коллективного владения пахотной землей община контролировала невозделанные угодья, лесные, неудобные для обработки земли.
В китайской деревне важная роль принадлежала и совместному труду. В особенности это характерно для поливного рисоводства, когда в период посева рисовой рассады, весьма непродолжительный, несколько соседних семей объединяли свои трудовые усилия. Большую роль играла также коллективная деятельность по поддержанию в порядке систем искусственного орошения, характерная для большинства сельских районов Китая. Наличие коллективной земельной собственности, совместная работа – все это было истинным фундаментом деревенской жизни, сплачивало членов общины, препятствовало росту социальной дифференциации.
Кроме коллективного в общине существовало также индивидуальное землевладение. Частные земли разрешалось продавать и сдавать в аренду, однако обычное право обязывало землевладельца перед продажей земли предварительно заручиться согласием на это членов общины и предложить землю для покупки сначала кому-нибудь из них. В деятельности этого института проявлялись владельческие притязания общины на индивидуальное землевладение и стремление сохранить в неприкосновенности земельный фонд общины в качестве единого целого.
Еще одной важной чертой китайской общины являлись родственные связи, объединявшие, как правило, всех жителей деревни. Основной формой этих связей продолжал оставаться патронимический клан-группа родственных семей, происходивших от одного предка придерживавшихся обычая экзогамии. В организации клановых отношений между северными и южными районами Китая существовали определенные отличия: к северу от Янцзы деревня состояла из нескольких кланов, к югу – клан и деревня чаще всего совпадали.
Клановые отношения получали воплощение в культе предков и сопутствовавших ему религиозных церемониях и социальных институтах. Центром религиозной деятельности в деревне были храмы, чаще всего посвященные духам предков. Здесь в соответствии с традицией проводились церемонии, посвященные предкам – основателям патронимии, здесь же собирались все жители деревни или представители групп, составлявших ее, для решения общедеревенских проблем.
Иногда храмы предков использовались как школьные здания, в которых выходцы из клана, получившие образование, давали уроки грамоты своим юным сородичам. Храмы были и штабами, руководившими местными отрядами самообороны, предназначенными для защиты клана от разбойничьих шаек, вооруженных отрядов соседних кланов, а в некоторых случаях и от вторжения правительственных войск.
Всеобщее распространение общинно-клановых связей, являвшихся подлинной основой социальных институтов китайской империи, не противоречило наличию внутри общины (клана) различных форм господства и подчинения, эксплуатации. Основной формой этой эксплуатации в деревне была аренда-издольщина. Возникавшие внутри общинного коллектива арендные отношения маскировались принадлежностью эксплуататора и эксплуатируемого к одному клану. Нередко (особенно в южных районах) роль арендодателя играл богатый и могущественный клан, эксплуатировавший более слабую общину. В этом случае верхи и низы одной клановой группы объединялись, пытаясь удержать в повиновении подчиненную общину. В источниках зафиксированы многочисленные примеры борьбы между доминирующими кланами или же между сильной и слабой коалициями общин. Победа, одержанная одним из враждующих кланов в кровопролитных сражениях, обеспечивала присоединение новых земель, контроль над водными источниками, а также центрами местной торговли.
Сельская верхушка в китайской деревне состояла из двух основных групп. Первая – землевладельцы, происходившие в основном из разбогатевших общинников, сдававших землю в аренду. Часто, эксплуатируя арендаторов, они сами с помощью членов своих семей обрабатывали часть принадлежавшей им земли. Их образ жизни мало отличался от той жизни, которую вела основная масса крестьян-землевладельцев, о чем можно судить по материалам местных хроник. Весьма типичной была следующая ситуация. Ранним утром отец отдавал распоряжения своим сыновьям: один должен был пахать в поле землю, другой отправлялся на рынок в соседнее большое село, третий, самый способный, оставался дома и целиком посвящал себя изучению древних книг, готовясь к сдаче экзаменов на получение ученого звания.
Вторая доминирующая социальная группа —землевладельцы, составлявшие образованную часть китайского общества, обладатели ученых званий и чиновничьих рангов. К этой группе относились также выходцы из общин (разумеется, чаще из могущественных кланов), которым удалось получить образование и сдать экзамен на получение ученого звания, что было стандартным путем, открывавшим доступ к чиновничьей карьере. Они именовались шэньши (т.е. «имеющие пояс», что являлось внешним признаком принадлежности к образованной страте общества), образ жизни, поведение и одежда сильно отличали их от основной массы сельского населения. Те шэньши, которые являлись землевладельцами, также сдавали землю в аренду. Барская запашка и связанное с ней хозяйство помещичьего типа, как и крепостническая система, не получили в традиционном Китае сколько-нибудь широкого распространения.
Однако далеко не все шэньши были достаточно крупными землевладельцами, чтобы жить на земельную ренту. В этом случае источником их основных доходов являлось занятие «интеллигентным» трудом: они становились школьными учителями, репетиторами, готовившими соискателей к государственным экзаменам, руководили сельскими общественными работами, возглавляли отряды местной самообороны. Те, кто стали чиновниками и поступили на государственную службу, получали казенное жалованье и имели некоторые «побочные» источники доходов. В целом доходы группы шэньши от земельных владений вряд ли превышали одну треть от всех совокупных доходов этого социального слоя. Доходы от службы, земельных владений и предпринимательства распределялись соответственно как 3:2 : 1. Несмотря на родственные связи, объединявшие верхи и низы общины, эксплуатация в деревне была жестокой. Арендная плата в зависимости от формы аренды колебалась от 30 до 70% урожая, составляя в среднем по стране 40%. Широко были распространены обременительные залоги за взятую в аренду землю, подношения землевладельцам при заключении арендного договора. Вместе с тем существовали и нормы традиционного обычного права, свидетельствовавшие о том, что не только арендатор, но и землевладелец нес определенные обязательства перед теми, кому он передавал для обработки свою землю. Эти нормы обязывали арендодателя в случае неурожая и стихийных бедствий снижать арендную плату или отменять ее вовсе, если урожай погибал полностью.
В позднеимператорский период в Китае подавляющую часть населения составляли самостоятельные крестьяне-землевладельцы, что являлось весьма существенной чертой аграрного строя страны. В целом же господствовало мелкое и среднее землевладение. Большинство арендодателей владели 50—100 му земли (3—6 га), а крестьяне имели в среднем 10—20 му (0,6—1,2 га). Крупные землевладения, насчитывавшие сотни или тысячи му, были исключением и не определяли характер аграрных отношений. Как правило, землевладельцы-арендодатели занимались в деревне ростовщичеством, а сама ростовщическая эксплуатация наряду с арендой являлась вторым важнейшим источником процветания деревенских верхов.
Самостоятельное крестьянство владело более чем половиной пахотных земель и составляло более половины всего сельского населения. Хозяйства таких крестьян-землевладельцев были наиболее широко распространены к северу от Янцзы, где роль арендных отношений была неизмеримо менее значительной, чем на юге.
Все землевладельцы обязаны были платить налоги. Основным являлся единый подушно-поземельный налог, введенный в первой половине XVIII в. Его величина исчислялась в зависимости от количества и качества земли, находившейся во владении того или иного двора. Вносить налог за землю были обязаны все категории землевладельцев, включая и те группы, которые можно отнести к господствующему классу. Не делалось исключения и для шэньши, которые освобождались только от трудовых повинностей, но за ними сохранялось их главное обязательство перед государством – служить ему, исполняя труд ученого-книжника или чиновника-бюрократа.
Подушно-поземельный налог являлся одной из форм ренты-налога и свидетельствовал о том, кто же являлся верховным и истинным собственником земли в императорском Китае. Таким собственником было государство, в сущности, сдавшее землю в аренду тем, кто фигурировал в налоговых реестрах в качестве владельцев. С этой точки зрения между шэньши, землевладельцем-арендодателем и рядовым крестьянином не было существенных отличий – все они были всего лишь держателями государевой земли.
Часть пахотных земель (примерно 10%) принадлежала непосредственно императорской фамилии, а кроме того, маньчжурской аристократии, офицерам и солдатам маньчжурских войск. Земли императорских поместий обрабатывались прикрепленными к ним крестьянами. Так же обрабатывались и земли служивших в «восьмизнаменных»– войсках маньчжуров, которые помимо этого широко использовали труд многочисленных рабов, захваченных ими в период борьбы за завоевание Китая. «Восьмизнаменные» земли были расположены главным образом в районах Северного Китая и вокруг 72 городов, признанных стратегически важными центрами. В них размещались маньчжурские гарнизоны, солдатам и офицерам которых в первые годы правления маньчжурской династии были переданы земли, конфискованные у местного китайского населения.
Как и в минский период, в цинском Китае была распространена еще одна форма казенного землевладения – военные поселения-, земли которых обрабатывались воинами пограничных гарнизонов. Однако эти отношения, привнесенные в Китай завоевателями-кочевниками, не могли сколько-нибудь существенно изменить традиционный общественный строй. На протяжении XVIII – начала XIX вв. рабство все в большей мере приобретало черты крепостных отношений, а особый статус «восьмизнаменного» землевладения был ликвидирован в середине XIX в.
Процесс социальной дифференциации, естественным образом протекавший в клановых общинах, приводил к формированию на одном полюсе общинных богатых верхов, на другом – малоземельного и безземельного бедного крестьянства. Эти явления, отчетливо наблюдаемые на всем протяжении истории императорского Китая и подчиненные закономерности циклического движения, так и не привели к разложению общинно-клановой основы социальной жизни китайского общества. Этому препятствовало государство, заинтересованное в сохранении традиционной социальной структуры и являвшееся высшим собственником земли. Этому процессу оказывали противодействие и сами общинные институты, тормозившие процессы имущественной дифференциации между верхами и низами общины при помощи системы взаимопомощи, благотворительности и т.д.
В организации городского ремесла на протяжении XVII—XVIII вв. также не произошло глубоких перемен по сравнению с периодом правления минской династии. Торговое и ремесленное население объединялось в корпоративные организации (хан), при создании которых важную роль играли клановые и земляческие связи. Характерной чертой китайских городских корпораций (впрочем, как и в подавляющем большинстве других стран Востока) было господство цехо-гильдий, когда ремесленник, как правило, являлся и продавцом собственной продукции, что свидетельствовало о незавершенности процесса отделения торговли от ремесла.
Торгово-ремесленные корпорации, обладавшие правами внутреннего самоуправления, являлись, по существу, организациями, предназначенными для сбора налогов и отбывания повинностей в пользу казны. Частное ремесло (сы), как и частное землевладение (минь), было обложено многочисленными налогами и повинностями. Подобно крестьянину, частный ремесленник был беззащитен перед властями, имевшими право привлечь мастера из самой отдаленной провинции к работе на столичных казенных предприятиях. При этом только на дорогу могло уйти несколько месяцев. Власти придирчиво контролировали частные ремесленные предприятия, перераспределяли его доходы в пользу государства, производя «закупки» ремесленной продукции по ценам, значительно уступавшим рыночным.
Как и в предшествующие эпохи, маньчжурское правительство продолжало руководствоваться традиционной теорией, согласно которой земледелие являлось основным, а торговля и промышленность – вспомогательным занятием подданных. Процветающий предприниматель и купец рассматривались властью не как опора трона, а, скорее, как нежелательные и даже потенциально опасные для устоев государства социальные фигуры. Поэтому китайские города не обладали особым правовым статусом, способным обратить их не только в центр экономической жизни, но и в автономный от властей центр политической активности. В этом смысле сколько-нибудь существенная разница между городом и деревней отсутствовала. Управление в городе возлагалось на чиновников, присланных из столицы и являвшихся в равной мере всесильными как в городе, так и в деревне.
Пренебрежительное отношение к частной ремесленно-торговой деятельности проистекало также из того, что императорский двор использовал развитый казенный ремесленный сектор, а это позволяло не зависеть от частного ремесленного производства. Казенные предприятия действовали в различных отраслях производства и вполне обеспечивали маньчжурский двор, высшие слои чиновничества и армию. В условиях господствовавших социальных отношений имущество и жизнь предпринимательских групп населения ни в коей мере не были защищены законом. Последнее обстоятельство являлось весьма серьезным препятствием на пути становления капиталистических отношений.
Правление цинской династии не внесло ничего существенно нового в характер политического строя китайской державы, продолжавшей оставаться «восточной» деспотией. Самодержавный правитель пользовался неограниченной властью, а управление страной основывалось на классических формулах, появившихся еще в древности и переживших века. Они звучали так: «В Поднебесной нет земли, кроме той, что принадлежит государю» и «Все живущие на этой земле являются подданными государя». Эти определения, ставшие отправным пунктом законодательства цинского Китая, отражали огромную роль государства и его правителя, который являлся одновременно верховным собственником всех земель и неограниченным властелином своих подданных.
Цинский правитель в соответствии с китайской традицией именовался Сыном Неба, что прямо указывало на его Божественное происхождение, и считался лицом священным, посредником между Небом и людьми. Концепция Божественной сущности не только императорской власти, но и самого верховного правителя усиливалась в силу того, что он играл роль верховного жреца, совмещая таким образом политические и сакральные функции. Это находило выражение в следующем: дважды в год верховный правитель возглавлял самые важные, с точки зрения китайцев, религиозные церемонии, отправлявшиеся в столичных Храме Земли и Храме Неба. В них император проводил ритуальную борозду по специально подготовленному для него полю, что символизировало благополучное начало сельскохозяйственных работ, возносил моления и приносил жертвы Небу, призывая его быть милостивым к его подданным. В соответствии с законом под страхом смерти было запрещено произносить вслух собственное имя императора, который именовался по девизу его правления. Например, первый маньчжурский император правил под девизом «Шуньжи», что в переводе означает «благоприятное правление». Подданным, не приближенным ко двору, было запрещено видеть лицо правителя, поэтому во время следования его кортежа окна и двери домов следовало наглухо закрывать.






