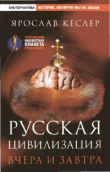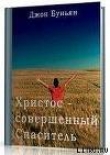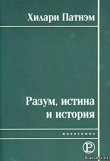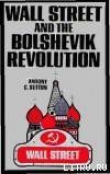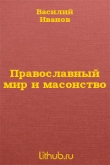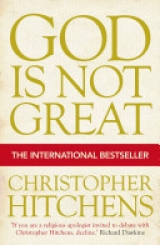
Текст книги "Бог - не любовь: как религия все отравляет"
Автор книги: Кристофер Эрик Хитченс
Жанры:
Прочая религиозная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
Из этого Ахаз заключил, что ему будет дарована победа над врагами (чего так и не произошло – даже если рассматривать этот эпизод в широком историческом контексте). Картина продолжает меняться, стоит нам вспомнить, что слово, переведенное как «дева», а именно «альмах», не означает ничего, кроме «молодой женщины». Как бы то ни было, млекопитающее homo sapiens не способно к партеногенезу, и даже если одной матери удалось бы обойти этот запрет, это не стало бы доказательством божественной природы младенца. Таким образом, религия, как обычно, пытается доказать слишком многое и тем вызывает подозрения. Следуя зеркальной аналогии, Нагорная проповедь воспроизводит Моисея на горе Синай, а безымянные слушатели Иисуса исполняют роль еврейского народа, повсюду следовавшего за Моисеем. Таким образом, пророчество исполняется – в глазах тех, кто не замечает или кого не заботит такое «обратное проектирование». Лишь в одном из Евангелий короткий отрывок (именно за него с радостью ухватился Мел Гибсон), дублируя поведение бога на Синае, вкладывает в уста раввинов требование возложить вину за кровь Иисуса на все последующие поколения евреев, – требование, явно выходящее за пределы их власти и полномочий.
Однако легенда о непорочном зачатии – лучшее доказательство участия человеческой фантазии. Иисус делает громкие заявления о божественности своего отца, но, ни единым словом не упоминает (настоящей или былой) девственности своей матери. Всякий раз, когда она, по обыкновению еврейских матерей, пытается узнать, как у него дела, он проявляет крайнюю грубость и черствость. Сама Мария, похоже, не помнит ни архангела Гавриила, ни роя ангелов, совместно объявивших ей о том, что она божья матерь. По всем свидетельствам, действия сына вызывают у нее изумление, а то и шок. Зачем он разговаривает с мудрецами в храме? Что он имеет в виду, холодно напоминая ей, что ему должно быть в том, что принадлежит его отцу? Столь короткая материнская память поистине поразительна, особенно у единственной женщины, которой довелось забеременеть, минуя известную предварительную процедуру. Лука в одном месте даже характерно оговаривается, называя «родителями Иисуса» Иосифа и Марию, пришедших в храм для ритуального очищения Марии. В храме, кстати, их приветствует старец Симеон со своим чудесным «Nunc dimittis»[9] (еще один из моих любимых церковных хитов), что, в свою очередь, может быть сознательной аллюзией на последний взгляд, которым престарелый Моисей окинул Землю Обетованную.
Можно вспомнить и поразительную историю с многочисленным потомством Марии. Матфей сообщает (13:55–57), что у Иисуса было четыре брата и некоторое количество сестер. В Евангелии от Иакова, которое не входит в канон, но при этом не считается еретическим, рассказывается, что Иисус имел брата-тезку, который параллельно вел активную деятельность в религиозных кругах. Можно допустить, что Мария «понесла во чреве», будучи нетронутой девственницей, и родила одного ребенка (что, разумеется, в некотором смысле умалило ее нетронутость). Но как смириться с тем, что она продолжила рожать детей – от мужчины Иосифа, фигурирующего только в косвенной речи, – и довела святое семейство до таких размеров, что они бросались в глаза «очевидцам»?
Эта почти табуированная и почти сексуальная дилемма также была решена задним числом, причем на этот раз через много веков после раннехристианских соборов, на которых «синоптические» евангелия лихорадочно отделялись от «апокрифов». Было решено, что сама Мария (о рождении которой нет ни слова ни в одной священной книге), появилась на свет в результате более раннего непорочного зачатия, снабдившего ее иммунитетом против всякой скверны. Также было решено, что Мария не умерла: в самом деле, смерть – расплата за грехи, а Мария не могла грешить по определению. Так появился догмат о «Вознесении», утверждающий на пустом месте, что именно пустое место, а не могила, осталось на земле после того, как Мария живьем отправилась на небеса. Заслуживают интереса даты принятия этих эдиктов, грандиозных в своей изобретательности. Доктрину о непорочном зачатии Девы Марии Рим огласил или открыл в 1852 году, а догмат о ее вознесении – в 1951-м. «Сделано человеком» не всегда означает «сделано без ума». Надо отдать должное героическим попыткам спасти бесповоротно тонущее судно. Но при всей «вдохновенности» этих церковных постановлений едва ли стоит оскорблять божество утверждениями, что сие вдохновение – от него.
Не только текст Ветхого Завета нашпигован фантазиями и астрологией (солнце остановилось, чтобы Иисус Навин мог довести до конца свою резню в так и не найденном месте). Христианские писания полны небесных знамений (начиная с той самой звезды над Вифлеемом), колдунов и знахарей. Многие деяния и речения Иисуса вполне безобидны; прежде всего, это относится к «заповедям блаженства» с их беспочвенными фантазиями о кротких и миротворцах. Однако многие другие лишены смысла и свидетельствуют о вере в магию, некоторые абсурдны и говорят о примитивном понимании сельского хозяйства (сюда относятся все упоминания пашен и посевов, а также все аллегорические смоковницы), а многие откровенно аморальны. К примеру, уподобление людей полевым лилиям, как и многие другие наставления Иисуса, подразумевает, что бережливость, изобретательность, семейная жизнь и тому подобное – пустая трата времени. («Не заботьтесь о завтрашнем дне».) Поэтому некоторые Евангелия, как синоптические, так и апокрифические, сообщают, что современники (включая членов его семьи) думали, что Иисус сошел с ума. Были и те, кто замечал в его поведении признаки еврейской ортодоксии: Евангелие от Матфея (15:21–28) рассказывает о том, как он пренебрег женщиной из Ханаана, умолявшей его изгнать бесов из ее дочери. Иисус отрезал, что не собирается тратить сил на нееврейку. (В конце концов ученики и настойчивость женщины уговорили его смягчиться и прогнать «демона».) На мой взгляд, такие своеобразные эпизоды – еще одно косвенное доказательство, что у Христа действительно был некий исторический прототип. По Палестине в то время бродило немало пророков, но этот очевидно считал себя – по крайней мере, время от времени – богом или сыном бога. И этим все объясняется. Достаточно допустить, что он верил в это сам и что обещал ученикам наступление своего царства еще при их жизни, как почти все его афоризмы, внезапно обретает подобие смысла. Откровенней всего об этом написал Клайв Льюис (согласно недавним опросам, самый популярный пропагандист христианства) в книге «Просто христианство». В интересующем нас отрывке Льюис комментирует готовность Иисуса брать на себя чужие грехи:
Если говорящий не Бог, это заявление поистине смехотворно. Мы все понимаем, что человек может простить зло, причиненное лично ему. Вы наступаете мне на ногу, и я вас прощаю; вы крадете мои деньги, и я вас прощаю. Но как понимать человека, которого никто не грабил и чьих ног никто не топтал, но заявляющего при этом, что он простил вам топтание чужих ног и кражу чужих денег? Чушь собачья – вот самое мягкое определение для таких заявлений. Но именно это сказал Иисус. Он говорил людям, что их грехи прощены, не советуясь с теми, кто пострадал от их прегрешений. Он без тени сомнения вел себя так, словно все их проступки были прежде всего проступками против Него. Такое поведение оправдано только в том случае, если он действительно был Богом, а потому всякий грех нарушал Его законы и отвергал Его любовь. Те же слова в устах любого другого я не могу назвать ничем иным, кроме глупости и самомнения, каких не найти ни у какой другой исторической фигуры.
Можно отметить, что Льюис считает Иисуса «исторической фигурой» в отсутствие каких-либо веских доказательств, но оставим это в стороне. Отдадим ему должное за то, что он принимает логику и мораль сказанного. Льюис не церемонится с теми, кто полагает, что Иисус мог быть великим учителем нравственности, не имея божественной природы (к таким людям, кстати, относил себя и деист Томас Джефферсон):
Но этого мы сказать не можем. Обыкновенный человек, говоривший то, что говорил Иисус, не был бы великим учителем нравственности. Он был бы душевнобольным – наравне с теми, кто считает себя яйцом в мешочек, – или же дьяволом. Другого выбора нет. Либо этот человек был и остается Сыном Божиим, либо он был, в лучшем случае, безумцем. Можно отмахнуться от него, как от идиота; можно плевать в Него и убить Его, как беса; можно упасть к Его ногам и называть Его Господом Богом. Так что забудем снисходительный вздор о том, что он был великим учителем нравственности. Он не оставил нам возможности такого истолкования. Это не входило в его намерения.
Заметьте: я не ищу противника посговорчивей. Льюис – самый ходовой христианский пропагандист современности. Еще в меньшей степени я принимаю такие сверхъестественные категории, как «дьявол» и «бес». Менее же всего я готов принять его умозаключения, скудомыслие которых поражает воображение: он берет ложную альтернативу, подает ее, как единственно возможную, и грубо делает из нее неправомочный вывод. («Мне представляется очевидным, что Он не был ни душевнобольным, ни демоном; следовательно, сколь бы странным, ужасным или маловероятным это ни казалось, я вынужден признать, что Он был и остается Богом».) Однако я отдаю должное его честности и даже некоторой смелости. Либо Евангелиям можно верить на слово, либо все это одно большое надувательство, причем, возможно, безнравственное надувательство. Что ж, из текста самих Евангелий совершенно очевидно, что им нельзя верить на слово. Многие «изречения» и наставления Иисуса дошли до нас через длинную цепочку людской молвы, что объясняет многочисленные нестыковки и противоречия. Самые вопиющие из них – по крайней мере, с исторической точки зрения и, уж во всяком случае, с точки зрения верующих – связаны со временем его второго пришествия и его полным равнодушием к основанию какой-либо посюсторонней церкви. Первые христианские епископы, жалевшие, что не попали в число очевидцев, охотно ссылаются на неканонические поучения Христа – даже не из вторых, а из третьих рук. Приведу один показательный пример. Через много лет после того, как Льюис отправился пожинать плоды своих стараний, один очень серьезный молодой человек по имени Бартон Эрман решил проверить свои фундаменталистские взгляды. Он учился в двух самых известных христианских академиях США. Фундаменталисты считали его своим. Исследования Эрмана, хорошо владеющего древнегреческим и древнееврейским (сейчас он возглавляет факультет религиоведения), несколько разошлись с его верой. К собственному изумлению, он обнаружил, что некоторые широко известные истории из жизни Иисуса были вписаны в канон гораздо позднее, и что это касается, пожалуй, самой известной из них.
Я имею в виду знаменитый эпизод с женщиной, совершившей прелюбодеяние (Евангелие от Иоанна 8:3-11). Кто не слышал или не читал, как казуисты-фарисеи приволокли несчастную к Иисусу, желая знать, согласен ли он, что ее следует забить камнями в соответствии с законом Моисея? Если нет, он нарушит закон. Если да, он выставит на посмешище собственное учение. Нетрудно представить, с каким гнусным остервенением эта публика набросилась на женщину. А спокойный ответ (после писания перстом на земле) – «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень» – навсегда вошел в нашу литературу и наше сознание.
Этот эпизод не остался без внимания кинематографа. Он мелькает в дешевой поделке Мела Гибсона. В «Докторе Живаго» Дэйвида Лина он появляется в чудесной сцене разговора отчаявшейся Лары и священника, который спрашивает ее, что сказал Иисус грешнице. «Иди и впредь не греши», – отвечает она. «И она послушалась?» – гневно вопрошает священник. «Я не знаю, Отец». «Никто не знает», – говорит священник, от чего Ларе вряд ли становится легче.
Воистину, никто не знает. Еще задолго до того, как я прочитал Эрмана, у меня имелись кое-какие вопросы. Если Новый Завет продолжает дело Моисея, зачем подрывать кровожадные законы Пятикнижия? Пусть око за око, зуб за зуб и истребление ведьм – это варварство и глупость, но если право вершить суд имеют только те, кто без греха, как несовершенное общество вообще может наказывать преступников? Нам всем бы пришлось лицемерить. И по какому праву Иисус «простил» грешницу? Резонно предположить, что где-то в городе рвала и метала как минимум одна обманутая жена или негодовал обманутый муж. Неужели христианство проповедует половую распущенность? Если так, то до сих пор его понимали очень неправильно. А что писалось перстом на земле? Опять же, никто не знает. Кроме того, в тексте говорится, что после того, как фарисеи растаяли вместе с толпой (надо понимать, от стыда), кроме Иисуса и женщины никого не осталось. Кто, в таком случае, пересказывает нам его слова? Впрочем, несмотря на все это, история казалась мне не лишенной прелести.
Профессор Эрман идет дальше. Он задает не менее очевидные вопросы. Если женщина «взята в прелюбодеянии», т. е. на месте преступления, где ее партнер? Моисеев закон, данный в книге Левита, недвусмысленно требует казни для обоих. В какой-то момент я понял, в чем секрет очарования этой сцены: в дрожащей фигурке девушки, увидевшей приветливое лицо после злобной брани и цепких лап сексуально озабоченных фанатиков. Что же до писания на земле, то Эрман приводит древнюю легенду, согласно которой Иисус выводил в пыли известные прегрешения присутствующих, от чего они краснели, мялись и поспешно удалялись восвояси. Мне по душе эта версия, хоть она и предполагает степень мирского любопытства к чужим любовным похождения (а также предвидения), вызывающую дополнительные вопросы.
Надо всем этим довлеет шокирующее признание Эрмана:
Этот эпизод отсутствует в самых ранних и лучших списках Евангелия от Иоанна. Его стиль сильно отличается от остального текста Евангелия (включая окружающие эпизоды). Он содержит значительное число слов и выражений, которые больше нигде в этом Евангелии не встречаются. Вывод может быть только один: этого отрывка не было в первоначальном тексте.
Мой источник и на этот раз дает «показания против самого себя»: иными словами, это свидетельство человека, начавшего свои научные и интеллектуальные изыскания вовсе не для того, чтобы поставить под сомнение Священное Писание. Адвокаты целостности, достоверности и «боговдохновенности» Библии уже давно проиграли дело, и новые исследования лишь разносят в пух и прах последние ошметки их аргументации, а стало быть, не стоит рассчитывать на библейское «откровение». Пусть защитники религии всецело полагаются на веру, и пусть им хватит смелости признаться в этом.
Глава девятая Коран – плагиат иудейских и христианских мифов
Наш анализ показал, что дела и «изречения» Моисея, Авраама и Иисуса дошли до нас из крайне ненадежных источников и полны противоречий, а нередко и безнравственны. На очереди откровение, которое многие считают последним: Коран («чтение вслух») пророка Мухаммеда. И здесь действует ангел (или архангел) Гавриил, диктующий суры (стихи) малообразованному или вовсе не образованному человеку. И здесь есть история о всемирном потопе и запрет на идолопоклонство. И здесь первое откровение получают евреи, и они же первыми отвергают его. Наконец, и у этого текста имеется обширное приложение из сомнительных преданий о поступках и изречениях Пророка, на этот раз известное как «хадисы».
Ислам – одновременно и наиболее и наименее интересная из монотеистических религий. Он собран по кусочкам из своих примитивных иудео-христианских предшественников. Следовательно, любые аргументы против них – аргументы и против ислама. Его основополагающий текст повествует о таком же поразительно мелком мирке с его чрезвычайно занудными местечковыми склоками. Ни один из первоначальных источников невозможно сличить с древнееврейскими, греческими или латинскими текстами. Почти все основано на устной традиции, и все записано по-арабски. Более того, многие авторитеты полагают, что Коран можно читать только на этом языке, изобилующем идиоматическими вариациями и диалектами. Напрашивается абсурдный и потенциально опасный вывод о том, что бог не владел другими языками.
Передо мной лежит чрезвычайно елейная книга под названием «Знакомство с Мухаммедом», написанная двумя британскими мусульманами в надежде продемонстрировать Западу приветливое лицо ислама. При всем подобострастии и тщательном отборе материала, даже они настаивают на том, что
«поскольку Коран есть буквальное Слово Божье, он является Кораном только в оригинальном тексте, открытом Пророку. Никакой перевод не может быть Кораном – той неповторимой симфонией, „чей звук доводит до слез мужчин и женщин“. Любой перевод – всего лишь попытка дать самое общее представление о значении слов Корана. Поэтому все мусульмане, на каком бы языке они ни говорили, всегда декламируют Коран в арабском оригинале».
Затем авторы книги крайне нелестно отзываются о переводе Н. Давуда, опубликованном издательством Penguin. Меня это, конечно, радует, поскольку я всегда использовал перевод Пиктолла, но отнюдь не убеждает, что я не смог бы обратиться в веру, не выучив другой язык. Тем более, и на моей собственной родине найдется прекрасная поэтическая традиция, которая мне, увы, не доступна, поскольку я никогда не овладею восхитительным гэльским языком. Даже если бог араб или был арабом (предположение небезопасное), каким образом он рассчитывал «открыться» через неграмотного человека, в принципе неспособного передать его слова в неизмененном (не говоря уже о неизменяемом) виде?
Это обстоятельство важнее, чем может показаться. Благовещение в Коране, адресованное существу предельной простоты и невежества, имеет для мусульман примерно такую же ценность, как «немощнейший сосуд» девы Марии – для христиан. Кроме того, оно обладает теми же полезными свойствами: его невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Из того, что Мария говорила по-арамейски, а Мухаммед – по-арабски, можно, пожалуй, заключить, что бог все-таки многоязычен и может говорить на любом языке. (В обоих случаях он предпочел использовать в качестве носителя благовестий архангела Гавриила.) Показательно, однако, что все религии стойко противились любым попыткам перевести их священные тексты на язык, «удобопонятный народу», выражаясь языком молитвенника Кранмера. Не было бы никакой протестантской Реформации, если бы долгая борьба за перевод Библии на «вульгарные наречия» не увенчалась успехом и не нарушила монополию священников. За попытки перевести Библию преследовали и сжигали таких набожных людей, как Уиклиф, Ковердейл и Тиндейл. Католическая церковь так и не оправилась от утраты таинственной латинской мессы, да и основные протестантские церкви много потеряли, переложив свои Библии на более обиходный язык. Некоторые иудейские мистики по-прежнему признают только древнееврейский оригинал и играют в каббалистические ребусы с текстом (включая пробелы), но и большинство евреев уже отказалось от якобы неизменных ритуалов древности. Чары священства разрушены. Только в исламе до сих пор не было реформации, и по сей день любые переводы Корана на местные языки обязательно печатаются с параллельным арабским текстом. Это должно вызвать подозрения и у последнего тугодума.
Исламские завоевания, поражающие своим размахом, скоростью и решительностью, могут навести на мысль, что в этих арабских заклинаниях что-то есть. Но если вы принимаете эту дешевую мирскую победу за доказательство, вы должны принять и утопавшее в чужой крови племя Иисуса Навина, и христианских крестоносцев и конкистадоров. Есть и другое возражение. Все религии стараются либо заткнуть рот сомневающимся, либо расправиться с ними (я склонен думать, что эта хроническая тенденция свидетельствует не о силе, а о слабости религии). Однако ни иудаизм, ни христианство уже давно не прибегают к пыткам и цензуре открыто. Ислам же не только начал с того, что приговорил всех сомневающихся к адскому пламени, но до сих пор оставляет за собой право выносить такие приговоры во всех своих владениях, и до сих пор учит, что эти владения можно и должно расширять огнем и мечом. На протяжении всей истории ислама любая попытка поставить под вопрос или хотя бы проанализировать его догмы влекла за собой немедленные и жесточайшие репрессии. Уже из одного этого можно заключить, что под внешним единством и самонадеянностью ислама кроются глубокие и, вероятно, оправданные сомнения. Стоит ли добавлять, что кровавые распри всегда бушевали и между различными течениями самого ислама, выливаясь в строго внутриисламские обвинения в ереси и богохульстве, а также в чудовищное насилие.
Эта религия так же чужда мне, как и многим миллионам других людей, которые находят маловероятным, что бог (через посредника) дал неграмотному человеку команду «читать». Но я искренне пытался найти в ней достоинства. Как я уже сказал, много лет назад я приобрел Коран в переводе Мармадьюка Пиктолла. Авторитетные улемы, т. е. мусульманские богословы, признали его наиболее близким к оригиналу переложением на английский язык. Я присутствовал на бесчисленных собраниях – от пятничных молитв в Тегеране до мечетей в Дамаске, Иерусалиме, Дохе, Стамбуле и Вашингтоне – и готов подтвердить, что «чтение вслух» на арабском языке, судя по всему, действительно способно приводить тех, кто его слышит, в состояние блаженства или ярости. (Я также присутствовал на молитвах в Малайзии, Индонезии и Боснии. Мусульман этих стран, где не говорят по-арабски, раздражает привилегированное положение арабов, арабского языка, а также арабских движений и режимов в религии, претендующей на универсальность.) Принимая в собственном доме Сайда Хусейна Хомейни, внука аятоллы и муфтия из священного города Кум, я бережно протянул ему свой экземпляр Корана. Он поцеловал книгу, долго и почтительно говорил о ней и, для моего сведения, написал на задней стороне обложки стихи Корана, которые, по его мнению, опровергали претензии деда на теократию, а также отменяли его смертный приговор Салману Рушди. Не мне судить, кто прав в этом споре. Однако мне уже приходилось видеть, как разные люди извлекают разные заповеди из одного текста. Не стоит переоценивать мнимую глубину исламских истин. Тот, кто знает пороки одной религии, знает пороки всех остальных.
За двадцать пять лет дебатов, нередко жарких, в Вашингтоне мне лишь один раз грозило физическое насилие. Это случилось во время ужина с членами и сторонниками клинтоновской администрации. Один из присутствующих, в то время видный специалист по общественному мнению и финансированию предвыборных кампаний, расспрашивал меня о недавней поездке на Ближний Восток. Он желал знать мой ответ на вопрос, почему мусульмане столь «безбашенные фундаменталисты». Я выдал свой стандартный набор объяснений, добавив, что многие забывают, что ислам – сравнительно молодая религия и с юношеским пылом доказывает собственную правоту. Кризис и сомнения, охватившие западное христианство, – не для мусульман. Еще я добавил, что, например, по сравнению с Иисусом, о жизни которого нет почти никаких исторических свидетельств, пророк Мухаммед – фигура вполне историческая. Мой собеседник мгновенно переменился в лице. Завопив, что Иисус Христос сделал для человечества больше, чем я способен себе представить, и что моя легкомысленная болтовня в высшей степени омерзительна, он занес ногу для удара, от которого его удержало только чувство приличия – надо полагать, его христианство. После этого он удалился, приказав жене следовать за ним.
Я чувствую теперь, что должен хотя бы наполовину извиниться перед ним. Нам действительно известно, что человек по имени Мухаммед почти наверняка существовал в заявленном времени и пространстве, но в остальном мы сталкиваемся с той же проблемой, что и в предыдущих случаях. Рассказы о делах и словах Мухаммеда были собраны много лет спустя, когда шкурные интересы, слухи и отсутствие письменных свидетельств уже безнадежно все запутали.
В истории Мухаммеда мало сюрпризов, даже если вы не слышали ее раньше. В VII веке некоторые жители Мекки исповедовали религию Авраама и даже верили, что Авраам лично построил их храм, Каабу. Рассказывают, что сам храм (большую часть его первоначального убранства позже уничтожили фундаменталисты – прежде всего ваххабиты) был осквернен идолопоклонством. Среди «ханифов», «отвернувшихся» от храма в поисках другого утешения, был и Мухаммед, сын Абдуллы. (Книга пророка Исайи также призывает истинно верующих «отходить» и изолироваться от нечестивых.) Удалившись в пещеру на горе Хира во время Рамадана, месяца зноя, и пребывая «во сне или трансе» (цитата из комментариев Пиктолла), Мухаммед услышал голос, повелевавший ему читать. Дважды он отвечал, что не умеет читать, и трижды слышал тот же приказ. В конце концов он спросил, что читать, и получил дальнейшие приказания от имени властителя, «сотворившего человека из сгустка крови». После того, как архангел Гавриил (так он представился) поведал Мухаммеду, что ему суждено стать посланцем Аллаха, и удалился, Мухаммед рассказал все своей жене Хадидже. Когда они вернулись в Мекку, Хадиджа отвела Мухаммеда к своему двоюродному брату, старику по имени Варака ибн Науфаль, «который знал писания евреев и христиан». Этот усатый ветеран заявил, что божественный посланец, некогда посетивший Моисея, объявился снова на горе Хира. С того момента Мухаммед принял скромный титул «Раб Аллаха» («Аллах» по-арабски не что иное, как «бог»).
Поначалу рассказы Мухаммеда не заинтересовали никого, кроме жадных хранителей храма в Мекке, которые видели в нем угрозу своим заработкам на паломниках, и ученых евреев из Ятриба в двухстах милях от Мекки, которые за некоторое время до того провозгласили пришествие Мессии. Первые постепенно стали более опасны, а вторые – более расположены к Мухаммеду, в результате чего он предпринял поездку (хиджру) в Ятриб, ныне известный как Медина. Его бегство в Медину считается официальным началом эры ислама. Но как и в случае с Иисусом, прибытие которого из Назарета начиналось жизнерадостными знамениями с небес, все это кончилось очень скверно: аравийские евреи поняли, что их ожидания в очередной раз обмануты, и не исключено, что обмануты намеренно.
Согласно Карен Армстронг, чей анализ полон сочувствия – чтобы не сказать восхваления – исламу, арабов того времени уязвляло то, что история прошла мимо них. Бог являлся христианам и евреям, «но арабам он не посылал ни пророка, ни писания на их языке». Таким образом, хотя Армстронг и не говорит этого прямым текстом, арабы давно созрели для собственного откровения. Заполучив такое откровение, Мухаммед не намеревался мириться с утверждениями иноверцев о его вторичности. Вполне в духе Ветхого Завета, хроника его карьеры в VII веке скоро оборачивается перечислением злобных распрей нескольких сотен, иногда нескольких тысяч невежественных обитателей деревень и заштатных городков, и перст божий решает и улаживает местечковые споры. Как уже случилось однажды с рассказами о первобытной резне в Синае и Ханаане (которые также не подтверждаются никакими независимыми источниками), в заложниках у «судьбоносного характера» этих безобразных склок оказались миллионы людей.
Не вполне ясно, можно ли вообще считать ислам отдельной религией. Поначалу он удовлетворял потребность арабов в собственном вероучении и навсегда связан с их языком и с их впечатляющими завоеваниями. Их военные успехи, пусть и не столь поразительные, как победы молодого Александра Македонского, несомненно, наводили на мысль о всевышней поддержке, пока не застопорились на окраинах Балкан и Средиземноморья. Но при подробном рассмотрении ислам не более, чем набор очевидных заимствований, кое-как собранный из подходящих фрагментов более ранних книг и традиций. Иными словами, ислам вовсе не был, по великодушному выражению Эрнеста Ренана, «рожден в ясном свете истории». Его происхождение столь же туманно и условно, как и источники, которыми он воспользовался. Ислам претендует на очень многое. Он не просто требует рабской покорности от своих последователей, но и ожидает почтительного отношения от всех остальных. В его учении нет ничего, абсолютно ничего, что могло бы хоть как-то оправдать подобные претензии и высокомерие.
Пророк умер в 632 году по нашему приблизительному летосчислению. Через целых сто двадцать лет Ибн Исхак составил его первое жизнеописание, оригинал которого утерян и доступен лишь в переработанном варианте Ибн Хишама, умершего в 834 году.
К этим слухам и неясностям можно добавить, что у нас нет надежной информации ни о том, как последователи Пророка составляли Коран, ни о том, как возник канон изречений Мухаммеда (некоторые из них были записаны его личными писцами). Эта знакомая проблема усугубляется – даже больше, чем в христианстве, – вопросом наследования. В отличие от Иисуса, который, судя по всему, намеревался очень скоро вернуться на землю и (какой бы вздор ни нес Дэн Браун) не оставил известных наследников, Мухаммед был не только военачальником и политиком, но и, в отличие от Александра Македонского, многодетным отцом. Однако кому передать свои бразды он не распорядился. Борьба за первенство началась почти сразу после его смерти. Как следствие, ислам претерпел свой первый крупный раскол – на суннитов и шиитов – еще до того, как стал полноценной религиозной системой. В этом рсколе нам ни к чему занимать чью-либо сторону, хотя и можно отметить, что, по крайней мере, одна из интерпретаций должна быть ошибочной. А первоначальное отождествление ислама с ранним халифатом, состоявшим из несговорчивых наследников Мухаммеда, с самого начала подчеркивало его человеческое происхождение.
Некоторые исламские авторитеты рассказывают, что во время первого халифата Абу Бакра, сразу после смерти Мухаммеда, возникли опасения, что передававшиеся из уст в уста слова Пророка могут позабыться. В боях пало столько мусульманских воинов, что число тех, кто хранил Коран в памяти, сократилось до критических размеров. Посему было решено собрать всех живых свидетелей, а также «бумагу, камни, пальмове листы, лопатки, ребра и кусочки кожи», на которых были выцарапаны изречения Пророка, и поручить Зайду ибн Сабиту, одному из писцов Мухаммеда, свести их воедино. Когда это было сделано, у мусульман появилось нечто вроде официального канона.
Если все произошло именно так, Коран возник довольно скоро после смерти Мухаммеда. Но, как тут же выясняется, истинность этого рассказа под вопросом. Некоторые полагают, что идея собрать слова Пророка пришла в голову Али – четвертому, а не первому халифу, основателю шиизма. Многие другие, а именно суннитское большинство, утверждают, что окончательное решение принял халиф Усман, правивший с 644 по 656 год. Узнав от одного из своих военачальников, что воины из разных провинций дерутся из-за расхождений в разных версиях Корана, Усман приказал Зайду ибн Сабиту собрать все имеющиеся тексты, унифицировать их и свести в один. Когда это задание было выполнено, Усман приказал послать единообразные копии в Куфу, Басру, Дамаск и другие города, а оригинал хранить в Медине. Таким образом, Усман сыграл ту же роль в создании исламского канона, что Ириней Лионский и епископ Александрийский Афанасий сыграли в стандартизации, чистке и цензуре христианской Библии. Одни тексты были объявлены священными и непогрешимыми; другие стали «апокрифами». Усман даже превзошел Афанасия, повелев сжечь все более ранние и альтернативные тексты.