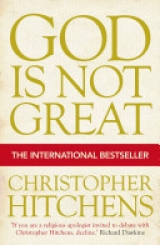
Текст книги "Бог - не любовь: как религия все отравляет"
Автор книги: Кристофер Эрик Хитченс
Жанры:
Прочая религиозная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
В самые первые месяцы этого века я посетил Северную Корею. Там, в герметичном пространстве, огороженном с четырех сторон морем или почти наглухо закрытыми границами, заключена страна, целиком посвятившая себя подобострастию. Священный долг гражданина – подданного – от восхода до заката славить Совершенное Существо и его Отца. Хвала раздается в каждом школьном кабинете. Ей посвящен каждый фильм, каждая опера, каждая пьеса. Ей отданы все телепередачи и радиовещание, а также все книги, журналы и газетные статьи, все спортивные соревнования и все рабочие места. Я, бывало, гадал, каково было бы вечно петь осанну. Теперь я знаю. Не забыли в Северной Корее и про дьявола: недремлющее зло иностранцев и неверующих сдерживается постоянной бдительностью и ежедневными сеансами ненависти к «чужим» без отрыва от производства. Северокорейское государство родилось примерно в то же время, когда вышел роман «1984», и складывается впечатление, что святому отцу нации Ким Ир Сену подарили эту книгу и попросили осуществить на практике. Но даже Оруэлл не решился написать, что рождение Большого Брата сопровождалось чудесами и знамениями, вроде птиц, что приветствовали великое событие человеческим языком. Более того, Внутренняя Партия Океании не тратила миллиарды скудных долларов во время ужасного голода, доказывая, что смехотворное млекопитающее Ким Ир Сен и млекопитающее Ким Чен Ир, его жалкий сынок, суть два воплощения одной и той же персоны. (Согласно этой версии арианской ереси, которую так осуждал архиепископ Афанасий, Северная Корея – единственное государство, возглавляемое мертвецом: Ким Чен Ир – глава партии и армии, но президентский пост навеки закреплен за его покойным отцом, что делает Северную
Корею некрократией или мавзолеократией. Еще одна ипостась, и режим сделается Святой Троицей.) О загробной жизни в Северной Корее не говорят, поскольку побег в любом направлении строго воспрещается, но при этом никто и не утверждает, что Кимы будут властвовать над тобой и после твоей смерти. Тем, кто изучает Северную Корею, очевидно, что она представляет собой не крайнюю форму коммунизма (он почти не упоминается посреди экстатических восхвалений), но, скорее, изощренную профанацию конфуцианства и культа предков.
Когда я уезжал из Северной Кореи со смешанным чувством облегчения, гнева и жалости, остроту которого помню до сих пор, – я уезжал не только из тоталитарного, но также из религиозного государства. С тех пор мне довелось общаться со многими из тех, кто храбро пытается подорвать эту бесчеловечную систему изнутри и снаружи. Признаюсь сразу, что среди храбрейших противников режима есть христиане-фундаменталисты. В недавнем интервью один из этих мужественных людей честно рассказал, как нелегко было проповедовать идею спасителя полуголодным, запуганным одиночкам, сумевшим сбежать из своего тюремного государства. Есть что-то слишком знакомое, говорили они, в речах о непогрешимом, всемогущем избавителе. Им бы для начала вполне хватило миски риса, маленького окошка в мир открытой культуры и передышки от уродливой религии принудительного энтузиазма. Те, кому посчастливилось добраться до Южной Кореи или США, еще имели шанс столкнуться с другим мессией. Уголовник и злостный неплательщик налогов Мун Сон Мен, бессменный глава «Церкви Объединения» и видный спонсор американских крайне правых, является одним из покровителей шайки «разумного замысла». Видную роль в этом так называемом движении играет Джонатан Уэллс, написавший бредовый антидарвинистский пасквиль «Иконы эволюции» и никогда не забывающий именовать своего богочеловеческого гуру должным образом: «Отец». Вот трогательное признание самого Уэллса:
«Слова Отца, мои исследования и мои молитвы убедили меня, что свою жизнь я должен посвятить уничтожению дарвинизма и на этом пути последовать примеру соратников из Церкви Объединения, что уже посвятили свои жизни уничтожению марксизма. Когда в 1978 году Отец поручил мне (вместе с десятком других выпускников семинарии) поступить в аспирантуру, я был счастлив шансу броситься в бой».
Книга г-на Уэллса едва ли удостоится даже сноски в истории чуши. Однако, увидев святых «Отцов» в действии в обеих Кореях, я живо представил себе, что творилось на «Выжженной земле» в штате Нью-Йорк, когда верующие правили бал.
Религия вынуждена признать, что даже в своих самых кротких проявлениях предлагает «тотальное» решение, требующее определенной слепоты в вере, а также подчинения всех аспектов частной и общественной жизни перманентному всевышнему надзору. В условиях такого постоянного контроля и неустанной покорности, обычно подкрепляемых угрозой вечного отмщения, млекопитающие не всегда показывают себя с лучшей стороны. Конечно, свобода от религии тоже не всегда порождает идеальных млекопитающих. Взять лишь два ярких примера: Джон Бернал, один из выдающихся и наиболее просвещенных ученых XX века, свято верил в Сталина и потратил значительную часть своей жизни на оправдание преступлений дорогого вождя. Генри Меикен, автор великолепной антирелигиозной сатиры, чересчур любил Ницше и отстаивал разновидность «социал-дарвинизма», включавшую в себя евгенику и презрение к немощным и больным. Еще он питал слабость к Адольфу Гитлеру и написал преступно снисходительный отзыв на «Mein Kampf». Гуманизму есть в чем раскаиваться. Но в том-то и дело, что он может раскаяться в своих преступлениях и преодолеть их, следуя собственным правилам. Ему нет нужды сотрясать основы никакого окаменевшего мировоззрения. Тоталитарная система, какую бы внешнюю форму она ни приняла, всегда подразумевает фундаментализм и веру.
В своем непревзойденном анализе тоталитаризма Ханна Арендт отвела особое место антисемитизму не из любви к собственному племени. Представление о том, что группу людей можно приговорить – по национальному или религиозному признаку – на веки вечные без права на апелляцию было (и остается) тоталитарным по своей сути. Неслучайно Гитлер начинал с распространения этого бредового предрассудка, а Сталин в конце своей жизни стал одновременно и его сторонником, и жертвой. Однако сотни лет до них угаснуть этому вирусу не давала религия. Святой Августин откровенно смаковал сказки о Вечном Жиде и об изгнании всего еврейского народа, считая их доказательством божественной справедливости. Есть здесь и доля вины самой еврейской ортодоксии. Претендуя на «избранность» и эксклюзивный договор с Всевышним, они навлекали на себя ненависть и подозрения, а также проповедовали разновидность расизма. Впрочем, адепты тоталитаризма более всего ненавидели светских евреев, что снимает вопрос о «вине жертвы». Вплоть до XX века устав иезуитов требовал принимать в орден только тех, кто мог доказать отсутствие «еврейской крови» у нескольких поколений своих предков. Ватикан учил, что на всех евреях лежит наследственная вина в богоубийстве. Французская церковь науськивала толпу на Дрейфуса и «интеллектуалов». Ислам так и не простил «евреев» за то, что они не признали в Мухаммеде посланника небес. Религия несет ответственность за то, что ее священные книги из поколения в поколение раздували одну из самых примитивных иллюзий человечества: племенные, династические и расовые различия.
Связь между религией, расизмом и тоталитаризмом обнаруживает и другая гнуснейшая диктатура XX века, а именно подлый режим апартеида в Южной Африке. Он был не просто идеологическим подспорьем говорящего по-голландски племени в эксплуатации людей с другим оттенком кожи – он был воплощенной разновидностью кальвинизма. Голландская реформатская церковь учила, что Библия запрещает смешение белых и черных, не говоря уже об их равноправном сосуществовании. Расизм тоталитарен по своей природе: он ставит на жертву вечное клеймо и лишает ее права даже на малую толику собственного достоинства или частной жизни; он лишает ее даже элементарного права заниматься любовью, создавать семью и заводить детей с любимым человеком из «неправильного» племени; он аннулирует любовь законом… Такой была жизнь миллионов людей на «христианском Западе» уже в наши дни. Правившая в ЮАР Национальная партия, также зараженная антисемитизмом и стоявшая на стороне нацистов во время Второй мировой войны, использовала бредни церковников, чтобы оправдать собственный миф о бурском «исходе», дававший им исключительные права на «земле обетованной». В итоге африканерская пермутация сионизма породила отсталое деспотическое государство, в котором все остальные народности были лишены всяких прав, а выживанию самих африканеров угрожали коррупция, хаос и жестокость. Тогда склеротичная церковная верхушка получила божественное откровение, которое сделало возможной постепенную ликвидацию апартеида. Но это не позволяет простить то зло, что творила религия, пока была уверена в собственной мощи. Спасение южноафриканского общества от варварства и коллапса – заслуга многих светских христиан и евреев, а также многих бойцов-атеистов и агностиков из Африканского национального конгресса.
Минувшее столетие подарило нам и другие импровизации на старую тему диктатуры, озабоченной не только вопросами светского или будничного характера. Примеров множество: от в меру возмутительных и оскорбительных (Греческая православная церковь приветствовала темные очки и стальные шлемы военной хунты 1967 года лозунгом «Греция для греков-христиан») до поработивших все и вся Красных кхмеров Камбоджи, которые вели свою родословную от доисторических храмов и легенд. (Упоминавшийся выше король Сианук попеременно дружил и соперничал с Красными кхмерами и укрывался от них в комфортабельном изгнании под крылом китайских сталинистов. Он тоже умел по необходимости играть божественного монарха.) Иранский шах называл себя «тенью божьей», а также «светочем арийцев». В перерывах между враньем он подавлял светскую оппозицию и старательно выставлял себя хранителем шиитских святынь. На смену его мании величия пришла родственная ей хомейнистская ересь «велаят-э-факих», по которой муллы имеют тотальный контроль над обществом. (Сами муллы утверждают, что никто не может отменить святые слова их покойного вождя.) На самом краю спектра находится первобытное пуританство талибов, которые непрерывно гадали, что бы еще запретить (и запрещали все – от музыки до бумаги из макулатуры, поскольку та могла содержать клочок выброшенного Корана) и как бы еще наказать грешников (гомосексуалистов закапывали заживо). Альтернатива этому кошмару – не химера светской диктатуры, а борьба за светский плюрализм и за право не верить и не принуждаться к вере. Сегодня эта борьба стала неотложным и неизбежным долгом каждого. Сегодня эта борьба – вопрос жизни и смерти.
Глава восемнадцатая Сопротивление разума
Потому в стране нашей я один из немногих людей, кто не утратил религиозной веры, но никогда ее и не имел… Такая особенность моего раннего воспитания пусть и совершенно случайно, но все же привела к одному прискорбному последствию, достойному внимания. Взгляды, противные взглядам всего мира, достались мне от отца с наставлением благоразумно прятать их от мира. Столь ранний урок в сокрытии собственных мыслей сопровождался некоторым моральным ущербом.
Джон Стюарт Милль. Автобиография
Le silence eternel de ces espaces infinis m'effraie[22].
Блез Паскаль. Мысли
Бывает, псалмы вводят в заблуждение. К примеру, знаменитое начало сто двадцатого псалма («Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя») в английском переводе утверждение, хотя в оригинале имеет форму вопроса: откуда придет помощь? (Сомненья прочь: дежурный ответ гласит, что иммунитет от всякого зла и страдания дает вера в бога.) Далее, автор псалмов, кто бы он ни был, явно остался так доволен слогом и звучанием тринадцатого псалма, что почти буквально воспроизвел его в пятьдесят втором. Обе версии начинаются с идентичного утверждения:
«Сказал безумец в сердце своем: „нет Бога“».
Этому бессодержательному замечанию почему-то приписывают такой вес, что оно веками кочует из одной религиозной апологии в другую. На самом деле из него можно сделать только один осмысленный вывод: неверие – причем не просто ересь или отступничество, но именно неверие, – было известно уже в ту отдаленную эпоху. Учитывая, как свирепо и безраздельно властвовала тогда религия, пожалуй, правда, что только безумец не оставил бы свое неверие при себе – а если бы оставил, то не совсем ясно, каким образом автор псалмов узнал бы о его существовании. (Советских диссидентов сажали в психиатрические больницы за «бред реформаторства». Власти вполне резонно полагали, что всякий ненормальный, ратующий за реформы, совершенно утратил инстинкт самосохранения.)
Наш вид никогда не будет знать недостатка в глупцах, но осмелюсь предположить, что число легковерных идиотов, веривших в бога, как минимум не уступает числу простаков и олухов, думавших наоборот. Было бы нескромно утверждать, что среди атеистов интеллект и любопытство встречаются чаще, но факты таковы: всегда находились люди, замечавшие и невероятность бога, и вероятность его человеческого происхождения, и зло, творимое от его имени, и возможность менее губительных верований и объяснений. Мы никогда не узнаем этих мужчин и женщин поименно, потому что во всех краях и во все времена их голоса беспощадно подавлялись. По той же причине мы никогда не узнаем, сколько внешне набожных людей втайне не верили в бога. Еще в XVIII и XIX столетиях, в относительно свободном обществе Великобритании и США такие состоятельные и респектабельные скептики, как Джеймс Мшить и Бенджамин Франклин, не решались говорить о своих взглядах открыто. А потому, читая о великолепии «христианской» живописи и архитектуры или об «исламской» астрономии и медицине, следует помнить, что речь на самом деле идет о достижениях цивилизации и культуры (отчасти предвосхищенных ацтеками и китайцами), которые имеют столько же общего с «верой», сколько более ранние достижения имели с империализмом и человеческими жертвоприношениями. За редкими исключениями, нам не дано знать, сколько архитекторов, художников и ученых берегли свои сокровенные мысли от пристального взгляда правоверных. Галилей, быть может, и дальше спокойно смотрел бы в свой телескоп, если бы опрометчиво не признался, что его наблюдения имеют космологическое значение.
Сомнение, скепсис и откровенное неверие в своей основе всегда имели ту же форму, что и сегодня. Кто-нибудь наблюдательный всегда замечал отсутствие или ненужность перводвигателя в естественном порядке вещей. Кто-нибудь проницательный всегда подмечал, что религия отражает человеческие упования и человеческий образ мыслей. Никогда не было так уж трудно понять, что религия плодит ненависть и конфликты, и что опирается она на невежество и суеверия. Сатирики и поэты, философы и ученые отмечали: если бы у треугольников были боги, эти боги имели бы три стороны, так же как боги фракийцев имели светлые волосы и голубые глаза.
Историю столкновений наших мыслительных способностей с организованной религией, пожалуй, можно вести (хотя во многих умах такие столкновения, вероятно, имели место и раньше) от суда над Сократом в 399 году до н. э. В данном случае мне совершенно не важно, что мы не знаем наверняка, существовал ли Сократ на самом деле. Его биография и его слова дошли до нас из вторых рук, хотя и не в такой же степени, как книги еврейской и христианской Библии или исламские хадисы. Философия, впрочем, не занимается «откровениями», и потому не нуждается в демонстрациях «подлинности». Кое-какие правдоподобные сведения о жизни Сократа (стойкий солдат, внешне чем-то напоминающий Швейка; сварливая жена; каталепсия) у нас есть, а большего и не требуется. Если верить Платону, возможному очевидцу описываемых событий, когда Афины попали под власть тирании и паранойи, Сократа обвинили в безбожии. Он знал, что дни его сочтены. Более того, благородные слова «Апологии» ясно свидетельствуют, что Сократ, в отличие от более позднего героя перед лицом инквизиции, не отрекался от своих взглядов в надежде спастись. Хотя он и не был атеистом, неблагонадежным его сочли совершенно резонно: он отстаивал свободу мысли и интеллектуального поиска, а также отвергал любые догмы. Он говорил, что «знает» лишь одно: как велико его невежество. (Я и теперь считаю это определением образованного человека.) Согласно Платону, этот великий афинянин безропотно подчинился городскому обычаю. На суде он показал, что стал философом по велению Дельфийского оракула. На смертном одре, приговоренный к чаше цикуты, он говорил о возможной жизни после смерти, в которой те, кто сбросил ярмо этого мира при помощи мыслительных упражнений, быть может, продолжат жить в виде чистого разума. Но даже в тот миг он, как всегда, не преминул добавить, что все, возможно, совсем не так. Вопрос, как всегда, заслуживал обсуждения. Философия начинается там, где кончается религия, так же как химия начинается, когда выдыхается алхимия, так же как на смену астрологии приходит астрономия.
У Сократа можно поучиться двум чрезвычайно важным вещам. Во-первых, совесть у нас врожденная. Во-вторых, верующих догматиков легко переспорить и выставить на посмешище – достаточно притвориться, что принимаешь их проповеди за чистую монету.
Сократ полагал, что у него есть демон, он же оракул, он же внутренний поводырь, к мнению которого стоит прислушиваться. Такое ощущение в той или иной степени есть у любого психически здорового человека. Адам Смит говорил о неотлучном, неслышимом собеседнике, готовом поправить и дать критический совет. Зигмунд Фрейд писал, что голос разума тих, но очень настойчив. Клайв Льюис поспешил сделать вывод, что наличие совести свидетельствует о божьей искре. Современная речь – довольно метко – называет совестью то, что заставляет нас хорошо себя вести, даже когда никто не видит. Что бы ни происходило, Сократ напрочь отказывался говорить то, в чем сомневалась его совесть. Иногда, заподозрив себя в казуистике или потворстве толпе, он умолкал на полуслове. Своим же судьям он сказал, что во время последнего слова «оракул» ни разу не велел ему остановиться. Те, кто считает существование совести доказательством божественного замысла, выдвигают аргумент, который просто нельзя опровергнуть, потому что нет фактов ни за, ни против него. Однако случай Сократа показывает, что истинно совестливым людям нередко приходится выбирать между совестью и религией.
Сократу грозила казнь, но даже в случае обвинительного приговора он мог избрать менее жестокое наказание. Вместо этого он сказал, тоном почти оскорбительным, что готов уплатить смехотворный штраф. Не оставив разгневанным судьям иного выбора, кроме высшей меры, он далее объяснил, почему гибель по их приказу ничего для него не значит. В смерти, сказал он, нет ужаса: в ней либо вечный покой, либо шанс на бессмертие, а то и на встречу с Орфеем, Гомером и другими великими греками прошлого. В таком счастливом случае, сухо заметил он, можно с радостью умереть и не один раз. И нам уже не важно, что нет больше Дельфийского оракула, и что Орфей и Гомер – фигуры вымышленные. Суть в том, что Сократ высмеивал своих обвинителей на их территории. Он, в сущности, говорил: я не знаю правды о смерти и богах, но готов поклясться чем угодно, что и вы ее не знаете.
О том, как Сократ и его вкрадчивые, но неумолимые вопросы действовали на религию, можно судить по пьесе, написанной и поставленной при его жизни. В «Облаках» Аристофана действует философ по имени Сократ, возглавляющий школу скептиков. Один местный крестьянин осыпает его полным набором глупых вопросов, что любят задавать правоверные. Если нет Зевса, начинает он, кто ж тогда насылает дождь и орошает посевы? Сократ предлагает крестьянину разок воспользоваться головой: если бы дождь насылал Зевс, он мог бы лить и прямо из безоблачного неба, не так ли?
Раз этого не происходит, разумней заключить, что причина дождя в облаках. Ладно, говорит крестьянин, но кто же тогда присылает облака? Уж это-то наверняка Зевс. Отнюдь, отвечает Сократ и рассказывает про ветер и тепло. Откуда же, не унимается старый пейзанин, в таком случае берутся молнии, карающие лжецов и других злодеев? Молнии, мягко объясняют ему, не очень-то различают праведных и неправедных. Не раз видели, что они бьют даже в храм самого Зевса Олимпийского. Последний довод убеждает крестьянина, хотя в дальнейшем он раскаивается в своем богохульстве и сжигает школу скептиков вместе с Сократом. Многих вольнодумцев постигла такая же участь; многим лишь чудом удалось ее избежать. Все ключевые схватки из-за права на свободу мысли, свободу слова и свободу научных исследований начинались с попыток религии задушить иронию и любознательность узколобостью и буквализмом.
В сущности, спор с верой начинается и кончается Сократом, и каждый, при желании, волен встать на сторону городских обвинителей, защитивших афинскую молодежь от его вредных рассуждений. Однако нельзя сказать, что суеверию он противопоставил науку. Один из обвинителей утверждал, что Сократ называл Солнце булыжником, а Луну – куском Земли (второе было бы чистой правдой), но тот отклонил обвинение, заявив, что это проблема Анаксагора. И действительно, этого ионийского философа ранее преследовали за то, что он считал Солнце раскаленным камнем, а Луну – куском земли. Но Анаксагор уступал в прозорливости Левкиппу и Демокриту, полагавшим, что все состоит из атомов в непрерывном движении. (Вполне вероятно, что и Левкиппа на самом деле не было, и это тоже ничего не меняет.) Важнейшая черта блестящей «атомистической» школы в том, что вопрос о первопричине вещей она считала лишним. Вряд ли какой ум в то время мог зайти дальше.
Таким образом, проблема «богов» оставалась нерешенной. Эпикур, перенявший атомистическое учение Демокрита, не мог вполне разувериться в «их» существовании, но и не видел оснований верить, что боги играют какую-либо роль в людских делах. Какое «им» дело до повседневной человеческой возни, не говоря уже о человеческой политике? Они избегают ненужных страданий, и людям следует поступать так же. Вот почему не стоит бояться смерти, а гадание по внутренностям животных и прочие потуги узнать волю богов – абсурдная трата времени.
В некоторых отношениях самый обаятельный основатель антирелигии – поэт Лукреций, страстный поклонник трудов Эпикура, живший в I веке до н. э. В ответ на возрождение старинных культов при императоре Августе он написал остроумную, блестящую поэму «De Rerum Natura», или «О природе вещей». В Средние века ее едва не уничтожили христианские фанатики; сохранилась лишь одна рукописная копия. Лишь по счастливой случайности нам известно, что во времена Цицерона (он первым опубликовал поэму Лукреция) и Юлия Цезаря кто-то спас от забвения атомистическую теорию. Предвосхищая Дэвида Юма, Лукреций писал, что перспектива грядущего уничтожения ничуть не страшней небытия, из которого мы пришли. Предвосхищая Фрейда, он высмеивал тех, кто заранее устраивает свои похороны и гробницы – в тщеславной и пустой надежде хоть как-то поприсутствовать при собственном погребении. Как и Аристофан, он считал, что объяснение погоды в самой погоде, а все, что глупые, эгоистичные людишки списывают на божественное провидение и адресатом чего себя мнят, природа делает «без участья богов»:
Кто бы размеренно вел небеса и огнями эфира
Был в состояньи везде согревать плодоносные земли
Иль одновременно быть повсюду во всякое время,
Чтобы и тучами тьму наводить, и чтоб ясное небо
Грома ударами бить, и чтоб молньи метать, и свои же
Храмы порой разносить, и, в пустынях сокрывшись, оттуда
Стрелы свирепо пускать, и, минуя нередко виновных,
Часто людей поражать, не достойных того и невинных?
Пер. с лат. Ф. Петровского.
Много сотен лет атомизм свирепо преследовался по всей христианской Европе на резонном основании, что объяснял природу гораздо лучше, чем религия. Но, подобно нервущейся мысленной нити, труд Лукреция продолжал жить в некоторых ученых умах. Исаак Ньютон, разумеется, был верующим (не только в христианство, но и в целый букет псевдонаук), но включил девяносто строк «De Rerum Natura» в первые черновики своих «Начал». «Пробирщик» Галилея, опубликованный в 1623 году, хотя прямо и не ссылается на Эпикура, до такой степени полагается на атомистическую теорию, что и поклонники, и критики прозвали его «эпикурейской книгой».
Учитывая террор против науки в первые столетия после воцарения христианства (Августин полагал, что языческие боги существуют на самом деле, но являются демонами, а Земле меньше шести тысяч лет), когда благоразумные люди на словах всегда платили дань религии, неудивительно, что возрождавшаяся философия нередко говорила обманчиво набожным языком. Последователи различных философских школ, дозволявшихся в Андалузии во времена ее недолгого расцвета, создали синтез учений Аристотеля, иудаизма, христианства и ислама. Им разрешалось обсуждать двоякость истины, а также сравнительный вес разума и откровения. Идею «двойственной истины» отстаивали последователи Аверроэса; ее же, по понятным причинам, строго осуждала церковь. Фрэнсис Бэкон, писавший во время правления королевы Елизаветы, говаривал (возможно, под влиянием Тертуллиана, утверждавшего, что от абсурда его вера только крепнет), что вера всего сильней, когда предмет ее наименее податлив разуму. Живший несколькими десятилетиями позже Пьер Бейль любил привести все возможные доводы разума против какого-либо верования, а под конец заключить: «тем более велик триумф выстоявшей веры». У нас есть основания полагать, что делал это он не только для того, чтобы избежать наказания. Не за горами было время, когда ирония сама станет наказывать и смущать фанатиков и буквалистов.
Но фанатики и буквалисты не могли уступить без арьергардных боев и масштабного возмездия. В течение недолгого, но славного времени в XVII столетии стойкая маленькая Голландия давала приют многим мыслителям, среди которых был и Бейль (переехавший туда в целях безопасности), и Рене Декарт (переехавший по той же причине). Именно в Голландии, за год до суда инквизиции над Галилеем, родился великий философ Барух Спиноза, отпрыск испанских и португальских евреев, которые, в свою очередь, эмигрировали в Голландию, спасаясь от гонений. 27 июля 1656 года старейшины амстердамской синагоги издали следующий «херем», то есть проклятие, или фетву, касательно трудов Спинозы:
По приговору ангелов и святых мы отлучаем, изгоняем, проклинаем и предаем анафеме Баруха де Эспинозу с согласия старейшин и сего святого собрания, в присутствии Священного Писания, силой 613 законов, в нем записанных, анафемой, какой Иисус Навин проклял Иерихон, проклятьем, какое наложил на детей Елисей, и всеми проклятьями, записанными в законе. Да будет он проклят днем и да будет он проклят ночью. Да будет он проклят, когда спит, да будет проклят, когда бодрствует, да будет проклят, когда выходит из дома и когда входит в дом. Господь да не помилует его, гнев и ярость Господа да воспылают отныне против сего человека и да наложат на него все проклятия, записанные в книге закона. Господь да не оставит под солнцем его имени и да изгонит его на погибель изо всех колен Израиля всеми проклятиями небес, что записаны в книге закона.
Многократное проклятие кончалось приказом всем евреям избегать любого контакта со Спинозой и под страхом наказания воздерживаться от чтения «любого труда, им сочиненного или написанного». (Кстати, под «проклятьем, какое наложил на детей Елисей», имеется в виду весьма нравоучительный библейский эпизод, в котором Елисей разозлился на детей, подтрунивавших над его лысиной, и попросил бога прислать медведиц, чтобы те порвали детей в клочья. Медведицы, сообщает Библия, не заставили себя ждать. Может, все-таки не зря Томас Пейн говорил, что не может верить религии, сеющей ужас в душе ребенка?)
Ватикан и кальвинистские власти Голландии горячо одобрили истеричную иудейскую анафему и принялись общими усилиями искоренять труды Спинозы по всей Европе. Разве он не сомневался в бессмертии души? Разве не призывал к отделению церкви от государства? Ату его! Это теперь презренного еретика считают автором самой оригинальной работы в истории философии о дихотомии души и тела, а его размышления о человеческой жизни принесли думающим людям больше истинного утешения, чем любая религия. До сих пор спорят, был ли Спиноза атеистом, и кажется странным, что нам приходится спорить о том, можно ли назвать атеизмом пантеизм. В терминологии пантеизма бог фигурирует, но в спинозовском определении бога, явленного во всей целостности природы, почти не остается места богу религии. Если всепроникающее, предвечное божество есть часть собственного творения, откуда взяться богу, который вмешивается в дела людей, – не говоря уже о боге, который ввязывается в кровавые деревенские стычки еврейских и арабских племен? Бог Спинозы не мог ни написать, ни вдохновить, ни завещать избранной секте или племени никаких текстов. (Вспоминается вопрос, который услышали первые христианские миссионеры, добравшиеся до Китая: если бог явил себя людям, почему ему понадобилось столько веков, чтобы известить китайцев? «Ищите знания даже в Китае», – говорил пророк Мухаммед, невольно сознаваясь, что величайшая на тот момент цивилизация находится на самой дальней периферии его сознания.) Дело Демокрита и Эпикура продолжили Ньютон и Галилей; эстафету Спинозы подхватил Эйнштейн. На вопрос некоего раввина он недвусмысленно ответил, что верит лишь в «бога Спинозы», а не в божка, «которого занимает судьба и поступки людей».
Спиноза сменил свое еврейское имя на Бенедикта, на двадцать лет пережил амстердамскую анафему и умер смертью настоящего стоика, до самого конца не оставляя спокойных, разумных бесед. Он умер от стеклянной пыли в легких. Всю свою жизнь он точил и полировал линзы для телескопов и медицины: прекрасное научное занятие для того, кто учил людей видеть острей и дальше. «Все наши нынешние философы, – писал Генрих Гейне, – возможно, о том часто и не догадываясь, смотрят сквозь очки, ошлифованные Барухом Спинозой». Через сто лет поэмы Гейне будут бросать в костер безмозглые нацистские громилы, считая, что даже ассимилированный еврей не может быть истинным немцем. Пугливые, отсталые евреи, которые подвергли остракизму Спинозу, выбросили жемчужину, стоившую всего их племени. Тело их отважнейшего сына было украдено и, можно не сомневаться, подвергнуто и другим ритуалам осквернения.








