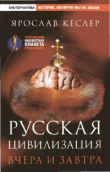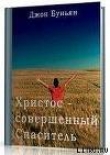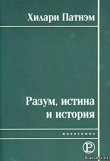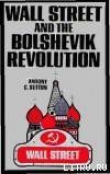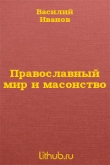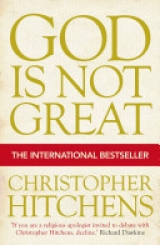
Текст книги "Бог - не любовь: как религия все отравляет"
Автор книги: Кристофер Эрик Хитченс
Жанры:
Прочая религиозная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
«Этот вид изобрел линзу заново, несмотря на то, что она у него уже была. Перед нами убедительное свидетельство того, что в эволюции линз нет ничего невероятного».
Разумеется, божественный демиург скорее продублировал бы имеющееся оптическое устройство, не оставив нам повода ломать голову. Или, как далее пишет Дарвин в том же параграфе:
Но когда в первый раз была высказана мысль, что Солнце стоит, а Земля вертится вокруг него, здравый человеческий смысл тоже объявил ее ложной; однако каждый философ знает, что старое изречение Vox populi – vox Dei (глас народа – глас Божий) не может пользоваться доверием в науке. Разум мне говорит: если можно показать существование многочисленных градаций от простого и несовершенного глаза к глазу сложному и совершенному, причем каждая ступень полезна для ее обладателя, а это не подлежит сомнению; если, далее, глаз когда-либо варьировал и вариации наследовались, а это также несомненно; если, наконец, подобные вариации могли оказаться полезными животному при переменах в условиях его жизни – в таком случае затруднение, возникающее при мысли об образовании сложного и совершенного глаза путем естественного отбора, хотя и непреодолимое для нашего воображения, не может быть признано опровергающим всю теорию[6].
Слова Дарвина о неподвижном Солнце и о «совершенстве» глаза могут вызвать у нас легкую улыбку, но лишь потому, что нам посчастливилось знать больше, чем было известно ему. Но и нам стоит отметить и взять на заметку, как правильно он использует здравый смысл в отношении того, что вызывает изумление.
Настоящее «чудо» в том, что, несмотря на генетическое родство с бактериями, положившими начало жизни на этой планете, мы сумели зайти так далеко в своей эволюции. У некоторых животных глаза либо не появились вовсе, либо остались чрезвычайно слабыми. В этом скрыт интригующий парадокс: у эволюции нет глаз, но она может их создавать. У гениального Фрэнсиса Крика, одного из первооткрывателей двойной спирали, был коллега по имени Лесли Орджел, сформулировавший этот парадокс более изящно, чем сумел бы я. «Эволюция, – сказал он, – умнее вас». Но этот комплимент «разумности» естественного отбора ни в коем случае не является уступкой нелепой идее «разумного замысла». Некоторые плоды эволюции – и сюда мы не можем не отнести себя – действительно впечатляют. («Что за мастерское создание – человек!»[7] – восклицает Гамлет и тут же в некотором роде опровергает себя, называя человека «квинтэссенцией праха». Оба высказывания при этом замечательно точны.) Но процесс, приносящий эти плоды, медлителен, бесконечно труден и породил «цепочку» ДНК, в которой полно бесполезного генетического хлама и слишком много общего с гораздо более примитивными организмами. Печать низменного происхождения легко отыскать в нашем аппендиксе. Ее можно найти в ненужном волосяном покрове, которым мы обрастаем (и который затем теряем) после пяти месяцев в материнской утробе. Ее можно обнаружить в наших недолговечных коленных суставах, в наших рудиментарных хвостиках и в прихотливом устройстве нашего мочеполового хозяйства. Почему все вечно твердят, что «Бог в деталях»? В наших деталях его нет точно – если, конечно, дремучие креационисты из его фан-клуба не желают воздать должное его неуклюжести, неудачам и некомпетентности.
Те, кто принял – не без борьбы – неопровержимые доказательства эволюции, теперь пытаются наградить себя медалью за признание собственного поражения. Теперь они твердят, что грандиозность и изобретательность эволюции говорят в пользу направляющего разумного начала. Тем самым они выставляют своего мнимого бога безруким дурачком, халтурщиком, работающим на авось, бракоделом, потратившим миллионы лет на то, чтобы смастерить несколько действующих моделей, наворотив при этом горы негодных отбросов. Неужели они и впрямь настолько не уважают свое божество? Они бездумно повторяют, что эволюционная биология – «всего лишь теория», обнаруживая полное непонимание того, что такое «теория». «Теория» – это, если позволите, продукт эволюции мысли, объясняющий известные факты. Если теория выдерживает появление доселе не известных фактов, она считается удачной. Если же теория позволяет делать точные предсказания о явлениях или событиях, которые еще не были открыты или еще не произошли, она становится общепринятой. На это может уйти время, и здесь тоже не обойтись без одной из версий процедуры Оккама. Звездочеты египетских фараонов умели предсказывать затмения даже несмотря на то, что считали Землю плоской, – просто им требовалось для этого очень много лишнего труда. Точное предсказание Эйнштейна о том, насколько гравитация преломляет звездный свет (оно подтвердилось в 1919 году во время солнечного затмения на западном побережье Африки), было намного изящней и стало подтверждением его «теории» относительности.
Среди тех, кто изучает эволюцию, немало разногласий о том, как именно протекал и как начался этот сложный процесс. Фрэнсис Крик даже не считал зазорным гадать, была ли жизнь на Земле «посеяна» бактериями с проходящей кометы. Однако если этим разногласиям суждено разрешиться, они будут разрешены научными и экспериментальными методами, доказавшими свою эффективность. Что же до креационизма или «разумного замысла» (интеллекта его приверженцев хватило лишь на это шулерское переименование), то его нельзя назвать даже теорией. Вся обильно финансируемая пропаганда креационистов ни разу даже не попыталась продемонстрировать преимущество «замысла» над эволюцией в объяснении хотя бы одного-единственного кусочка природы. Вместо этого она скатывается в тавтологию и ребячество. Одна «анкета», распространяемая креационистами, предлагает ответить «да» или «нет» на следующие вопросы:
Знаете ли вы дом, у которого не было строителя?
Знаете ли вы картину, у которой не было художника?
Знаете ли вы машину, у которой не было конструктора?
Если вы ответили «ДА» хотя бы на один из вопросов, приведите подробности.
Ответ на все три вопроса нам прекрасно известен: каждую из этих вещей долгим и кропотливым трудом (работая, как и эволюция, методом проб и ошибок) создал человек. К их созданию приложило руку немало людей, и их «эволюция» продолжается до сих пор. Невежественные насмешки креационистов, сравнивающих эволюцию с вихрем, который проносится по свалке запчастей и собирает из них авиалайнер, не стоят выеденного яйца, и вот почему. Начнем с того, что нет никаких «запчастей», валяющихся вокруг в ожидании сборки. Далее, процесс приобретения и утилизации «запчастей» (прежде всего, крыльев) можно сравнить с чем угодно, но только не с вихрем.
Его скорость под стать леднику, а не буре. Более того, реактивные самолеты не напичканы бездействующими, лишними «запчастями», тупо унаследованными у менее удачных летательных аппаратов. Почему мы так легко согласились именовать эту лопнувшую псевдотеорию новой, хитро затемняющей суть кличкой – «разумный замысел»? В ней нет ровным счетом ничего разумного. Как была ахинеей, так и осталась.
Самолеты «эволюционируют» – усилиями человека. Эволюционируем и мы, пускай и совсем иначе. В начале 2006 года в журнале Science были опубликованы итоги масштабного исследования, проведенного Орегонским университетом. При помощи реконструкции древних генов вымерших животных ученым удалось показать смехотворность псевдотеории «неуменьшаемой сложности». Они установили, что белковые молекулы медленно, методом проб и ошибок, используя и видоизменяя уже существующие детали, научились включать и выключать различные гормоны. Эта генетическая эпопея была запущена вслепую 450 миллионов лет назад, еще до выхода жизни на сушу и до появления костей. Основателям религий и присниться не могло все то, что мы знаем теперь о собственной природе, а если бы приснилось, они прикусили бы свои самоуверенные языки. Как всегда, стоит отбросить лишние допущения, и гадание о том, кто создал нас созидателями, становится столь же бесплодным и бессмысленным, как и вопрос о создателе нашего создателя. Аристотель, чьи размышления о перводвигателе и первопричине послужили началом этого спора, умозаключил, что логика требует существования сорока семи или сорока пяти богов. Монотеистам есть за что благодарить лезвие Оккама. Начав с легиона перводвигателей, они доторговались до одного. Они все ближе и ближе к истинному, круглому числу.
Мы должны смириться с тем, что эволюция не только умнее нас, но также бесконечно более равнодушна, жестока и капризна. Исследования ископаемых животных и данные молекулярной биологии говорят о том, что около 98 % всех видов, когда-либо живших на Земле, прекратили существование. В истории за периодами расцвета жизни всегда следовало великое «вымирание». Чтобы уцелеть на остывающей планете, жизнь сначала должна была появиться в фантастическом изобилии. Мы наблюдаем то же самое в миниатюре и в наших маленьких человеческих жизнях: мужчины производят неизмеримо больше семенной жидкости, чем необходимо для создания семьи, и мучаются – не без некоторого удовольствия – острой потребностью куда-нибудь ее пристроить или хоть как-то от нее избавиться. (Религия бесцельно усугубила муки, объявив грехом различные несложные способы облегчения этого зуда, который, надо думать, у нас от «творца».) Буйное, бьющее через край обилие насекомых, воробьев, лосося или трески есть титаническая растрата жизни, обеспечивающая, да и то не всегда, выживание достаточного количества особей.
Высших животных едва ли можно назвать исключением из этого правила. В силу очевидных причин известные нам религии появились среди известных нам людей. В Азии, Средиземноморье и на Ближнем Востоке непрерывная история человека прослеживается на тысячи лет в прошлое. Однако даже мифы рассказывают о периодах тьмы, чумы и великих бедствий, когда казалось, что против человека ополчилась сама природа. Судя по народной памяти, подтверждаемой последними археологическими данными, формирование Черного и Средиземного морей сопровождалось затоплением огромных пространств, и ужасающие масштабы этих катаклизмов еще долго жили в преданиях Месопотамии и других регионов. Каждый год христианские фундаменталисты снаряжают очередную экспедицию на гору Арарат в нынешней Армении, рассчитывая рано или поздно отыскать обломки Ноева ковчега. Их тщетные усилия ничего бы не доказали, даже увенчавшись успехом. Однако если этим людям случится прочитать реконструкцию того, что случилось на самом деле, им откроется картина гораздо более впечатляющая, чем банальный рассказ о Ноевом потопе: исполинская стена темной воды, с ревом несущаяся по густонаселенной равнине. Такая «Атлантида» уж наверняка запечатлелась бы в памяти доисторического человека ничуть не меньше, чем в нашей.
В то же время у нас нет никаких воспоминаний о судьбе большинства наших собратьев на американском континенте, – ни погребенных в земле, ни кое-как записанных. Когда в XVI столетии католические конкистадоры добрались до Западного полушария, они отметились такой беспорядочной жестокостью и страстью к разрушению, что один из них, Бартоломео де лас Касас, даже предложил официально осудить содеянное, извиниться и признать, что все предприятие было ошибкой. При всем благородстве намерений, его угрызения совести были вызваны представлением о том, что «индейцы» жили в нетронутом Эдеме, а испанцы с португальцами упустили возможность вновь обрести невинность Адама и Евы до грехопадения. Эта идея была высокомерной и пустой фантазией: у ольмеков и других племен были свои боги (как правило, ублажаемые человеческими жертвоприношениями), а также развитая письменность, астрономия, сельское хозяйство и торговля. Они вели исторические хроники и разработали 365-дневный календарь, который был точнее европейских. Одна из доколумбовых цивилизаций, а именно майя, додумалась до прекрасной идеи ноля, на которую я ссылался выше и без которой математические операции крайне затруднительны. Не исключено, что средневековые папы не случайно отвергали эту идею как чуждую и еретическую. Быть может, виной тому было не якобы арабское (на самом деле, древнеиндийское) происхождение ноля. Быть может, ноль просто содержал в себе пугающую возможность.
Нам кое-что известно о цивилизациях Центральной Америки, но до недавнего времени мы даже не догадывались о многолюдных городах и путях сообщения, что некогда покрывали бассейн Амазонки и некоторые районы Анд. Мы только приступаем к серьезному изучению величественных цивилизаций, процветавших в то же время, когда зарождалось почитание Моисея, Авраама, Иисуса, Мухаммеда и Будды, но не принимавших никакого участия в этом религиогенезе и не попавших в бухгалтерские книги новоиспеченных монотеистов. Нет никакого сомнения, что и у тех людей были свои мифы о сотворении мира и свои никчемные божественные откровения. Но их страдания, их торжество, их гибель никогда не фигурировали в «наших» молитвах. Они вымерли в горькой уверенности, что никто не вспомнит, как они жили, да и жили ли вообще. Их «земли обетованные», их пророчества, их сокровенные предания и церемонии для нас все равно что с другой планеты. У человеческой истории нет никакого плана.
Мало кто теперь сомневается, что первых американцев извели не только европейские пришельцы, но также микроорганизмы, о которых даже не подозревали ни они сами, ни их завоеватели. И неважно, были ли то местные микробы или завезенные пришельцами, – конец одинаков. В который раз перед нами как на ладони вся пропасть человеческого невежества, породившая библейскую историю о сотворении мира. Как доказать одним абзацем, что Библию написал не бог, а темные люди? Человеку сказано «властвовать» над всеми тварями земными, птицами и рыбами. Ни динозавры, ни плезиозавры, ни птеродактили не упоминаются, поскольку авторы не знали об их существовании, не говоря уже об их, как нам говорят, особом и единовременном творении. Не упомянуты и сумчатые, поскольку Австралии (следующего после Центральной Америки кандидата на звание «Эдема») еще не было на картах. Что еще более показательно, человеку не сказано властвовать над микробами и бактериями. Никто еще не имел ни малейшего понятия о существовании этих незаменимых, но опасных маленьких тварей. Если бы о них было известно, очень скоро стало бы ясно, что эти формы жизни «властвуют» над нами, и власть их будет безраздельна, пока на пути у медицины стоят священники. Исход битвы между видом homo sapiens и «невидимой армией» микробов, как называл ее Луи Пастер, не решен до сих пор, но открытие ДНК, по крайней мере, позволило нам прочитать генетический код такого смертельного врага, как вирус птичьего гриппа, и выяснить, что у нас общего.
Мы – в какой-то степени разумные животные со слишком большими надпочечниками и слишком маленькими лобными долями. Пожалуй, наиболее сложная задача, стоящая перед нами, – осознать свое истинное значение в порядке вещей. Наше место в космосе настолько ничтожно, что мы, с нашей жалкой порцией мозгового вещества, не в силах даже как следует его себе представить. Ничуть не легче нам дается понимание того, что наше появление на Земле могло быть чистой случайностью. Да, мы осознали свое место на космической шкале, мы научились продлевать свои жизни, лечить свои болезни, уважать и получать выгоду от других племен и животных, ускорять общение при помощи ракет и спутников. Но в понимании того, что наша смерть неизбежна, и что за ней последует гибель нашего вида и тепловая смерть вселенной, мало утешительного. И все же мы находимся в выгодном положении по сравнению с теми, кто умер, не рассказав о своей жизни, и с теми, кто умирает прямо сейчас, не пережив ничего, кроме нескольких минут крика, боли и животного страха.
В 1909 году в Канадских Скалистых горах, на границе Британской Колумбии, произошло событие неимоверной важности: были обнаружены так называемые «сланцы Бёрджесс». Эту естественную формацию, лишенную магических свойств, вполне можно сравнить с машиной времени или дверью в прошлое. Очень далекое прошлое: местные залежи известняка сформировались около 570 миллионов лет назад и запечатлели то, что палеонтологи называют «кембрийским взрывом». Эволюция знавала не только великие вымирания, но и периоды возрождения, когда жизнь внезапно становилась обильной и разнообразной. (Разумный «создатель», пожалуй, мог бы обойтись без хаотичной игры в «густо-пусто».)
Предки большинства современных животных появились в период кембрийского расцвета, однако до 1909 года мы ровным счетом ничего не знали об их первоначальной среде обитания. Нам приходилось довольствоваться преимущественно костями и раковинами, тогда как сланцы Бёрджесс содержат немало окаменелых останков мягких тканей, включая содержимое пищеварительных систем. С точки зрения расшифровки ископаемой жизни эта находка сравнима с Розеттским камнем.
Наш нарциссизм, часто облеченный в форму диаграммы или комикса, обычно изображает эволюцию в виде лестницы или прогрессии. Сначала мы видим рыбу, разевающую рот на берегу, потом ряд согбенных фигур с огромными челюстями и, наконец, перед нами постепенно выпрямляется мужчина в костюме, размахивающий зонтиком и кричащий «Такси!» Даже те, кто видел зубчатую кривую возникновения, уничтожения, повторного возникновения и повторного уничтожения, кто описал грядущую гибель вселенной, склонны думать, что в природе существует неуклонная тенденция к восходящей прогрессии. В этом нет ничего удивительного: неприспособленные твари либо вымрут сами, либо их уничтожат более приспособленные. Но прогресс не отменяет случайности. Осматривая сланцы Бёрджесс, выдающийся палеонтолог Стивен Джей Гулд пришел к чрезвычайно неутешительному выводу. После тщательного изучения окаменелостей и их развития он понял: если бы это дерево посадили заново, если бы этот бульон снова поставили на огонь, вышло бы, скорее всего, совсем не то, что нам «известно».
Стоит отметить, что этот вывод был столь же противен Гулду, как и нам с вами: в молодости он увлекался марксизмом, и понятие «прогресса» был для него реальностью. Но принципиальность ученого не позволила ему отрицать столь очевидные доказательства. Хотя некоторые исследователи эволюции склонны думать, что ее безжалостная черепашья поступь «вела» к разумной жизни в нашем лице, Гулд открещивался от таких представлений. Согласно его выводам, если бы бесчисленные варианты эволюции кембрийского периода можно было записать и, так сказать, «перемотать» обратно, а потом проиграть запись с начала, нет никакой гарантии, что результат был бы таким же. Несколько ветвей на дереве эволюции (аналогия с веточками очень густого куста была бы точней) оказались тупиковыми, но, получив еще один шанс, они могли бы расцвести, а те, что расцвели, вполне могли бы засохнуть и погибнуть. Ни для кого не секрет, что наличие позвоночника – краеугольный камень нашей природы и нашего существования. Первое известное позвоночное (или «хоровое») животное, найденное в сланцах Бёрджесс, – изящное создание длиной в два дюйма по имени pikaia gracilens (этим названием оно обязано вершине по соседству, а также собственной форме и красоте). Поначалу его ошибочно относили к червям (не стоит забывать, как недавно мы приобрели почти все свои знания), но его сегментарное устройство, мускулистость и гибкость спинного стержня выдают в нем нашего предка – необходимого, но не требующего никакого почитания. Миллионы других видов канули в небытие еще до конца кембрийского периода, но этот маленький прототип выжил. Вот что пишет об этом Гулд:
Перемотайте кассету времени обратно до формирования Бёрджесс и проиграйте сначала. Если pikaia на этот раз не выживет, от нас в будущей истории не останется и следа – от всех нас, включая акул, малиновок и орангутангов. При этом сдается мне, что ни один букмекер, ознакомившись с информацией, собранной в Бёрджесс, не посоветовал бы ставить на выживание pikaia.
А если так, то важный элемент ответа на вечный вопрос (в той его части, которой вообще может заниматься наука) – «Почему существуют люди?» – вот в чем: потому что pikaia не вымерла вместе со всеми видами из Бёрджесс. Этот ответ не содержит никаких законов природы; он не описывает никаких предсказуемых эволюционных путей, никаких вероятностных выкладок на основе общих законов анатомии или экологии. Выживание pikaia является «просто историческим фактом». Не думаю, что может быть найден ответ какого-либо «высшего порядка», да и не моту представить себе более захватывающего решения проблемы. Мы отпрыски истории и должны сами проложить свой путь в этой разнообразнейшей, интереснейшей из вообразимых вселенных – во вселенной, равнодушной к нашим страданиям и потому дающей нам максимальную свободу процветать или погибнуть, как нам заблагорассудится.
Стоит добавить: «заблагорассудится» в строго определенных рамках. Так, без лишних эмоций, говорит настоящий ученый и гуманист. Мы и раньше смутно догадывались о чем-то подобном. Теория хаоса приучила нас к мысли, что незапланированное трепыхание бабочки, поднимающее легчайший зефир, может кончиться свирепым тайфуном. Как метко подметил Оги Марч у Сола Беллоу, «стоит затронуть что-то одно, как затрагивается и то, что с этим связано». Книга Гул-да о сланцах Бёрджесс – шок и откровение под одной обложкой – называется «Чудесная жизнь». В ее названии слышно эхо самого любимого в Америке сентиментального кино. В ключевых эпизодах этого занимательного, но все же кошмарного фильма Джимми Стюарт проклинает день своего появления на свет, пока подоспевший ангел не показывает ему, каким был бы мир без него. Так нетребовательной публике преподносится наглядная демонстрация принципа неопределенности Гейзенберга: любая попытка что-либо измерить неуловимо меняет объект измерения. Лишь совсем недавно мы установили, что кит – более близкий родственник коровы, чем лошадь. Без сомнения, нас ждут и другие удивительные открытия. Если наше существование, в нашем нынешнем виде, действительно плод случайных обстоятельств, то мы, по крайней мере, вправе рассчитывать на продолжение эволюции наших слабеньких мозгов, а также на головокружительный прогресс в медицине и продление жизни в результате исследований стволовых клеток и клеток крови из пуповины.
Идя по стопам Дарвина, Питер и Розмари Грант из Принстонского университета на протяжении тридцати лет посещают Галапагосский архипелаг. Там они подолгу живут в экстремальных условиях на крошечном островке Дафне Майор и осуществляют динамическое наблюдение и замеры, отражающие эволюцию вьюрков и их адаптацию к меняющейся среде. Они убедительно показали, что размер и форма клюва вьюрков приспосабливается к засухе и скудному питанию, подстраиваясь под размеры и свойства различных семян и жуков. За три миллиона лет своей истории популяция вьюрков менялась туда и обратно, следуя за жуками и семенами. В ходе тщательных наблюдений супруги Грант увидели, как это происходит. Полученные данные и доказательства они сделали достоянием общественности. Мы все у них в долгу. Им пришлось нелегко, но кто будет жалеть, что они не потратили жизнь на умерщвление собственной плоти в отшельнических пещерах или на священных столпах?
В 2005 году группа ученых Чикагского университета провела важное исследование двух генов (известных как микроцефалии и ASPM), бездействие которых приводит к микроцефалиту. Дети, пораженные этой болезнью, рождаются с недоразвитой корой головного мозга. Вполне вероятно, это отголосок того времени, когда человеческий мозг был гораздо меньше, чем сейчас. Принято считать, что эволюция современного человека завершилась около 50–60 тысяч лет назад (для эволюции это миг), однако эти два гена, судя по всему, претерпели существенные изменения в последние тридцать семь тысяч лет. Иными словами, эволюция нашего мозга, возможно, еще не закончена. В марте 2006 года новые исследования в том же университете показали, что около семисот участков человеческого генома содержат гены, изменившиеся под действием естественного отбора от 5 до 15 тысяч лет назад. Среди них есть гены, отвечающие за наш «вкус и обоняние, пищеварение, строение костей, цвет кожи и работу мозга». (Одна из благих вестей геномики в том, что все «расовые» различия на поверку оказались недавними, поверхностными и обманчивыми.) Можно принять за аксиому, что до публикации моей книги в этой быстро растущей области будет сделано еще несколько открытий, проливающих свет на важнейшие вопросы. Не стоит спешить с заявлениями о неизбежности и благотворности прогресса, но развитие человека продолжается. Оно проявляется в том, как мы вырабатываем иммунитет к определенным болезням, и в том, что нам это не всегда удается. Изучение человеческого генома выявило, что древние обитатели севера Европы одомашнили коров и выработали специальный ген переносимости молока, а более поздние выходцы из Африки (мы все родом из Африки) подвержены серповидной анемии, которая сама по себе вещь малоприятная, но восходит к более ранней мутации, защищавшей от малярии. Мы узнаем еще больше, если нам хватит скромности и терпения понять, из каких материалов природа строит жизнь, и принять свое земное происхождение. Нет никакой необходимости в божественном замысле, не говоря уже о вмешательстве ангелов. Все сходится и без этого допущения.
А потому (пускай мне и не по душе перечить великому человеку) Вольтер нес сущий вздор, когда заявил, что если бы бога не было, его бы стоило выдумать. Проблема как раз в том, что люди выдумали бога. Теперь, проследив ход своей эволюции, в которой жизнь лишь временно опережает вымирание, мы приобрели знания, способные помочь нам распознать и преодолеть невежество. Конечно, религия до сих пор обладает гигантским преимуществом «первенства», и с этим трудно что-либо поделать. Однако, как подчеркивает Сэм Хэррис в «Конце веры», если бы приступ коллективной амнезии в духе Маркеса лишил нас всех знаний, всех норм этики и морали, добытых с таким трудом, и все необходимое пришлось бы восстанавливать с нуля, трудно представить, на каком этапе нам понадобилось вспомнить о]непорочном зачатии Христа или убедить себя в нем.
Верующие с головой на плечах тоже могут вздохнуть с облегчением. Скешсис и научный прогресс освободили их от нелегкой обязанности защищать своего бога в образе несноссного, неуклюжего, помешанного естествоиспытателя с нечесаными космами. Им больше не нужно отвечать на болезненные вопросы о том, кто насылает сифилис и проказу, кто плодит умственно отсталых детей, кто стоял за мучениями Иова. Такие обвинения больше не грозят верующим, ведь то, что перестало быть тайной, можно объяснить без всякого бога. Теперь, когда их вера утратила свое значение и стала личным делом каждого, никто не будет им мешать. Пока они воздерживаются от новых попыток навязать «свою» религию другим, нам нет до нее никакого дела.
Глава седьмая Откровение: кошмар «Ветхого» Завета
Когда религия, вопреки собственным заявлениям, пытается подпереть слепую веру «доказательствами» в общепринятом смысле этого слова, она, среди прочего, ссылается на откровение. В очень особых случаях, утверждает она, бог выходит на связь с произвольно отобранными счастливчиками и якобы поверяет им непреложные законы для последующей их передачи остальным.
Возникают очевидные вопросы. Во-первых, предполагаемое раскрытие божественных тайн происходило несколько раз в разных странах, в разные эпохи и через совершенно не похожих друг на друга пророков и медиумов. В некоторых случаях – прежде всего, в христианстве – одного откровения, судя по всему, мало; его требуется закреплять повторными явлениями вплоть до обещанного последнего пришествия. В других случаях, напротив, проблема в том, что божественные наставления сообщаются только один раз, и получает их ничем не примечательная личность, каждое слово которой затем превращается в закон.
Из того, что все эти откровения, зачастую и без того крайне непоследовательные, по определению не могут быть истинными одновременно, следует, что некоторые из них суть иллюзии и ложь. Другое возможное следствие в том, что одно из них настоящее. Однако это, во-первых, сомнительно, а во-вторых, определить, какое из откровений единственно верное, похоже, можно только при помощи религиозных войн. Дело осложняет очевидная склонность Всевышнего являться исключительно неграмотным, псевдоисторическим персонажам, жившим в ближневосточных пустынях, имеющих долгую историю суеверий и идолопоклонства и нередко «унавоженных» более ранними пророчествами.
Синкретическая природа монотеистических религий и общее происхождение их мифов на практике означают, что, опровергая одну из них, опровергаешь все. Несмотря на зверства и ненависть, с которыми иудаизм, христианство и ислам преследовали друг друга, они видят общие истоки в Пятикнижии Моисея. Коран признает евреев «народом книги», Иисуса Христа – пророком, а его мать – девственницей. (Любопытно, что, в отличие от одной из книг Нового Завета, Коран не обвиняет евреев в убийстве Христа. Правда, причина этого в оригинальном утверждении, что вместо Христа евреи распяли кого-то другого.)
Все три религии ведут свою историю от встречи Моисея с богом, что якобы состоялась на вершине горы Синай. Итогом встречи стали Десять заповедей. Это предание излагается в главах 20–40 второй книги Моисея, известной как «Исход». Глава 20 традиционно привлекает больше всего внимания, поскольку именно в ней приводятся заповеди. Казалось бы, в их пересказе и разоблачении нет особой нужды, но на самом деле оно того стоит.
Во-первых (я использую «авторизованную» Библию короля Якова – один из многочисленных вариантов, старательно переведенных простыми смертными с древнееврейского, греческого или латыни)[8], так называемые заповеди не представляют собой упорядоченный список из десяти наказов и запретов. Первые три заповеди по-разному обыгрывают одно и то же: здесь бог говорит о своем превосходстве и исключительности, запрещает сотворение кумиров и возбраняет упоминание своего имени понапрасну. Эта затянутая распевка сопровождается серьезными предостережениями, включая жуткое обещание наказывать детей за грехи отцов «до третьего и четвертого рода». Тем самым отрицается нравственное и вполне разумное правило, согласно которому дети не несут ответственности за преступления родителей. Четвертая заповедь предписывает святить день субботний и запрещает всем верующим (а также их рабам и прислуге) выполнять в этот день любую работу. Поясняется, что, согласно книге Бытия, бог сотворил мир за шесть дней, а в день седьмой почил (остается только гадать, как он провел восьмой день). Далее предписания становятся более лаконичными. «Почитай отца твоего и мать твою» (не ради них самих, но «чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе»). Лишь после этого следуют четыре знаменитых «не», запрещающие убийство, прелюбодеяние, воровство и лжесвидетельство. Последним идет запрет на алчность: нельзя желать ни «дома ближнего твоего», ни его раба, рабыни, вола, осла, жены и прочего движимого имущества.