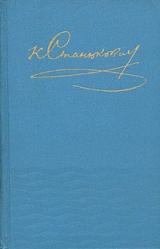
Текст книги "Том 2. Два брата. Василий Иванович"
Автор книги: Константин Станюкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 30 страниц)
XVI
Через несколько дней Иван Андреевич сидел в своем кабинете в теплом, подбитом заячьим мехом, сюртуке, погруженный в чтение, когда в одиннадцатом часу дня в кабинет тихо вошла Марья Степановна, положила на стол привезенные со станции газеты и подала ему письмо.
– От Коли! – произнесла она, радостно улыбаясь.
– Что-то пишет хорошенького! – промолвил Иван Андреевич.
Он стал читать письмо. В чертах лица Ивана Андреевича Марья Степановна заметила такое удивление, что тревожно спросила:
– Что такое?.. Ты, кажется, очень изумился письмом?
– Еще бы!.. Знаешь ли, какую новость сообщает Коля? – проговорил Вязников, передавая письмо. – Никак не догадаешься!.. Коля женится.
– Женится! – испуганно вскрикнула Марья Степановна.
– На Леночке!
– На Леночке!.. – с облегченным сердцем проговорила Марья Степановна, жадно пробегая письмо. – Вот неожиданная новость… Я никак не могла бы подумать.
– Признаться, поразил и меня Коля… И как торопится…
– Ты как же, Иван Андреевич? Доволен? – спрашивала она через несколько времени, когда прошло первое впечатление от неожиданного известия.
– По-моему, рано бы Коле жениться… По его характеру надо бы подождать…
– Оно, пожалуй, и лучше для Коли раньше жениться. Он такой увлекающийся! – заметила, улыбаясь, мать.
– То-то лучше ли? – в раздумье проговорил Иван Андреевич. – И ведь раньше ни слова не сказал, даже не намекнул! – прибавил Иван Андреевич. – А еще друг! А ты ничего не замечала? Уж не летом ли они сблизились друг с другом? И этот неожиданный отказ Лаврентьеву…
– А пожалуй! То-то Леночка тогда так мучилась!
– Мы с тобою, брат, уж стары стали, ничего и не видели! – засмеялся старик, ласково пожимая руку жены. – Что ж? Раненько-то раненько Коле жениться, а впрочем, оба они такие славные…
– И знают давно друг друга… Они будут счастливы!
– Только бы Коле побольше характеру, выдержки. С семьей не то, что одному! – заметил Иван Андреевич. – А мы помочь-то ему, к сожалению, не в состоянии. Детям-то ничего дать не можем! – грустно промолвил старик. – Разве угол в деревне.
– Проживут! – весело сказала Марья Степановна. – Да и у нас еще кое-что найдется, чтобы помочь им устроиться на первое время.
– Еще разве есть брильянты в запасе? – усмехнулся Иван Андреевич.
– Есть еще… продадим! Тысячку-другую наберем.
– Ну, да Леночка – бережливая, умница, она удержит Колю. Он-то в меня… любит мотать деньги! – усмехнулся Вязников. – Вот Вася, так тот в тебя. Все другим готов отдать. Впрочем, Коля пишет, что дела его поправились.
– И как не поправиться. С его умом, да чтобы не прожить без особенных забот! Слава богу! А в случае чего – милости просим в Витино.
Старики весело говорили о Коле и Леночке. Им казалось, что время прошло удивительно скоро. Давно ли Коля и Леночка были детьми, а вот уж, бог даст, и внуков понянчить придется.
– На свадьбу мы, разумеется, поедем? – радостно проговорила Марья Степановна.
– Я бы рад, очень рад! – оживился старик. – Но сама знаешь…
– О деньгах не беспокойся… найдем. Немного же нам и нужно. Кстати, ты рассеешься. Довольно-таки в последнее время неприятностей.
– Как это ты только изворачиваешься, моя милая! Так едем? В самом деле, посмотреть на них. А все я пожурю Колю, что другу-то ни слова не сказал.
– Ну, не жури.
– А уж ты испугалась!
На другой же день утром Марья Степановна поехала в город, и через два дня старики послали Николаю тысячу рублей и писали, что через неделю сами приедут благословить детей. Леночке старики написали горячее письмо, в котором выразили радость, что могут ее назвать своею дочерью.
Хотя Марья Степановна и просила мужа не беспокоиться, говоря, что деньги найдутся, но денежный вопрос очень ее тревожил. Она продала последние свои ценные вещи, за которые ей дали всего тысячу рублей, а надо было достать еще денег на уплату процентов в банк и на поездку в Петербург. То, что было в ее кассе, было послано раньше Коле по его просьбе, и в доме денег не оставалось. Она несколько ночей не спала, придумывая, как бы извернуться и доставить мужу (о себе она, по обыкновению, не думала) удовольствие поездкой в Петербург. Она со страхом замечала, как Иван Андреевич в последнее время хандрил в деревне. История с запиской, расстроившая мужа, расстроила и ее. Она скрывала от Ивана Андреевича свою тревогу, но до нее доходили слухи, распущенные в городе, и она еще более тревожилась и с ужасом думала об этих слухах. Первые дни после возвращения старика из города каждый звук колокольчика приводил ее в трепет…
В течение недели Марья Степановна несколько раз ездила в город. Оставался еще последний клочок леса, и она хотела его продать, но цену давали самую ничтожную. Тогда она обратилась к одному богатому родственнику и наконец достала еще тысячу рублей, рассчитывая уплатить долг продажей леса по более выгодной цене.
Иван Андреевич хотя и догадывался, но не вполне, о тревогах жены. Она предпочитала скрывать свои тревоги, зная, как больно было бы старику. Давно уже она приучила мужа не беспокоиться о делах. Вся тяжесть забот лежала на ней. Она несла это бремя тихо, спокойно и весело, никогда не жалуясь. Иван Андреевич, привыкший смолоду мало думать о средствах, и не подозревал, сколько нужно было Марье Степановне уменья, труда и забот, чтобы жить не нуждаясь. А дела в последнее время шли все хуже и хуже. Капитал женин был прожит, имение приносило самый незначительный доход, а Иван Андреевич по-прежнему добродушно ворчал, если за обедом, случалось, не было пирожного!
Когда наконец Марья Степановна устроила все дела, Вязниковы поехали к Ивану Алексеевичу. Старый исправник был в восторге от свадьбы. Марфа Алексеевна тоже радовалась. Они показали Вязниковым письмо Леночки, а Марфа Алексеевна значительно заметила:
– Уж я давно замечала, давно.
– Много ты замечала! – добродушно смеялся исправник.
Однако ехать в Петербург на свадьбу он не мог.
– Ах, Иван Андреевич, если бы вы только знали, что за каторга нам, – вздыхал старик.
– Знаю, знаю, Иван Алексеевич! Да вы, кажется, недолго… скоро в отставку?
– То-то, скоро! Мы ведь не можем, как вы! Славное, говорят, вы ему асаже задали! – смеялся исправник. – Я слышал. На днях его вызвали в Петербург. А вас не вызывали, Иван Андреевич?
– Нет.
– Предводитель дворянства тоже вызван…
– Вызван?
– Как же! А вы не изволили слышать?
– Я ведь не был с тех пор в городе.
– Я была в городе и тоже ничего не слыхала! – заметила Вязникова.
– Вчера только телеграмма получена.
Когда Вязниковы возвращались домой, Марья Степановна, стараясь подавить тревогу, спросила:
– А ты… тебе ничего не может быть за эту записку?
– Что ж они могут со мной сделать? – усмехнулся старик.
– Мало ли что.
– Ну, что ж?! Надеюсь, мы с тобой на старости лет не пойдем кланяться? – гордо проговорил Иван Андреевич. – И что может нас испугать, стариков, теперь? Жизнь наша и без того подходит к закату. Не так ли, мой добрый друг? – каким-то серьезно-торжественным тоном прибавил старик.
Марья Степановна взглянула на мужа. В лице его не было ни малейшей тревоги. Оно по-прежнему было спокойно-задумчиво. Его спокойствие сообщилось и ей. Она улыбнулась своей кроткой улыбкой и твердо проговорила:
– Ты прав. Чего нам бояться!
– Особенно с тобой вместе! – нежно прошептал старик. – И с такими детьми, как наши!
И они замолчали.
Через несколько дней Вязниковы были уже в Петербурге. Свидание с детьми было самое радостное. В тот же вечер вся семья собралась в комнате у Николая за самоваром. Все были веселы и счастливы. Нежные взгляды стариков попеременно останавливались на детях. Глядя на Николая и Леночку, старики не сомневались, что перед ними счастливая пара.
Когда, после первых расспросов, старик, по просьбе сыновей, рассказывал подробности новой своей «неудачи» в земском собрании, Николай вскипел негодованием, а Вася молча глядел на отца восторженным взглядом.
Через неделю после приезда стариков была свадьба Николая и Леночки.
XVII
Иван Андреевич Вязников рассчитывал пробыть в Петербурге еще недели две. Старику хотелось подольше остаться с детьми, – особенно беспокоил его Вася, – повидать старых друзей и знакомых и прислушаться, «как в Петербурге бьется пульс». Кроме того, Ивану Андреевичу хотелось и рассеяться после долгом жизни в провинциальном захолустье; благодаря финансовым способностям и настояниям Марьи Степановны, Вязников собирался побывать в опере, пообедать в тесном приятельском кружке и вспомнить старинку за бутылкой-другой шампанского. Но все эти планы, по-видимому вполне исполнимые, оказались преждевременными, по пословице: человек предполагает, а бог располагает. Едва только Иван Андреевич начал присматриваться к настроению Петербурга (и, надо сказать правду, остался не очень им доволен), как ровно через три дня после свадьбы сына должен был выехать из столицы и спешить, нигде не останавливаясь, в Витино, хотя ни внезапный отъезд, ни его стремительность вовсе не входили (это необходимо заметить) в первоначальные планы Ивана Андреевича, а тем более Марьи Степановны.
Было бы несправедливо сказать, что отъезд этот, несмотря на стремительную его поспешность, явился неожиданностью, по крайней мере для самого Вязникова. В данном случае судьба как будто приняла в соображение почтенные годы старика и не застала его совершенно врасплох. Обстоятельства сложились относительно еще так счастливо (и Марья Степановна впоследствии с грустной улыбкой вспоминала об этом, по поводу другого отъезда), что Иван Андреевич успел своевременно известить сыновей об отъезде и проститься с ними.
Счастливое предостережение приготовиться к отъезду явилось в виде двух фактов: во-первых, накануне дня отъезда получено было из Витина несколько странное и, очевидно, торопливое письмо от старосты Никиты Фадеича и, во-вторых, в тот же самый день Иван Андреевич имел свидание с одним бывшим своим товарищем, занимавшим в описываемое нами время если не очень важное, то, во всяком случае, довольно видное место в администрации.
Никита Фадеевич, каллиграфия которого на этот раз хромала пуще обыкновенного, хотя и сомневался в юридическом праве своем отписать письмо, по все-таки считал несокрушимым своим долгом доложить его высокоблагородию барину Ивану Андреевичу, на всякий случаи, для сведения, что «вчерашнего числа, в ночное время, в усадьбу вашу изволили пожаловать господа и, неизвестно по какой причине составивши ахту, изволили благополучно отбыть поутру из усадьбы». Уведомляя об этом, Никита Фадеич просил инструкций насчет «ежели опять, чего боже храни», и затем желал всякого благополучия Ивану Андреевичу, а равно и супруге Марье Степановне, а также и сынкам их.
Едва только Иван Андреевич прочитал письмо Никиты Фадеевича и раздумывал, не лучше ли скрыть это послание от Марьи Степановны (ее, по счастью, не было дома), как в двери номера гостиницы раздался осторожный стук, и вслед за тем на пороге появился незнакомый господин в вицмундире и, отрекомендовавшись экзекутором такого-то департамента, передал Ивану Андреевичу свидетельство почтения и поздравление с приездом его превосходительства такого-то и вместе с тем просьбу пожаловать к ним, если позволят обстоятельства, на квартиру (господин в вицмундире обязательно сообщил адрес) между двенадцатью часами и часом, по очень важному делу, лично касающемуся Ивана Андреевича.
Проговорив эту краткую речь, почтенный чиновник счел долгом поклониться еще раз, прежде чем прибавить ко всему вышеизложенному извинение его превосходительства, что они сами не могут сегодня же пожаловать к Ивану Андреевичу, а равно и не могли написать письма, вследствие обременения служебными обязанностями.
При этих словах Вязников не мог не улыбнуться, припомнив своего старого товарища, не отличавшегося прежде особенной любовью к занятиям. Господин в вицмундире не знал, чему приписать улыбку на лице Вязникова: тому ли, что его превосходительство обременен занятиями, или какому-либо другому обстоятельству. С проницательностью департаментского экзекутора, малого на все руки, он заключил было, что его превосходительство намерен призанять денег у приезжего помещика и потому так торопится его видеть. Что же касается улыбки Вязникова, то она была сочтена за неблагоприятный признак для намерений его превосходительства. Господин в вицмундире, однако, не счел возможным позволить себе какие-либо расспросы по этому поводу, тем более что Вязников не обнаружил ни малейшего желания вступить в разговор. Экзекутор вежливо откланялся, когда Иван Андреевич, после секунды раздумья, проговорил, продолжая улыбаться:
– Прошу вас передать его превосходительству, что я заеду!
В назначенный час Вязников заехал к бывшему своему однокашнику Евгению Петровичу Каратаеву. Краснощекий, пышный, хорошо сохранившийся господин встретил Ивана Андреевича в кабинете. Старые товарищи облобызались. После первых приветствий и извинений господина Каратаева, что он не мог сам заехать, хозяин усадил гостя на диван, плотно затворил двери и проговорил с озабоченным и несколько смущенным видом:
– Я по старой дружбе, Иван Андреевич, хотел тебя предупредить. Видишь ли: дело с твоей запиской плохо. На нее взглянули здесь очень серьезно.
– Как видно… Посмотри-ка, что пишут мне из деревни! – насмешливо проговорил Вязников, подавая письмо.
Его превосходительство прочел письмо.
– Видишь ли!.. И охота тебе кипятиться! Точно в провинции вы не знаете положения дел.
– Кажется, вы вот здесь ничего не знаете, что делается в России! – горячо проговорил Вязников.
– И мы знаем, пожалуйста, не считай нас такими оптимистами! Знаем, что дела идут не так, как было бы желательно.
– Знаете? И все-таки ничего не делаете?
– Уж ты слишком, по обыкновению… Мы, брат, тоже работаем.
– Работаем, ты говоришь? И посылаете к нам дураков?
– Это уж вина князя. Он сам его назначил. Но все же он уж не совсем же… И наконец теперь такое время… Нужна энергия…
– Полно, Евгений Петрович, повторять вздор. Только и слышишь везде: такое время! Именно такое время, когда надобно подумать посерьезней, а не сочинять бумаги и пугать людей! Вы вот тут сочиняете циркуляры и думаете, что делаете дело. У нас в губернии голод, а вы и этого не знаете. Нас и спрашивать не хотите, а когда удостоите, и вам отвечают не по-чиновнически, так вы приходите в ужас. Даже моя записка показалась ужасною. Ну, что же в ней-то ужасного, скажи-ка по совести?
– По моему личному мнению, она… несвоевременна. Здесь же она произвела более сильное впечатление.
Вязников усмехнулся.
– Кажется, и форма-то очень мягкая, и наконец разве мы не вправе…
– Не уходился еще ты, Иван Андреевич, как посмотрю! – проговорил г. Каратаев, дотрогиваясь до руки Вязникова. – Допустим, что твоя записка высказывает вполне справедливые мысли, допустим! Но мало ли справедливых мыслей, которые высказывать нельзя, несвоевременно, если не желаешь подвергаться риску? Неужели же ты полагал, что здесь записку твою похвалят?
– Я не заботился, как здесь взглянут! Я считал долгом совести ответить на вопрос. Когда спрашивают мое мнение, я считаю нечестным давать лживые ответы. А если вы спрашиваете для того, чтобы получить ответ, что все обстоит благополучно, то тем хуже для вас, господа! И разве я нарушил закон?
– Ты, Иван Андреевич, кажется, вообразил, что мы с тобою живем в Англии, – тихо заметил его превосходительство и прибавил: – Однако собрание не подписало твоей записки… всего пять человек…
– А вы тут знаете, как происходило дело? Пять человек! Да, пять! Но было бы не пять подписей, а пятьдесят, если бы вы действительно захотели услышать мнение земства. Люди – везде люди, и когда их стращают разными страхами, то они молчат. Я думаю, и у вас в Петербурге понимают, как фабрикуются эти обычные земские заявления.
– Положим…
– А если бы, Евгений Петрович, все земства подали подобные же записки, что бы вы здесь тогда сказали?
– Ты ставишь вопрос ребром. Я, право, затрудняюсь отвечать.
– Однако. Ты вот тут близок к разным источникам. Как ты думаешь?
– Я думаю, что их положили бы под сукно.
– И конец?
– Назначили бы, пожалуй, комиссию.
Вязников медленно покачал головой и проговорил:
– Дослужитесь вы, господа, до чего-нибудь с такими взглядами!
Господин Каратаев только пожал плечами и ничего не ответил. Да, признаться, его давно не занимали никакие вопросы, кроме вопросов о личном положении. Он прежде всего был чиновник и добрый малый. Он дорожил местом, так как получал хорошее жалованье, но особенного рвения не обнаруживал, умел недурно писать доклады и составлять записки по каким угодно вопросам на основании канцелярской рутины, в государственные люди не метил и дальше сенаторского места мечты его не заходили, был вивером-холостяком * и чувствовал себя совсем хорошо, когда после недурного обеда приезжал вечером в сельскохозяйственный клуб и садился в винт по две копейки. Он давным-давно осел, вылился, так сказать, в форму равнодушного петербургского чиновника и не без некоторого изумления посматривал на бывшего товарища, вздумавшего на старости лет писать записки, горячиться о каких-то правах и компрометировать себя, пускаясь в авантюры. Вот и теперь, вместо того чтобы интересоваться личным своим положением, он затевает еще пикантные разговоры, тогда как его превосходительству надо поспеть к шести часам на один приятельский обед с дамами.
– Оставим пока теоретические вопросы в стороне, Иван Андреевич! – проговорил Каратаев, взглядывая на часы. – Не беспокойся! У нас еще есть время! – добавил он, заметив движение Вязникова. – Ты извини… я сегодня на званом обеде!.. Я, видишь ли, насчет твоего дела так и не объяснил тебе. Когда я прочитал твою записку и узнал о впечатлении, произведенном ею, то, разумеется, с своей стороны употребил все зависящие средства, чтобы смягчить впечатление, но ты знаешь, я сам – мелкая сошка, и влияние мое невелико… Все, что я мог сделать…
– Но кто просил хлопотать за меня? Кажется, я не уполномочивал тебя! – неожиданно проговорил Вязников, волнуясь. – Пусть делают что хотят!
Каратаев растерялся. Такого ответа он никак не ожидал. Он с изумлением поднял глаза на взволнованное лицо Ивана Андреевича и смущенно проговорил:
– Ты не сердись, пожалуйста, что я без полномочия… Ведь все-таки… Ну, да и не мог же я забыть, Иван Андреевич, старой твоей услуги… Помнишь, как ты меня спас в то время?.. И наконец я думал… я считал долгом чем-нибудь быть полезным старому товарищу… Взгляды наши могут быть разные, но все-таки… Или моя услуга так неприятна тебе? – прибавил господин Каратаев, и голос его как будто задрожал от волнения…
– Извини меня, Каратаев, и спасибо за твои старания! – ответил Иван Андреевич, протягивая руку. – Ты меня не так понял. Не твои услуги мне неприятны, а вообще я не люблю, когда за меня просят, а тем более, когда я не чувствую за собой никакой вины.
– Чудак ты! – мог только проговорить его превосходительство.
– Что же вы придумали, однако?
– Посоветовать тебе ехать в деревню и заниматься хозяйством, а не политикою! Конечно, это неприятно, но…
– Могло быть и хуже? – подсказал, усмехнувшись, Иван Андреевич.
– А губернатору здесь намылили голову, – заметил как бы в утешение его превосходительство. – Он жаловался, что ты был с ним резок, но ему сказали, что он сам виноват… Нельзя в статской службе слишком по-военному.
– Он остается?
– Остается… Неловко было бы его сменить… Ты понимаешь…
– Как же, понимаю… понимаю! – улыбнулся Вязников.
– Но ему внушено, чтобы он потише и не очень бы ссорился с земством.
– Ну, во всяком случае, спасибо тебе, Каратаев! – проговорил еще раз Иван Андреевич.
– А ты не беспокойся… Твое уединение, я думаю, долго не продлится!.. – проговорил Каратаев, облобызавшись с Иваном Андреевичем.
– Все равно. Просить я не стану, и, пожалуйста, ты не хлопочи!
Вязников ушел, а его превосходительство стал торопливо одеваться к обеду и искренно пожалел Вязникова, который в захолустье будет лишен всех прелестей столичной жизни – тонких обедов, француженок, комфорта, – словом, всего, что, по мнению господина Каратаева, составляло сущность жизни.
– Сам виноват! – проговорил его превосходительство.
И вслед за тем мысли его сосредоточились на обеде и приняли несколько фривольное направление.
XVIII
Известие, сообщенное Каратаевым, не произвело на Ивана Андреевича особенно сильного впечатления. Он принял его с презрительным спокойствием мужественной гордости. И не такое известие выслушал бы этот старик без малодушных жалоб и без рабского страха. Жизнь его слишком была хороша, чтобы портить ее закат. Но его надеждам и упованиям было нанесено новое и чувствительное поражение. На душе было мрачно. Он испытывал оскорбительную боль человека, очутившегося в положении школьника. То, что он видел и слышал в короткое пребывание свое в Петербурге, далеко не располагало к оптимизму. Слухи и факты, один другого грустнее, западали глубоко в сердце. Беседа с Каратаевым – а Каратаев был еще не из самых ярких! – явилась только новым подтверждением неутешительных выводов. Разумеется, Каратаев служил только отголоском господствовавших мнений, но и эти отголоски так красноречиво говорили о равнодушии и презрении к правде, что не оставляли места ни для каких иллюзий даже и в сердце такого розового оптимиста, каким был Вязников.
С грустью он думал о будущем, с тоской о погибающей молодой силе. «Бедные!» – невольно вырвалось из груди старика.
Не робеющий за себя, он робел при мысли о своем младшем сыне, об этом благородном юноше, который с упорством высокой души искал выхода и света из мрака, надвигающегося грозными удушающими тучами… Она не мирилась на том, на чем мирятся более слабые души. Эту чуткую совесть нельзя было успокоить словами – старик хорошо это понимал и чувствовал теперь смущение, предвидя впечатление, которое произведет на Васю известие о внезапном отъезде старика.
Еще только вчера отец предостерегал сына от увлечений, особенно от тех, по его мнению пагубных, из-за которых гибнут молодые силы; горячо говорил юноше, поддерживаемый Николаем, о просторе и плодотворности деятельности для честного человека на всяком поприще. Вася недоверчиво покачивал головой и, по обыкновению, с какой-то восторженной стремительностью, высказывал свои соображения. Иван Андреевич рассердился, назвал сына блажным дураком и весь вечер не говорил с ним ни слова.
А между тем теперь отец собственным примером должен опровергнуть свои вчерашние доказательства.
Убийственное положение отца, дрожащего за сына, в груди у которого бьется горячее сердце и живет вера в правду, вера, требующая приложения!
Такие мысли гнездились у старика, когда он, плотно укутавшись в шубу, ехал от Каратаева на Царскосельский проспект к Васе.
Старик чувствовал теперь особенную потребность увидать поскорей Васю, чтобы ласковым словом смягчить вчерашнюю размолвку. Да и к тому же еще он у него не был, а ему хотелось взглянуть, как живет в Петербурге этот юноша, деликатно отказавшийся от денег и уверявший, что ему за глаза довольно двадцати пяти рублей в месяц. «Не то, что Коля», – подумал старик. Иван Андреевич собирался взять Васю с собой к Николаю и среди близких провести последний вечер в Петербурге.
Погода на дворе была отвратительная; густой мокрый туман, сквозь который слабо мигали фонари и освещенные окна, пронизывал до костей. Извозчик то и дело покрикивал: «Берегись». На улицах было пусто. Хотелось скорей добраться до теплой, сухой комнаты, и Иван Андреевич обрадовался, когда наконец сани остановились у ворот большого дома в конце Царскосельского проспекта. Вязников торопливо прошел в ворота и после нескольких бесполезных попыток отыскать квартиру сына без посторонней помощи вызвал дворника и спросил, как пройти в двадцать восьмой номер.
– Да вам кого нужно?
– Василия Ивановича Вязникова!
– Вязникова? – переспросил дворник. – Что-то не слыхать, чтобы здесь жил такой господин. Они кто такие будут? Чиновники?
– Студент Вязников…
– Студент? – протянул дворник, и Ивану Андреевичу послышалось в голосе презрение. – Вы сказываете – Вязников? Надо быть, что в двадцать восьмом. Там студенты живут. Идите вот в угол, где фонарь светит… Там крыльцо… В самый верх! – крикнул он на ходу, скрываясь в темную пасть дворницкой.
Обыкновенная петербургская так называемая черная лестница (она же и парадная), освещенная газом, обдала Ивана Андреевича сыростью и особенным запахом, более чувствительным во время оттепелей; большие мокрые пятна выступали по стенам. Из отворенных дверей квартир несся чад. Все эти ароматы, к которым привыкло обоняние петербуржца, подействовали на Вязникова удручающим образом и сразу не расположили к дому, где жил сын.
«А он еще кашляет!» – припомнилось старику.
Раза два остановившись на площадках, чтобы перевести дух, Иван Андреевич, наконец, добрался до двадцать восьмого номера, и отворив непритворенные двери, очутился в прихожей, слабо освещавшейся светом из кухни, расположенной за перегородкой. В прихожей было тихо, в кухне – ни души. И в той и другой комнате – или, лучше сказать, в одной – стоял спертый, прокислый воздух, несмотря на отворенную форточку.
Иван Андреевич отворил дверь из прихожей и очутился в темноте. За стеной раздавались шаги. Он ощупью нашел ручку двери и постучался. «Войдите!» Силуэт отмеривающего шаги по комнате вырисовывается в табачном дыму.
– Извините, пожалуйста. Не знаете ли, где комната Вязникова? – спрашивает Иван Андреевич, все более и более недовольный выбором Васи.
– А вот пойдемте, я вас проведу! – отвечает молодой голос, и из полусвета комнаты выделяется фигура молодого человека с приподнятой лампой в руках.
Свет падает прямо на свежее, румяное лицо, покрытое темным шелковистым пушком, с толстыми, сочными губами и парой темных глаз. Наружность молодого человека сразу располагает в свою пользу, заставляет Ивана Андреевича бросить беглый взгляд на его костюм и заметить не вполне удовлетворительное его состояние.
– Осторожнее. Тут у стены шкаф, не наткнитесь! – говорит молодой человек, отправляясь вперед по узкому коридору, по одной стороне которого расположены были комнаты.
Он остановился в самом конце, отворил двери и проговорил:
– Его нет дома. Я и не знал.
– Как же, как же, с час будет, как ушел! – проговорила внезапно появившаяся старая женщина в платке на голове, с восьмушкой чаю и булкой в руке. – Нет ли Василия Ивановича напротив?.. Сегодня из четырнадцатого номера в театр пошли, может он придите остался…
– Нет, Василиса Петровна… Там Воронов.
– Во всяком случае, я подожду его. Может, он скоро придет.
Молодой человек взглянул на Вязникова быстрым, пристальным взглядом.
– Я – отец его! – добавил, чуть-чуть улыбнувшись, Иван Андреевич.
Эти слова, казалось, произвели на молодого человека очень приятное впечатление. Он с большим уважением взглянул на старика, зажег в комнате Васи лампу и, торопливо объявив, что сбегает справиться, нет ли Васи у одного знакомого, через два дома, оставил Ивана Андреевича.
Вязников снял шубу, присел на стул и оглядел комнату.
Это была крохотная каморка, в которой едва можно было повернуться. Кровать с жиденьким тюфяком, маленький стол, два стула, комод и этажерка с книгами занимали все помещение. На столе, на почетном месте, среди книг и тетрадок стояли портреты отца и матери.
Иван Андреевич с грустной улыбкой внимательно осматривал обстановку Васиной кельи и поморщился. Прокислый тяжелый воздух стоял здесь, несмотря на отворенную форточку.
– А здоровье его плохое! – проговорил он в раздумье.
Взгляд его упал на раскрытую книгу, лежавшую на столе. Он заглянул, тихо покачал головой и стал машинально перелистывать толстый том экономического исследования, испещренного заметками Васи на полях. Старик прочитал одну и, заинтересованный, стал прочитывать далее. Его увлекали оригинальные замечания; видно было, что Вася серьезно штудировал книгу. Возмущенное сердце, любовь к ближнему, искание правды чувствовались в быстрых, горячих строках этих заметок. Отец пробежал их несколько раз.
– Голубчик мой! – взволнованно прошептал старик, оставляя книгу.
Несколько минут он просидел в раздумье, склонив голову…
По коридору раздались торопливые шаги, и вслед за тем в комнату вошел молодой человек, провожавший Вязникова: в руках он нес стакан чаю.
– Васи нет и там! Не угодно ли? – прибавил он, ставя перед Иваном Андреевичем стакан чаю. – Я так думаю, что он должен скоро быть…
– Очень вам благодарен. Напрасно вы беспокоились, – отвечал Вязников, протягивая руку.
– Какое беспокойство!
– Вы, верно, Васин товарищ?
– Приятели! – проговорил молодой человек таким тоном, что старик почувствовал еще большее расположение к молодому человеку.
– Очень приятно познакомиться. Вы не Андрей ли Николаевич Чумаков?
– А вы почем знаете? – проговорил, внезапно краснея, молодой человек.
– Я с вами давно знаком по письмам Васи, – промолвил Вязников. – Однако комнаты тут у вас не очень-то хорошие.
– Нехорошие? Кажется, ничего себе.
– Воздух скверный…
– Есть-таки грех, но зато комнаты недорогие, и хозяйка хорошая. У нас еще ничего, а посмотрели бы вы квартиру внизу! Там так сыро! – прибавил Чумаков.
– Ну, и здесь, кажется, сыровато! – заметил Иван Андреевич, показывая пальцем на стену. – С Васиным здоровьем тут не очень-то хорошо!.. Что, он сильно кашляет?
– Покашливает, но не очень!.. Простужается, не бережется!.. Я его за это часто ругаю!
– Вы бы больше его ругали! – улыбнулся старик.
– Ничего с Васей не поделаешь. Такой уж он у нас человек! – улыбнулся Чумаков. – О себе мало заботится! В деревне поправится! Не угодно ли еще стакан чаю?
– Благодарю; я не хочу больше. А вы-то что ж не пьете?
– Успею еще.
– Ну, однако, пора… Видно, я Васи не дождусь! – проговорил Иван Андреевич, взглядывая на часы. – Уж и восемь часов! Пожалуйста, передайте Васе, если он скоро вернется, что я прошу его зайти сегодня вечером к брату. Если же Вася вернется не скоро, то попросите его завтра пораньше быть у меня. Скажите, что я завтра в полдень уезжаю в деревню.
Старик крепко пожал руку приятеля Васи и вышел, сопутствуемый молодым человеком, который с лампой в руках проводил его до лестницы.
– Благодарю, благодарю вас! – повторял старик, осторожно спускаясь. – Не беспокойтесь!..
«Мы не так жили! – подумал Иван Андреевич, сравнивая свою блестящую обстановку во время студенчества с обстановкой жилища Васи. – А они находят еще, что живут отлично!..»
Вязников поехал к Николаю, но не застал никого дома. Он с Леночкой был в театре.
Оставив записку, Иван Андреевич вернулся в гостиницу, где застал Марью Степановну за самоваром.







