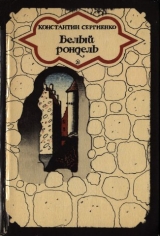
Текст книги "Белый рондель"
Автор книги: Константин Сергиенко
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
– Ты думаешь?
– Я уверен. Гомар был ещё жив, когда мы нашли его на дороге, он слышал, как приходили «эстонские братья».
– Где же третий?
– Они забрали его с собой.
– Почему оставили Гомара?
– Сочли его мёртвым.
– Так что же он слышал?
– Говорю тебе, это были «эстонские братья».
– А кто третий?
– Этого я не скажу тебе, Гуго. Ты многое таишь от меня.
– Ты ошибаешься, Генрих. Не я ли первым посвятил тебя в дело, не я ли делился с тобой шведским подарком?
– Пустое дело, Гуго. Весь заговор ты да я, а шведы всё равно придут и спросят, как им помогали.
– Я найду что ответить, Генрих.
– Если б ты рассказал мне про золото, я бы помог его взять и уйти в Германию. Здесь нельзя жить, Гуго.
– Я родился в Дерпте.
– Ты знаешь, где прячут эстонское золото? Ты знаешь, где скрывается мальчик?
– Знаю, – ответил Трампедах.
– Так как же, Гуго?.. – Голос полковника дрогнул. – Всю жизнь я воюю, а денег не платят. Дом мой пришёл в запустение, Матильда махнула на всё рукой. Если мы поделим золото, Гуго…
– Там нет никакого золота, Генрих.
– Но все говорят!
– Ты убедишься в этом сам.
– Когда? Говори мне, Гуго!
– В купальную ночь. Собери крепкий отряд, и я покажу тебе место… Впрочем, нет, я могу передумать. Ты же знаешь, что я уличил служанку в сношениях с дьяволом. Её испытают в купальную ночь…
– Так что же?
– Я могу передумать, Генрих. Но всё же держи наготове отряд.
– В купальную ночь? Саксонцы будут пить беспробудно.
– Не только саксонцы. «Эстонские братья» тоже не трезвенники. В такую ночь их можно одолеть без труда.
– Ты думаешь, их много?
– Немало, Генрих. И они свирепы.
– А как поступить с Путешественником?
– Покуда оставь в покое, а после купальной ночи решим.
– Я пошлю человека, и пусть он его убьёт.
– После купальной ночи, Генрих.
– Что ты твердишь о купальной ночи? Ты взял обет прожить до неё благочинно?
– В такую ночь решается многое, Генрих.
– Я чувствую, ты со мной играешь, – пробормотал Ла Тробе.
Вот какой разговор слышал я на берегу Эмбаха. Мать Вода помогла мне узнать нехорошую тайну и все плескалась рядом, поглощая последний закатный свет.
…Снова я в Белом ронделе перед Анной. Я долго следил за башней, дожидаясь времени, когда затихнет жизнь внутри монастыря. В городе пробил полуночный колокол, и только спустя некоторое время я забрался на крытую галерею против Угольной башни.
– Анна, – сказал я, – против тебя задумали нехорошее.
Сегодня у неё просветлённое лицо. Быть может, она читала, быть может, думала, но в глазах её не было испуга, она рассеянно слушала и будто припоминала что-то приятное.
– Ты знаешь, какие теперь времена, достаточно одного доноса, как тебя обвинят в богомерзких делах. Надо бы уйти из города, Анна.
– Но кто станет говорить обо мне плохое? – Она посмотрела на меня светлым взором.
– Право, не знаю, отчего жизнь сводит нас вместе, но я не могу оставить тебя. Я не позволю, чтоб над тобой надругались. Уйдём же вместе.
– Но вы обещали мне встречу с Эдвардом.
– Ах, послушай, этот человек не в силах избавиться от подозрений. Уж не знаю, любит ли он тебя.
– Пусть скажет мне это сам.
– Но ты в заточении, Анна, а завтра могут обрушиться беды. Есть ли время на разговоры? Я помню своё обещание, но сначала надобно выйти отсюда, укрыться в безопасном месте.
– Отчего же мне укрываться?
Она и не подозревала, какие тучи собирались над её головой. Она не знала, что грозило лесному лагерю.
– Вчера я гулял возле башни, Анна, и будто бы слышал музыку. Скажи, а к тебе не доносится музыка после полуночи?
Она улыбнулась. Улыбка её так хороша, лицо тотчас сделалось открытым, приветливым.
– Да, – сказала она, – маэстро играет чудесно.
– Маэстро? О ком ты говоришь, Анна?
– Теперь я его ученица, – сказала она просто.
Я беспокойно оглянулся.
– И… и чему же тебя учит этот маэстро?
– Ах, всё это прекрасно! – воскликнула Анна. – Вы бы тоже увлеклись.
– Сомневаюсь, – пробормотал я.
В голове носились обрывки из записей Питера Керка, слово «маэстро» встречал я там неоднократно, и всё это относилось к лицам по меньшей мере сомнительным, от которых страдали потом безвинные люди.
– Маэстро будет недоволен, если я брошу занятия, – сказала Анна.
– Ещё бы, ещё бы, – пробормотал я.
Чёрт возьми, если уж некий «маэстро» вмешался в дело, то я не знаю, что и подумать? Чему он её учит, так ли теперь нужна моя помощь?
Однако я должен подумать о жителях леса.
– Анна, – сказал я прямо, – ты знаешь дорогу в линнус?
На лице её изобразилось недоумение.
– Ах, боже ты мой, не в линнус, я оговорился. Знаешь ты место, где раскинут лагерь, где живёт твой отец?
– Но отец служит у Трампедаха, – ответила она.
– Анна, я говорю тебе правду. Март приходил и просил моей помощи, он хочет построить крепость. Я был на горе, но мне завязали глаза, и оттого я не знаю дороги.
Анна молчала, глядя на меня расширенными глазами.
– В купальную ночь они нападут на лагерь, Март с воинами будет далеко, он отправится на Святое озеро искать меч Калевипоэга.
– Почему вы знаете? – прошептала она.
– Довелось услышать разговор. Антс уже в лагере, их нужно предупредить. Пусть Март устроит засаду на дороге.
– Но я не знаю пути, – еле вымолвила она побелевшими губами.
– Но разве отец не возил тебя в лагерь? Я будто бы слышал, что тогда вас и выследил Трампедах.
– Я спала в телеге, – сказала она.
– Час от часу не легче. Но может быть, другому известна дорога?
– Я никого не знаю, – пробормотала она.
– Бежим, Анна! – сказал я в отчаянии.
Она покачала головой. Я схватил её за руки.
– Только ночь, одна ночь на спасение, Анна!
– Я не знаю дороги… – шепчет она.
– Но может быть, ты мне не веришь? Тогда знай, что малыш Лембит улыбался мне и показал свои камни…
И я много ей говорил об Элине и Матсе, об Эрике-шведе и даже о том, как собрался меня поломать лесной братец Марта.
– Смотри, Анна, у меня опухло плечо, и тут есть раны, а старуха Юта врачевала меня. Сегодня с трудом я забрался в окно и держался левой рукой. Если ты не отыщешь дороги, мы не сумеем предупредить Марта.
– Кто хочет напасть? – пролепетала она.
– Хозяин твой знает дорогу.
– Покуда я здесь, он не станет…
– Я говорю, что против тебя задумали нехорошее! – И я рассказал о подслушанном разговоре.
Она поникла и размышляла долго, а потом я услышал:
– Как я могу бежать? В том и надежда, что всё обойдётся.
– Так ты не помнишь дороги?
Она покачала головой.
– Я не найду. Пусть уж я буду здесь…
– Они тебя станут мучить!
– И ночью… А уж к утру Март вернётся с озера, и он отыщет меч, я знаю…
– Это неразумно! – Голос мой прерывался от волнения. – Подумай, Анна. Тебя бросят в воду и, может быть, ты умрёшь, а потом рыцарь поведёт саксонцев на лагерь.
– Нет, нет, – бормотала она. – Ещё есть надежда.
Я мог увести её силой, но я и сам не знал, хорош ли будет такой поступок. Спасётся Анна, погибнут люди в лесу. Завтра к вечеру воины Марта отправятся на Святое озеро, а вернутся лишь утром и увидят сожжённый лагерь, убитых детей, стариков и женщин… И всё же я взял её за руку и сказал:
– Только ночь на спасение, Анна…
Но она всё твердила «нет».

И тут я увидел изображение Святой Магдалены на стене… Это была старая, облупившаяся фреска, едва заметная на потемневшей штукатурке. Я вспомнил об амулете Мари. «Там стена и Святая Магдалена, а за ней темно. Я положила амулет на железный ящик».
– Анна, – сказал я, – тут должен быть выход.
Я хорошо знал устройство башен. Ещё мальчиком вместе с дедом я изучил множество планов, мне были известны секреты зодчих. Белый рондель возвёл некто Киркпанцер, и я вспомнил, что Киркпанцер любил выводить из башен подземный ход. Что до Святой Магдалены, то под таким изображением обычно скрывали потайную дверь.
Я подошёл к фреске и сразу увидел зазор в штукатурке. Приложив руку, я понял, что это не штукатурка вовсе, а нечто вроде песчаника. Искусен Киркпанцер!
– Анна, нужна свеча, – сказал я.
Я нажал плечом на изображение Святой Магдалены, оно отошло, освободив боковой проход. Я зажёг свечу и вошёл в тайный ход Киркпанцера.
Да, амулет Мари был здесь, маленький жук-скарабей, вырезанный из дуба. Я положил его в карман с мыслью, что стоит отнести скарабея к тому колодцу, где покоится Мари. Я всё осмотрел, а потом вернулся к Анне и сказал:
– Подземный ход выводит к опушке. Мы можем уйти, Анна.
Но она отказалась. И тогда я ушёл один.
В сумерках у трактира Меклера меня поджидал человек. Он завернулся в плащ и надвинул шляпу.
– Вы ко мне? – спросил я, потому что человек двинулся мне навстречу.
Он кивнул.
Я пригласил его в комнату. Здесь он снял шляпу, плащ и явился передо мной учителем Тарвальдом, наряжённым в тот же бархатный камзол и неизменные фиолетовые чулки.
– Вы были у Анны! – сказал он без предисловий.
– Откуда вам это известно? – спросил я.
– Да ведь и я там был.
– Вот как?
– Запомните, юноша, я всегда там, где страдают.
– Как же вы туда попали?
– Очень просто. Вы отменно знаете, как устроены башни. Под крышей есть небольшая каморка со слуховым окном. Я поднял туда клавесин и обучаю Анну искусству гармоний.
Клавесин? Чёрт побери, так вот в чём дело!
– Но как вы втащили туда клавесин?
– Ах, юноша. По частям. Я просто-напросто его разобрал.
– Но разве клавесин разбирается?
– Я разобрал. Что мне стоит? А потом собрал. Звук хороший. Фробелиус привёз его из Голландии.
– Клавесин Фробелиуса?
– Мальчик был добр и отдал клавесин на время.
– Но знает ли он?..
– Нет, нет. Знать ему ни к чему. Да и никто знать не должен об этом. Я же толкую вам всё потому, что вы слишком бойки, всюду путаетесь. Раз уж впутались, то помалкивайте.
– Знаете ли вы, господин музыкант, что рыцарь Трампедах намерен обвинить Анну в сделке с дьяволом, а поводом к тому ваше музицирование на клавесине?
– Вот как? Это осложняет дело.
– Вам следует всё объяснить Трампедаху.
– Как бы не так! Чем я не дьявол для Трампедаха? Да будет вам известно, юноша, именно меня Трампедах и считает посланником дьявола.
– Вы знакомы?
– Он знает о моём существовании и всюду твердит, что я дьявольское отродье, ниспосланное на землю, чтобы смущать людей.
– Час от часу не легче. В чём же он вас обвиняет?
– В том, что я проповедую смерть. Бедняга не понимает, что смерть и безмолвие разные вещи.
– Вы призываете к безмолвию?
– Что значит призываю? Я пытаюсь создать гармонию, а самая совершенная гармония нисходит к молчанию.
– Значит, если все замолчат, это и будет гармония?
– Нет, молодой человек. Если замолчите вы, не замолчат птицы или, положим, ветер произведёт шелест.
– А если полное безветрие?
– Любой другой звук нарушит гармонию, хотя бы ваше дыхание.
– Вы что же, добиваетесь гробового молчания?
Тарвальд усмехнулся.
– Как вы неловки в рассуждениях. Я говорю не об отсутствии звуков, а, напротив, о присутствии всех звуков нашего бытия, но в такой соразмерности, когда они достигают полного согласия, а стало быть, молчания.
– И что же, ваше учение дошло до Трампедаха?
– Трампедах любопытен. А уж если дойдёт до него, что я обучаю Анну, не миновать ей костра.
– Да и вас, вероятно, схватят.
– Я неуловим.
– Но как же быть с Анной, господин Тарвальд? Ведь её могут подвергнуть испытанию по обвинению рыцаря.
– Что ж, быть может, кому-то и назначено пройти через испытание.
– Однако! Не лучше ли увести Анну из Белого ронделя?
– Вы знаете, что это пока невозможно.
– Отчего?
– Вы знаете.
– И вы дождётесь мучений Анны?
– Молчите! – Он топнул ногой. – Я предвижу события! Так надо, иначе мы лишимся главного.
– Чего, господин Тарвальд?
– Молчите!
– И на суде мне молчать?
– Ведите себя так, будто со мной не встречались. Будет лишь хуже, если вы вступите с объяснениями.
Да, уж если этого человека принимают за посланника ада, лучше помалкивать.
– Только не спрашивайте меня про дорогу в лесной лагерь, – внезапно сказал Тарвальд.
– Вы её знаете?
– Конечно, нет!
– Неужто вам тоже завязывают глаза?
– Представьте!
Здесь он хитрит. Но и я не стал говорить Тарвальду о готовящемся набеге. Кто знает, что у такого человека на уме.
– Зачем вы меня навестили? – спросил я.
– Чтобы сказать вам: не препятствуйте нынешнему течению событий. Говорю вам, я всё предвижу.
Знает ли он про подземный ход?
– Если вы обладаете даром предвидения, то чем, по-вашему, кончится дело?
– Всё завершится достойным образом.
Его бы устами да мёд пить. Без сомнения, это очень странный человек. Невольно поддаёшься его влиянию, и начинает казаться, что он и в самом деле многое знает.
Ночь я провёл без сна и думал обо всём. Я вспомнил, вспомнил того мертвеца, которого протащили перед моими глазами тяжёлые воды Эмбаха. Да, это так, то был швед, убитый в харчевне, то был Эксхольм, человек из Стокгольма, на роль которого случайно устроился я. Он медленно миновал город, в который стремился, мёртвым взглядом скользнул по верхушкам башен, может быть, и я попал в неживое пространство его взора, но всё это было ему безразлично…
Я вспоминал и другую июньскую ночь, тёплую ночь, когда весь Мадрид готовился к Ивановым торжествам. В доме Хуана де Эспины много гостей, они расселись вокруг маленьких жаровен с тлеющими косточками слив. Карлик бегает, докладывает о каждом визите, а потом приносят шоколад в фарфоровых чашечках на агатовых блюдцах. Угощают сладостями в золотых пакетиках, а в серебряных несут сухое варенье.
В эту июньскую ночь Хуан де Эспина снял свой роскошный, чёрный с золотом плащ и накинул его на меня со словами: «Мой друг, пусть сей плащ охранит вас от всяческих невзгод, он составит нечто вроде тени за вашими плечами, даже в ненастный день вы будете снабжены тенью в виде этого чёрного плаща». – «В ваших словах много тайного смысла, – ответил я, – но не лишились ли вы своей тени, отдав мне свой чёрный плащ?» – «К этому я всегда стремился, – сказал Хуан де Эспина. – Хотел бы я стать человеком без тени, ведь тень отбрасывает только плотское, душа не имеет тени». – «В таком случае зачем же вы одарили меня лишней тенью?» – «О друг мой, ведь это всего только плащ, и он не является истинной тенью, а может быть только тенью тех славных дней, которые мы провели вместе. Носите его и помните друга своего Хуана де Эспину…»
Такие изысканные разговоры ведутся в домах на Прадо.
А назавтра случилось всё так, как желал Трампедах. Магистрат на коротком совете назначил испытание Анне, ибо близилась ночь Иоганна, а вода и огонь в эту ночь обладают способностью очищения.
И вот я стою на площади, завернувшись в свой плащ.
– «Всей нашей властью повелеваем костров больше не жечь, ибо великая от того может случиться беда, – читает глашатай, – а буде зажжён кем костёр, того предадим наказанию изъятием имущества, а при отсутствии оного битьём батогами!»
Костёр уже полыхает вовсю. Бургомистру, видимо, жарко, он в полном парадном облачении, и меховой воротник его бархатного плаща делает лоснящееся лицо как бы вжатым в туловище.

На Ратушной площади толпится народ – бюргеры, солдаты, простолюдины. Многие уже навеселе, за поясами я вижу смоляные палки для факелов, и уж конечно, несмотря на запрет, костры всё-таки разожгут, и вряд ли выйдет кому обещанное наказание.
– «А ещё разрешаем палить костёр на Домберге против собора, коего костра назначение в испытании горожанки Анне-Май, дочери кучера Кривого Антса, поскольку горожанка та замечена в сношениях с дьяволом, и буде вина её доказана, пусть очистится огнём и водой, если же не очистится, чему есть приметы и признаки, то предана будет Святому суду и наказана по всей строгости!»
Глашатай сворачивает листок и смотрит на бургомистра, тот величественно кивает головой. Раздаётся барабанная дробь, под визг и крики толпы в небо летит ракета, искры от неё павлиньим хвостом повисают над площадью.
– К речке ведьму! – кричат из народа.
Чьи-то руки тянутся к Анне, но сержант Леман с солдатами оттесняет нетерпеливых.
– В большой костёр, в большой костёр! – кричит кто-то.
Кавалек то и дело судорожно хватается за саблю. Дробно стучит барабан, толпа волнуется. Здесь бюргеры и простолюдины с «иоганнами» в руках, букетами лечебных трав, переплетённых цветущей рожью, на девушках венки, на шестах, окружающих площадь, гирлянды.
– Если ведьма, чего мешкаешь? В костёр!
– Осади! – кричит сержант Леман. Усы его нафабрены, как в праздничный день, сержант Леман сегодня большой человек. Он будет следить за порядком, к утру весёлые горожане накачают сержанта брагой. Иоганнова ночь счастливое время для солдата.
А я смотрю на Анну. Анна отдана на заклание. Я долго убеждал её прошлой ночью бежать, но и сам понимал, почему это трудно сделать. Сейчас в лесном лагере нет воинов, и если бы Анна исчезла, отряд саксонцев, не дожидаясь купальных празднеств, ушёл бы из города, ведомый Трампедахом. Каждый час приближает возвращение воинов Марта, страдания Анны – залог спасения тех, кто в лесу.
Под плащом у меня пистолеты. Если всё повернётся плохо и они расправятся с Анной, я застрелю Трампедаха, а там будь что будет. Мучительно ломит виски. Почему я дождался этого часа, зачем не увёз прошлой ночью Анну из города? Разве она не дороже мне всех остальных? И что для меня те нищие и бездомные люди? То, что предстоит увидеть, заранее жжёт мне сердце, холодный пот стекает со лба. Через плащ я сжимаю рукоять пистолета.
Вчерашний визит Тарвальда не то чтобы прояснил дело, а скорей внёс сумятицу. Этот человек привлекателен, но малопонятен. Чего он ищет, к чему призывает людей? Он говорит загадками. Я видел, как он учил детей пению, это хорошо. Но что ему нужно от Анны? Подумать только, он затащил клавесин в башню, отвечать же за это придётся ей. Никакому суду не втолкуешь, что у этого музыканта-философа благие намерения.
Но вот Анну ведут к реке. Она в белой холщовой рубахе, простоволоса. Слева и справа торжественно ступают ландскнехты, такое развлечение им по душе. Сейчас Анну испытают водой.
На Эмбахе рядом с плавучим мостом уже приготовлен плот, и на нем стоит дюжий детина, тот самый, который станет окунать Анну в воду. Судья и профос одеты в чёрное, в руках у судьи колокольчик, которым он возвестит начало испытаний.
Они расположились на берегу, судья и профос на табуретах, даже стол притащили сюда. Поднятые факелы озаряют картину. Анну перевезли на плот, палач накинул ей на голову мешок, верёвкой привязал за талию к торчащему шесту.
И профос возвестил:
– Поступило известие о нечистых делах горожанки Анны-Май, дочери Кривого Антса, и будет по сему она подвергнута очищению водой и огнём. А теперь говорят свидетели. Рыцарь Трампедах, твоё слово!
Трампедах обнажил голову и суровым взглядом обвёл толпу.
– В великой скорби нахожусь, братья. Ибо та, которую опекал и берег, нехорошо жить стала. Как помещена она была мною в епископат для праведной и смиренной жизни, вошла там в сношение с дьяволом и музицировала с ним на его суставах и рёбрах.
– Свидетельствуешь? – спросил профос.
– Свидетельствую, – ответил Трампедах.
– Омой же лицо в реке и клянись на священном писании.
Трампедах подошёл к реке и, черпнув воды, плеснул на себя, потом положил руку на Библию:
– Клянусь.
– Будет испытана по первому свидетельству! – крикнул профос.

Судья встал с табурета и встряхнул колокольчиком. Палач на плоту толкнул Анну в воду, толпа застыла. Через несколько мгновений судья снова поднял руку с колокольчиком, палач напрягся и вытянул из воды тяжёлый обмякший ком.
– Захлебнулась или не захлебнулась? – переговаривались в толпе. – Коль не захлебнулась, её счастье.
– А, захлебнётся! Вон ещё сколько свидетелей.
– Коли ведьма, так…
– Рыцарь Кавалек! – крикнул профос. – Твоё слово! Омойся в реке и клянись на священном писании, что скажешь правду!
Кавалек проделал, что нужно.
– Скажи, рыцарь Кавалек, был ли ты в сношении с горожанкой Анной-Май? – спросил судья.
– А, чёрт! – выругался Кавалек и взялся за саблю. – О чём тут говорят и кого судят?
Судья, видно, несколько струхнул, всё же перед ним стоял не простой смертный, а отчаянный рубака, польский гусар, и при всём уважении к канонам он мог взбунтоваться.
– Так что же ты видел, рыцарь? – вопросил профос.
– То же, что и все! – отрезал Кавалек.
– Расскажи словами. Ты видел, как дьявол спускался в келью?
– Кто-то спускался, чёрт подери! – сказал Кавалек. – Почём мне известно, дьявол или нет?
– Но ты слышал игру клавесина?
– Что-то бренчало, – уклончиво сказал Кавалек.
– Не было ли это похоже на клавесин?
– Да почём мне знать? Я музыки не играю.
– И всё же ты согласен, что это были музыкальные переборы, а не, скажем, звон разбитых бутылок?
Кавалек призадумался.
– Нет, на бутылки не похоже, – пробормотал он. – Мягче звенело.
– Стало быть, ты не отрицаешь, что слышал музыку?
– Не отрицаю! – рявкнул Кавалек.
– И не отрицаешь, что она неслась из Белого ронделя?
– Откуда-то с той стороны.
– А известно тебе, что во всём епископате нет клавесина?
– Не известно! – ответил Кавалек.
– Тебе сообщают о том. Эй, патер Иеронимус!
К судейскому столу приблизился человек в капюшоне.
– Ответь нам, патер Иеронимус, имеются ли в епископате музыкальные инструменты?
– Имеются, – ответил человек в капюшоне.
– Назови какие.
– В епископском соборе малый орган, далее рожки и флейты, а также две лютни, что у отца-настоятеля.
– А есть ли в епископате клавесин, патер Иеронимус?
– Клавесина покуда нет, однако он заказан два месяца назад в голландском городе Утрехте.
– Заказан, но ещё не получен?
– Ещё не получен, господин судья.
– Ты слышал, рыцарь? – судья обратился к Кавалеку. – Во всём епископате нет клавесина.
– Так лютня есть! – нашёлся Кавалек.
Судья несколько замешался.
– Хм… лютня, ну и что?
– А лютня похожа на клавесин! – с отчаянием сказал Кавалек. – Может, на лютне играли!
– Хм… – снова произнёс судья. – Патер Иеронимус, скажи нам, как содержатся лютни и могла ли одна из них попасть в келью к упомянутой Анне-Май?
– Никоим образом, – ответил патер Иеронимус. – Лютни под замком у отца настоятеля, ибо лютни те освящены в Ватикане и у Кастальского источника, они хранятся у нас как реликвии и назначены в чёрный день разогнать своим звуком роковые тучи, играть же должны они сами, а не будучи перебираемы пальцами.
– Ты слышал, рыцарь? – спросил судья. – На чём же, спрошу тебя, там играли, коли клавесина нет, а лютни заперты и освящены?
– Откуда мне знать? – упорствовал Кавалек.
– Но ты не отрицаешь всё же, что кто-то спустился в келью, а вслед за тем раздались звуки музыки?
– Что было, то было, – сказал Кавалек.
– Испытать по второму свидетельству! – крикнул профос.
И Анну снова опустили в воду, на этот раз палач держал её дольше.
– Как я зимой провалился в прорубь, так вышел из-под воды весь синий, – переговаривались в толпе.
– А Ганс-то под водой до десяти кукушечьих кликов сидит.
– Э, да тут дева, хлипкая…
Теперь свидетельствовал Фробелиус.
Он тоже подошёл к реке, ополоснулся и положил руку на Библию.
– Я ничего не видел, – сразу сказал он.
– Грех тебе, грех! – крикнул Трампедах.
– А верно ли, что обвиняемая была твоей невестой, юноша? – спросил судья.
Помедлив, Фробелиус ответил:
– Да, верно.
– Ты уверяешь, что ничего не видел, – сказал судья, – стало быть, ночью стоял туман?
– Туман, – подтвердил Фробелиус.
– Сын мой, возможно, глаза твои плохи и ты ничего не видел, но слух твой куда как хорош, иначе бы ты не играл так прекрасно. Смеешь ли ты утверждать, что ничего не слышал?
Фробелиус молчал.
– Рыцарь Трампедах и рыцарь Кавалек свидетельствуют, что они слышали музыку. Слышал ли музыку ты?
– Да, слышал, – глухо ответил Фробелиус.
– И какова же это была музыка, на что похожа?
– На игру клавесина, – ответил Фробелиус.
– Не лютни?
Фробелиус покачал головой.
– Ты слышал, рыцарь? – судья обратился к Кавалеку. – Наш славный музыкант подтверждает, что слышал игру клавесина, а, как известно, музицирование дьявола на суставах и рёбрах напоминает игру клавесина.
– Никаких напоминаний! – сказал бледный Фробелиус. – Это был клавесин, и только клавесин, ни суставы, ни рёбра.
– Но, сын мой, – сказал судья, – ты дал хорошее свидетельство, ибо клавесин всего ближе к музицированию дьявола.
– Это был именно клавесин! – закричал Фробелиус. – Уж если вы полагаетесь на мой слух, так я клянусь всем, чем угодно, что это был обыкновенный клавесин, весьма похожий звуком на мой!
– Ты уже клялся на священном писании, – сказал судья, – остальные клятвы неуместны. Достаточно одного показания о клавесине. Ты, разумеется, слышал, что этого инструмента в епископате нет.
– Как знать, – кричал Фробелиус, – может быть, здесь замышляют чёрное дело!
– Успокойся, сын мой, – сказал судья. – Сегодня ночь очищения. Любое чёрное дело отмоет вода, уничтожит костёр. Мы не судим Анну-Май, на суде, как ты знаешь, применяются пытки, ныне же мы подвергаем её испытанию.
– Вы утопите её!
– Отнюдь. Нынешней ночью вода не пойдёт в праведное тело, если же Анна-Май продалась дьяволу, то и тут жалеть нечего, ибо душа её давно изъята сатанинскими лапами.
– Подвергнуть испытанию по третьему свидетельству! – крикнул профос.
Хорошо, что плот далеко, я не вижу мучений Анны, за этим мокрым мешком я не могу представить её прекрасного лица, которое, вероятно, сейчас совсем некрасиво, и, может быть, оно чем-то сродни лицу проплывшего мимо меня Эксхольма…
– Свидетель, называемый Путешественником! Омой лицо в реке и клянись на священном писании!
Я зачерпнул тяжёлой воды, попробовал её на вкус и сказал тихо: «Помоги, Мать-Вода».
– Свидетель, отчего ты зовёшься Путешественником, а не открываешь христианского имени?
– Я путешествую инкогнито.
– Но кто может поручиться, что ты не беглый разбойник?
– Любой человек из епископата. Я привёз епископу письма от друга моего Хуана де Эспины.
– А кто таков Хуан де Эспина?
– Это человек, который подарил мне чёрный с золотом плащ.
– Много ли нам дела до твоего плаща, свидетель?
– Вам нет дела до моего плаща. Я только ответил, что Хуан де Эспина подарил мне чёрный с золотом плащ.
Судья в лёгком замешательстве.
– Мы не о плаще здесь толкуем, свидетель. Был ли ты в ту ночь рядом с рыцарем Трампедахом, рыцарем Кавалеком и музыкантом Фробелиусом?
– Я был рядом с ними.
– Что ты слышал и видел?
– Я видел и слышал многое. Я видел, что рыцарь Кавалек порвал свой плащ, я видел, что ров перед монастырской стеной не заполнен водой, а стало быть, штурмовать стены будет легко. Я слышал, как над головой моей пролетела птица, я слышал, как ратушный колокол пробил полночь.
– Видел ли ты, как в келью к Анне спустился дьявол?
– Ваша милость, в Мадриде каждую ночь можно видеть, как некто в чёрном плаще карабкается по стене дома. Поезжайте в Мадрид, ваша милость, там вы найдёте достаточно башен, и каждую ночь по одной из башен кто-нибудь да спускается. Я привык к этому, ваша милость.
– Ты хочешь сказать, что в Мадриде много дьяволят?
– Отчего же? Просто это влюблённые. Они плетут себе верёвочные лестницы, карабкаются на крыши, а потом спускаются в окно любимой.
В толпе оживление.
– Ты хочешь сказать, что это был не дьявол? – спросил судья.
– Я не знаю, кто это был, ваша милость. Только и всего.
– Но ты различил музыку?
– А как же, разумеется.
– Она неслась из кельи?
– Скорее всего, из города. Был лёгкий ветер, он доносил до нас звуки колокола, вполне мог донести и звук клавесина.
– Нам не требуется домыслов, свидетель, мы лишь хотим знать, слышал ли ты музыку.
– Но я и сейчас её слышу, господин судья.
– Ты слышишь музыку?
– Да, она играет у меня в голове.
– Но тогда она играла вне твоей головы?
– Я затрудняюсь ответить. Возможно, так, а возможно, эдак.
– Он путает суд! – крикнул Трампедах. – Музыка раздавалась явственно!
– В конце концов, ты не отрицаешь, что музыка была, вне твоей головы или внутри её. Для испытания это достаточно. – Судья поднял руку с колокольчиком.
– Испытать по четвёртому свидетельству! – возгласил профос.
И это было самое длинное испытание. Толпа напряжённо следила, как палач вытаскивает тяжёлый мешок из воды.
– Захлебнулась, – сказал кто-то.
В полной тишине плот приблизился к берегу. Палач сошёл на берег, неся на руках запрятанную в мешок жертву. Анну положили на траву, судья поднял руку.
– А как известно, если не выдержала она испытания, то на лбу её, на щеках, или где-нибудь на теле проступит водяная лилия и то означать будет, что состоит в сделке с дьяволом. Если же лилии нет, то продолжим испытание огнём. А если дух она испустила, то также будет означать неправедность, ибо в купальную ночь вода не станет убивать праведное тело. – И он приказал: – Начинайте.
Они сняли с Анны мешок, и сердце моё колотилось. Жива ли?
Кто-то сказал:
– Не дышит, синяя.
Ему возразили:
– Э, нет, а ну-ка откачивай.
Я отвернулся. Я слышал, как полилась вода, раздались надрывные горловые звуки, это Анна извергала воду.
– Ожила, – произнёс кто-то.
– Снимите одежду! – приказал судья.
– Нет! – вдруг дико закричал Фробелиус и кинулся на них с поднятыми руками. – А-а! – кричал он. – Убийцы!
– Держи его, держи руки!
Фробелиуса повалили, оттащили в сторону.
– Пся крев… – цедил сквозь зубы смертельно бледный Кавалек, рука его терзала рукоять сабли.
– Ищите лилию, – сказал судья.
Толпа сгрудилась в молчании.
– Вон та не лилия? – подсказывал кто-то.
– Синяк.
– Спину смотри.
– Тут родинка.
В красном озарении факелов, среди мечущихся теней они наклонились над телом Анны. Я вытащил пистолет и направил его в спину Трампедаху. Он словно почувствовал и обернулся, на лице его не было страха, лишь кривая усмешка. Я спрятал пистолет.
Судья встал и вытер руки о край плаща.
– На этом теле нет лилии, – сказал он торжественно. – Теперь нам огонь ответит, не таится ли цветок порока где-либо глубже. Под пламенем он покажет себя, если же нет, эта дева будет считаться очищенной и беспорочной.
Я подошёл к судье и сказал:
– Ваша милость, кто должен нести её к пламени? И есть ли на то указание в судебных уставах? Если такого указания нет, то не позволите ли мне отнести Анну-Май на Домберг?
– Как свидетель… – начал было судья с лицом, выражающим отказ, но тут же осёкся, потому что в карман его просторной одежды перекочевал увесистый золотой дублон.
Судья пошептался с профосом.
– Как свидетель, имевший отношение к событиям, вы можете сделать это, – сказал судья важно.
Я поднял её на руки, она всё ещё не открывала глаз. Я смотрел в её осунувшееся, сразу сделавшееся маленьким лицо, я увидел на лбу ссадину от грубой верёвки, а в углу губ потемневшую кровь. Она была нелегка, тяжесть придавала мокрая рубаха, мокрые волосы. Тогда я сказал:
– Надобно сменить ей одежду.
Судья кашлянул.
– Не полагается. Она станет сухой у костра, если не выступит лилия, тогда уж…
Я положил её на землю, снял плащ и завернул в него Анну. И снова поднял её. Вдруг она открыла глаза на мгновение. В этих глазах мелькнуло недоумение и ужас, будто человек спал, видел тяжкое сновидение, открыл глаза, но и тут его встретило страшное…








