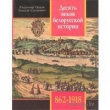Текст книги "Три жизни княгини Рогнеды"
Автор книги: Константин Тарасов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
Глава пятнадцатая
Дня три спустя зашла мать Анастасия к Руте. Редкими за разностью жизненных дел стали их встречи, несхожие волновали их заботы, ничего, что скрепляло бы прежнюю их дружбу, не происходило в уныло текущем времени последних лет; живя поблизости, теперь жили они врозь. Свекровь Руты умерла, зато старший сын Рудого женился, и уже внук бегал по избе, второму сыну подошли годы заводить семью, и общие дочь и сын входили в отрочество – тесно было у Рудого, жило здесь множество ртов, и немалого требовали они ухода. Редко выпадал Руте свободный час, а у подруги редкий час был занят; невольно Рута сравнивала такое течение судеб, и казалось ей, что Рогнедино горе едва ли хуже ее счастья. Да, обидел Рогнеду князь Владимир, взяв на виду родителей и кметов, но варяги и чудины десяткою над нею не насмехались; зарезали князя Рогволода и княгиню ножами, но и Рутину родню вырубили в тот же день, и дитя Рогнеда все-таки не теряла, и ныне все ее дети княжествуют, дочери взяты королями, за одним столом всем множеством не теснятся, из одной миски не едят, и сама Рогнеда хозяйка себе в своей келье… А их шестеро в одной избе, и ворчит старший сын на отца, и не любит сводных сестру и брата, и тесно Руте у печи с невесткою, а скоро и вторая придет. И в голодный год прокормит Рогнеду тиун или поп Симон, это уж ее воля, что она мало просит; а Рудому с Рутой никто не давал и не даст; что Рудый добудет, – тем и жили, пока старшие не подросли. А Полоцк. это княгине хочется в Полоцк, а Руте что в Заславле, что в Плоцке – одинаковая изба, те же заботы. Одиночество, пустые ночи? – да, худо одной, но чем плохи были Бедевей или Дорожир? Не князья – зазорно! Только князь. Вот, Владимир был князь, и что, слаще жилось? Черные одиннадцать лет монашества своей волей выбраны, ими гордость окуплена, но стоит ли она такой платы? Могла Рогнеда эти годы простой, доброй жизнью прожить, и дети новые росли бы теперь на утешение и радость, и ночью не холодило бы душу одинокое лежание. Был выбор, выбрала такую жизнь – за что жалеть?
Вот пришла Анастасия, а Рута хлебы печет, невестка ей помогает, и нет им времени отвлекаться, бездельно сидеть с монашкой, слушать ее речи. В другой день, более свободный, и они не против были бы поговорить, а сегодня некстати пришла мать Анастасия. Так ведь не скажешь: некстати ты, княгинька, приходи иным разом; сама должна догадаться, нетрудно разглядеть, чем заняты.
– Мой на охоту выбрался, – говорит Рута, чтобы что-то сказать. – Взбрело ему!
– Морозно на дворе! – как бы сочувствует мать Анастасия, а сердце радостно замирает – поехал, поехал Рудый, сдержал свое слово, и уже мысль ее подсчитывает ледовые версты, и выходит, что скакать Рудому полдня, а затем надо коню отдохнуть, самому согреться, и потому Рудый сегодня в Заславль не вернется, не поедет он в сумерки приманкою для волчьих стай.
– Вот и я говорила куда – мороз, сиди ты лучше в избе, мало ли дел…
– Вернется к вечере, – успокоительно говорит Анастасия, желая услышать подтверждение своим подсчетам.
– Должен, – колеблется Рута, но, подумав, прибавляет в полной уверенности: – Придет до сумерек. Какая ж охота в темноте.
Мать Анастасия и довольна, что Рудый поехал впотай от жены, и все же некая горечь осаживает на душе. Она чувствует этот холодный, как иней, налет обиды. Мать Анастасия понимает, что Рудый сдержал слово, чтобы не спорить с женой, не услышать разумный, но бесчувственный запрет: «Сиди-ка ты лучше в хате и не суйся в чужое дело. Ей ничего не будет – княгиньке, а тебе зачем на свою голову беду звать? Мало своих хлопот на дворе?» Или еще суровее и построже: «Хотелось бы детям увидеть мать, давно бы появились. Они не едут, значит, знать ее не хотят – а ты гонцом прешься».
Анастасия посидела недолго, чувствуя свою ненужность в этой избе и вообще в Заславле, и пошла назад в келью. Но не тяготило ее сейчас это чувство ненужности. Понимала она свою бывшую подругу; признала Рута, как и все местные люди, что княгиньке из черниц не подняться – как они могут ей помочь? Да и кто не изверится ждать для нее перемены; последним нарядом висела на ней черная, выношенная до дыр монашеская одежда…
Мать Анастасия села в кут, и мысль ее догнала Рудого на звонкой дороге, выметенной ветрами до сверкающей чистоты. Рысит конь среди высоких приречных сугробов, разносится эхом топот по спящим лесам, и скоро, думает мать Анастасия, все начнет исполняться. Исполнится ее мечта: приедет сын, она сбросит черную хламиду, обнимет внуков, Изяслав увезет ее в Полоцк, и княжеским именем будут называть свою бабку маленькие Всеслав и Брячислав. Пусть мчит Рудый – единый ее помощник и кмет. Не может она нанять варягов, чудь, мерю, пообещать им на разгром города; нельзя ей рассчитывать на мечи, нет у нее дружины и воев… Только живая память спасет ее, та боль, которую терпел вместе с нею Изяслав; он все должен вспомнить: ее восстание, ее любовь, ее сказки, ее завет. Пусть мчит Рудый, пусть летит в Полоцк ее зов… Она вознаградит Рудого за эту одинокую скачку по Свислочи сквозь мороз, за его веру и помощь. Она возьмет Руту с собой; вместе их вывезли двадцать лет назад, вместе с Рутой она вернется. Нет, она не забудет Руту, не оставит тосковать в чужом, позабытом Заславле; они войдут в Полоцк, все увидят их, вспомнят давние, убитые годы и воспрянут душой… Это будет победа, счастье после многолетнего странствия по страданиям.
Смутно колебались перед глазами Анастасии виденья неких новых срубов, надворотных башен, княжей избы, где поведет службу поп Симон, и высокой стены из дубовых городен, неприступных для князя Владимира. Увиделось ей летнее утро в Заславе, последнее утро заславского заточения, тиун Середа низко склонился с долгожданной вестью: «Княгиня, прибыл твой сын.» Она скинет проклятый скорбный платок. она бежит. и вот он, ее Изяслав, на том самом месте, где разлучили их Добрыня и Бедевей, и вечность, протекшая с того дня, превратила рыдавшего мальчика в статного мужчину, в умного, сильного мужа, в Рогволода наследника, в князя Полоцкой земли. Она вглядывается в незнакомое и такое знакомое лицо, отыскивая памятные черты, а он вглядывается в лицо матери, возвращаясь через прожитые годы в детство, не узнает ее, взгляд его напрягается, он прилагает к ней – седой, усталой, порезанной морщинами – давний, сохраненный в сердце молодой ее облик. Вот узнал, сердце его дрогнуло, он ступил к ней, и слеза, слеза в глазах – живая вода для ее новой жизни.
В сумерки, в урочное свое время появился поп Симон, и вечер потек обычным порядком, повторяя сотни точно так начатых и прожитых вечеров.
– Что почитать тебе, мать Анастасия?
– Что хочешь, отец Симон.
Отец Симон решил читать про Иуду. В былые чтения Анастасия сталкивалась с попом на этом рассказе. Она спрашивала: «Ответь, поп Симон, если было суждено пострадать твоему Христу, то и Иуде было суждено предать? Одного Господь послал на крест, – другого – получить за то деньги. В чем же вина его, если исполнил он не свою волю?» Поп Симон возражал: «Двенадцать учеников было у Христа. Всем было дано тянуть злой жребий, а предал один, и предал из корысти. Великий смысл сокрыт в этом рассказе: всегда отыщется слабый духом, кто предаст. И мы, помня о том, должны выжигать в себе язву корысти». Но сейчас не откликнулась мать Анастасия на смысл Иудиной судьбы: подчеркнуло серебро грубость его предательства. А если не за серебро предают – как тех назвать? Разве ее саму так не предавали?
Поп Симон, заметив в Анастасии некое скрытое беспокойство, стал читать об искушении господа в пустыне. Но и подвиг твердости Христа не затронул мать Анастасию. Сорок дней терпел, думала она. Вот потерпел бы он одиночество одиннадцать лет. Сорок дней нетрудно держаться, а если год за годом искушают забыть свою правду – как выстоять? Ведь и поп Симон против; радостно будет ему, если я от своих надежд сама откажусь. Каждый своим дорожит; вот и она не отречется, хоть предавали и еще предадут…
«Симон, добрый мой Симон, – говорила она ночью, – духом привязалась я к тебе, потому что ты единый на свете, кто любит меня бескорыстно, как бедную бедствующий брат. Любил меня отец, но рассчитывал получить на мне княжеские выгоды. Твердили мне, Симон, что для того я женщиной родилась, чтобы Полоцку принести пользу.
Живая, светлая становилась я пред полоцкими мужами, а они, глядя на меня, видели корысть для земли. Могло иначе свершиться, чем свершилось… Мог Ярополк победить, могла я убежать от Владимира на волоке, могла обезуметь, броситься в омут, уйти в лес к волхвам. Но изначально была я обречена; эта обреченность до сего дня во мне – ничто ее не вытравило. Поэтому не виню полоцких стариков, решавших мою жизнь, как жизнь овцы; так устроена жизнь, что никому нет воли, а нет воли – нет и милосердия, которого требует твой Бог… Все обуяны корыстью, и ты, поп Симон, тоже: не берешь ты гривны, зато требуешь веры. Князь Владимир – покорности. Покажи мне того, кому ничего не надо. Нет таких! Покажи мне таких, кто дает и не ожидает возврата.»
«Что пугает тебя, мать Анастасия? Зачем винишься?»
«Одиночество, отец Симон. Вынуждена просить».
«Кого, мать Анастасия?»
«Всех, отец Симон. Чувствую, всех придется просить. А знаешь, кто просит? Кто побежден – вот кто просит. Кто слаб, убог, нищ, кому плохо и страшно. Все – против кого судьба. Да, гордый не просит – он терпит. Если терпит, то и просит, только немо».
«Кто возвысился, – шептал отец Симон, – тот не просит и не терпит. Все равно кому делать добро, лишь бы оно создавалось».
«Отречься, да, поп Симон? Для того они меня и остригли, чтобы где угодно, только не там, где хочу».
И мать Анастасия рассказала про Рудого. Отец Симон долго молчал, принимая неизбежность разлуки. Она чувствовала, как он напряженно замер, и слышала прерывистый стук его сердца, и не могла сказать утешительного слова – все были бы лживы.
«Вот и все, мать Анастасия, – глухо, как бы из пустоты, сказал Симон, – летом уйдешь…»
«Раньше, отец Симон, – ответила она, – надеюсь, на Великдень».
«Если Рудому не удастся, – сказал он потверже, как бы смирившись, – я сам схожу».
«Почему же не удастся? – спросила Анастасия. – Удастся. Теперь все мне удастся».
«Мать Анастасия, – вздохнул Симон, – мать Анастасия. Могут и не послушать его. Кто помчит средь зимы в Полоцк? Уж лучше скажи, мать Анастасия, Середе. Он – от Изяслава тиун, послушается, выправит обоз».
«Нет, отец Симон, не могу просить Середу, – возразила она. – Он, может, и послушается. Но столько лет досматривал за мной; ему открываться – что на колени стать…»
«Помоги тебе Бог, мать Анастасия», – прошептал поп Симон.
«Погоди, отец Симон, – шептала она, – погоди прощаться; разве конец? Неизвестно, что Рудый скажет. Может, ты будешь прав, и не стали его слушать…»
Но говоря «Не стали слушать», мать Анастасия верила, что менский тиун выслушает Рудого, а выслушав, поразмыслит и завтра же выправит людей в путь. Потому что, не пересылая ее вести, он решает за Изяслава его дело и становится против князя – кто же потерпит? Нет, не посмеют пренебречь, а уж как далее сложится – тут и загадывать нельзя, чтобы не сглазить. Надо, крепясь духом, ждать…
Пришло утро. Тягуче потянулось светлое время. Хоть раньше полудня, считала Анастасия, вернуться Рудый не мог и прежде, чем прийти к ней, пробудет должный час дома, она сидела в настороженном внимании, ожидая желанного стука в дверь. В полдень она решила встретить Рудого у ворот, ей казалось, что он уже прибыл. Воротная стража ответила ей, что Рудый не проезжал. Мать Анастасия поднялась на обзорную вышку; напрасно вглядывалась она в даль ледяной дороги – не мелькала на излучинах знакомая конная фигура, и тишина, пустынность реки навевали тревогу. Прождав полчаса, Анастасия взволновалась и пошла к попу Симону.
– Отец Симон, проедь по Свислочи, что-то страшно…
Тот немедленно стал собираться. Мать Анастасия вновь вернулась на вышку; по-прежнему пустел весь видимый путь, изредка каркали в своей роще вороны, зловещие их крики пугали Анастасию. Скоро выехали из города сани с отцом Симоном и звонарем, спустились на лед, закрылись лесом, мелькнули на поворотах и скрылись из виду вовсе.
Мать Анастасия отстояла на студеном, вспышками бившем ветре до их возвращения. Как раз появилось солнце, вспыхнули блестками снега, и гонко вылетели из-за лесного заслона сани. Она увидела Симона и звонаря, но как-то мрачно они сидели. Мать Анастасия бросилась вниз, выбежала из ворот, и здесь, почувствовав беду, обреченно пошла навстречу новому несчастью.
Вот встретились. Поп Симон поглядел на нее с состраданием и показал рукой на сани. Там лежали плоский дерюжный сверток и седло.
– Что? – не поняв, спросила она.
– Волки, – объяснил звонарь. – Всего и осталось – меч. От него меч, от коня – седло. – Он тяжко вздохнул и повел сани в посад отдать семье вещи.
Мать Анастасия побрела в свою келью, закрыла дверь на запор и, как удавленная, повалилась на лавку. Почти вослед дверь задергалась под рукою отца Симона, и проник в избу его отчаянный, как стон, голос: «Мать Анастасия! Открой мне, мать Анастасия!» – «Молюсь, поп Симон!» – сказала она и более не отвечала.
Надо было подняться и пойти на несчастный двор, где уже отмечали плачем внезапное сиротство дети и голосила Рута, проклиная нежданное и конечное крушение жизни. Мать Анастасия знала, что ей необходимо идти, и не могла встать, прибитая тяжестью мучительного прозрения – жила она для своих и чужих бедствий. Себе надо было говорить правду: Рудый погиб, исполняя ее дело; она была виновницей его страшной смерти, и Рута, проклинавшая сейчас судьбу, могла с равной правотой проклинать ее, Рогнеду, свою подругу.
Глава шестнадцатая
И все же мать Анастасия пришла к Руте и пережила здесь свой худший час. «Зачем, зачем была ему эта охота?» – взывала в прошлое Рута, и колом входил в мать Анастасию этот вопрос. Пожалел Рудый обездоленную княгиню, и за эту жалость разорвала его стая волков.
Слышался матери Анастасии костяной лязг волчьих клыков, видела она перед собой полукружье безжалостных глаз, кровавое месиво, разбросанные по льду кости – дорого брала судьба за ее путь назад; неужели все кровью и кровью, и это не последняя, думала мать Анастасия.
Чуть позже рассказал ей поп Симон, что увидел на Свислочи: как заржала и остановилась лошадь, как мутило их со звонарем от вида обмерзлых кровяных полос и пятен, как рубили секирой полынью и заталкивали под лед мерзлые останки, куски кожуха, сапог, конский череп, чтобы не обезумели от страшного зрелища сыны и Рута, если бы вздумалось им поехать на место отцовской гибели. Меч же и седло привезли в подтверждение смерти. Мать Анастасия плакала, жалея и винясь; поп Симон ее утешал.
Как грешница, заходила она теперь к Руте. Точило ее желание стать посреди избы на колени и сказать им, терпевшим печаль: «Бейте меня, это я послала его!» Но нельзя было открывать такую тайну, и мать Анастасия засела в избе. Рута сама пришла к ней – седая, скорбная, обессиленная – как бы прощаться перед смертью. Рудый погиб, защитить ее некому, и сокрушается вся жизненная основа: женатый пасынок гонит ее с детьми прочь, может, дотерпит до весны, а куда весной? Одно остается – отдать детей в работники людям, а самой выйти ночью на лед, зажмурить глаза и призвать ту же стаю…
– Что ты, Рута, ты что, – кинулась ласкать подругу Анастасия. – Не хорони себя. Я помогу, – и поняла, как поможет.
Мать Анастасия пошла к тиуну. Тот спал после обеда, Анастасия велела его разбудить.
– Середа, – сказала она властно, – никогда не просила у тебя ничего, а теперь прошу. – Тиун насторожился. – Прошу, мне это важно. Помоги Рудого жене. ты ведь знаешь – она моей ключницей была, подруга с детских годов. Пасынок ее не стерпит; где ж ей жить? Заступись.
– Чем же я помогу? – вздохнул тиун; бытие Руты его не волновало. – Сама подумай, княгиня. Избу срубить? Пахать, сеять, косить? Корову дать? Разве одна она сиротствует?
– Но разве ее дети от Рудого бесправны? – спросила Анастасия.
Что ж поделить у них? – усмехнулся тиун. – Избу надвое? Анастасия задумалась, словно оценивая истинность его ответа, и предложила:
– Так отпусти ее в Полоцк. Князь Изяслав на свой двор возьмет. Я напишу ему…
– Пусть идет, – согласился тиун.
– Идет! Недалеко она уйдет в такую пору. Сани дай, Человека в охрану. Скажи пасынку, чтобы харчи с нею разделил, овес. Вот уже и двое саней надо. Ты не бойся, твое не пропадет – еще и прибавится. Рута для князя Изяслава не чужая, до семи лет нянькой была.
– Хорошо, княгиня, – кивнул Середа. – Сделаю.
Вот и все, думала Анастасия, теперь Рута вернется в Полоцк. Вот какой случай ей потребовался – волки и кровь. Вот кто расскажет Изяславу всю правду, всю ее жизнь в полноте бедствий. Неужели эта кровь откроет дорогу и ей, бывшей княжне Рогнеде, бывшей княгине Гориславе, бывшей монашке Анастасии… И было суждено Рудому своею смертью отпустить на родину жену? Уж и позабыла Рута о Полоцке, а придет туда первой. Неужели эта сцепка случайностей обретет смысл и знали про нее те вечные вестницы? Мать Анастасия стала оглядываться вокруг, но три богини ей не показались…
Через неделю Рута покидала Заславль, увозя берестовую грамотку Изяславу. Анастасия написала: «Сын мой, князь Изяслав. Рута была твоей мамкой. Вспомни ее, выслушай и позаботься. Жду тебя, князь. Княгиня Горислава».
Анастасия провожала старую свою подругу до Свислочи. Впервые они разлучались, и могло статься, думала каждая, навсегда. Путь предстоял суровый, но мать Анастасия верила, что Рута обязательно доберется: тиун собрал трое саней, на такой поезд волки днем не полезут, а нападут – трое возчиков от них отобьются; дней через десять увидит Рута князя, отдаст грамотку, и начнется ее новая жизнь. А спустя некое время прибудет сюда Изяслав, заберет свою мать, тогда начнется новая жизнь и для нее…
Сани сошли с берега, и как-то весело заскрипел под полозьями лед. Уже и не видно стало поезда, и загас его шум, а мать Анастасия стояла на месте прощания, пока не пришел за ней поп Симон.
Вечером они сидели в избе, отец Симон читал на память из Библии. Вдруг послышался за стеной легонький скрип под осторожными шагами; с такой осторожностью Сыч не ходил. «Что это он так боязливо?» – подумала мать Анастасия и внезапно поняла, почему и как погиб Рудый. Словно туман развеялся, и увидела она с ясностью очевидца, что произошло на Свислочи в тот злопамятный день. Сошлись в единую связь разные события, и мучительная загадка раскрылась. Вспомнила она, как Сыч лез на вышку, а Рудый отдавил ему руку – что-то он тогда и подслушал. И еще вспомнила злой взгляд Сыча, каким буравил он Рудого при отъезде. А далее было так, говорила она себе: близко к вечеру Сыч выехал на лед, затаился, а когда Рудый прорысил мимо, выстрели ему в спину. Он убил, а волки съели… «Входи, Сыч, – обрывая попа Симона, крикнула Настасия. – Что мерзнешь, ровно волк!» Он вошел, осклабился: «Вечер добрый. Проходил рядом, а тут ты зовешь!» Ох, звериный, звериный лик! Вот кто у них был вожаком. Мать Анастасия и вонзилась в Сыча безжалостно и пытливо: убивал или невинен? У Сыча забегали глазки – он, подумала она, и подумала: они у него всегда бегают – может, не он? Дознайся теперь; кто без совести, тот своего зла не помнит; если и убил, то затерлось в памяти за минувшие дни.
– Садись, Сыч, погрейся, – сказала Анастасия.
– Нет, пойду, дела, – не решился страж.
– Ну, иди, кивнула Анастасия. – Иди, иди.
А ночью приснился ей сон. Близится вечер. Поп Симон сидит в углу и читает про Содом и Гоморру. Слушая его чтение, она толчет и бросает в горшок цикуту, немного мяты для запаха, чебрец, ложку меда. И уже булькает зелье на тлеющих угольках. Вот заскрипел снег, приникло к слюдяной пластине ухо. «Входи, Сыч!» – просит она. Он входит. «Садись, Сыч!» – говорит она. Он садится. А поп Симон продолжает читать, он как бы не видит и не слышит, что делается в избе. «Холодно на дворе?» – спрашивает она Сыча. «Ох, морозно!» – отвечает он. «Выпей вот, согрейся», – говорит она и наливает ему парящее темное питье. «Выпью, – кивает Сыч, – отчего же не выпить!» Она поднесла ему кружку, а он принял. Тут поп Симон на мгновенье умолк и посмотрел на нее с удивлением. А Сыч махом влил отраву в широкую свою глотку. «Ну, иди, – сказала она ему привычно. – Иди, иди!» – «Ну, пойду», – ответил Сыч и вышел. Она опустилась на лавку и заметила, что поп Симон опять умолк и пристально в нее вглядывается. «Ты не гляди, отец Симон, – сказала она, – ты читай, читай». Прогудело било, и отец Симон позвал ее в церковь. Она решила идти с ним в церковь, но только вышла во двор, как ноги повели ее к надворотной башне. Поднявшись по скользким ступеням, прошла она мимо Сыча, дивясь, что он еще жив. Она взобралась на вышку и увидела закатное солнце; радостно граяли, кружа над рощей, вороны. Это они по Сычу грают, поняла она. И точно, тот в башне начал как-то шатко ходить, вздыхать, потом услышались его стоны. Вдруг он полез к ней наверх. Она слышала, как цепляется он цепенеющими руками за ступени. Что-то он говорил. Она уловила: «Убью, убью!» Тогда она наклонилась над лазом и сказала с беспощадной суровостью: «Что Рудому, то и тебе!» Сыч захрипел и замер. Она сошла вниз, обошла мертвое тело и пошла в избу. Тут вылила она в печь остатки настоя – они вспыхнули и потянулись в дыру зеленым дымом… А утром пришел к ней поп Симон и глядел на нее с укором и жалостью. «Что, жаль Сыча? – спросила она, понимая, что он догадался. – А Рудого не жаль?» – «Бог наказывает, – ответил он. – А тебе зачем грех?» – «Бог на том свете наказывает, – сказала она, – а здесь – люди». Отец Симон не ответил ей, и она услышала в наступившей тишине, как крошится сокровенность их дружбы… «Прости, мать Анастасия», – сказал Симон и ушел. Она поняла, что он удаляется навеки. «Не оставь меня, Симон!» – закричала она и проснулась…
И услышала, что поп Симон тихо постукивает в окно. Она впустила его и прижалась к нему, как к спасителю. «Отец Симон, я боюсь себя, – шептала она. – Жестока я стала; гибнут из-за меня люди, и сама хочу губить…» – «У тебя не жестокость, – утешал Симон, – усталость. Когда душа утомится, она и счастья, и наказания хочет немедленно, нет у нее сил ждать, страшно ей, что не дождется…» – «Да, отец Симон, бывает мне страшно». – «Одно есть исцеление, мать Анастасия, – говорил он, – крепить дух». – «Ах, Симон, Симон, – шептала она, – что дух, если нет ему действия. Одно действительно живо на этом свете – сердце! Вот бьется оно, горит – это жизнь. А сострадание и утешение – туман над пустошью. Пустота, отец Симон. Что от скорби Рудому? Что от сострадания Руте? И я хочу жить. И теперь не знаю как. Я стала злая. Я во сне человека убила, не зная, виновен он или нет. Значит, и наяву смогу. молчи, молчи, отец Симон. Я все знаю о себе… Проведи руками, горит моя голова.»
Под рукою Симона остыл жар в голове, матери Анастасии стало спокойно, она задремала.