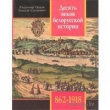Текст книги "Три жизни княгини Рогнеды"
Автор книги: Константин Тарасов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
Глава одиннадцатая
Коса и платье сгорели, пламя в печи стало угасать, дым, слоившийся под потолком, вытянуло сквозь узкий волок над дверью, и какое-то немалое время протекло для Рогнеды в вязком удивлении перед необычностью придуманной для нее казни. В избе посвежело, легким холодком потянуло по земляному полу, гнетущая оторопь прошла, и уже не мелькали в памяти бородатые рожи угрюмых кметов, усмешка Добрыни, черный глаз попа, и, остыв, начала отступать перед трезвою силою жизни боль беззащитности. Рогнеда поднялась, села на лавку, и, чувствуя спиной шершавые теплые бревна, сухой колкий мох равнодушно глядела на лежавшую на полу мрачную, как кострище, рясу.
Свершилось, думала она, самое важное исполнилось – сын едет в Полоцк, сейчас он в пути, войско движется, и всех он там старше – ее сын, маленький мужчина, юный князь кривичской земли, глава полочанского рода. Так о чем горевать, если осуществилась мечта? Не так осуществилась, как мечтала? Пусть! Какая мечта исполняется точно? К любой радости боги примешивают горечь. Так зачем терзаться? О чем страдать? О белой рубахе, собольей шапке, красных княжеских сапогах, увезенных или сожженных Добрыней? Прав был волхв: суета незрячести это все; в княжеском ходила – жила рабой, можно в черном ходить и веселиться, что княгиня, мать полоцкого князя, что Изяслав не изгоем в глуши, а взрастет на отчине, на извечно своей земле. Немалая цена за такую одежку. Только она и белых одежд дождется. Дождется! Это добывное. А волосы сами отрастут. Кто ждет, тот и жив…
Вдруг проскрипела дверь и вошел, пригибаясь под притолокой, поп Симон – рослый, черные в завитках волосы падали из-под шапки до плеч, и глаза у попа тоже были темные.
– Здравствуй, инокиня Анастасия! – ласковым голосом говорил поп, еще не видя ее, отыскивая ее взглядом, и онемел, разглядев ее голую. Тотчас он и ринулся вон из избы, как от гадюки.
«Инокиня!», «Анастасия!» – повторила она, испытывая к попу глухую и глубокую злобу. Явился, ворон ромейский, подумала она. Или совести нет, или ума нет. Раздели, остригли, переселили. переименовали – «инокиня Анастасия». Старый приблудный грек пропел «Отрекается» – и по-ихнему меня не стало, умерла, исчезла. Косу обрезали, черную сорочку всучили и отдали своему богу. Тут и страж от него: «Здравствуй! Пришел дух крепить, ибо чего князь Василий пожелал, то и правда!» Так ли, поп, просто? Идолов вы срубили, волхва зарезали, кресты на людей надели – по-вашему больше нет нашей веры, все, как овцы, побрели на ваш выпас? Э-э, нет! Вот выйду, и сейчас же возгорится затоптанный вами костерик.
Рогнеда надела рясу, повязалась платком и вышла на двор. Пусто и тихо стало вокруг Заславля с уходом Добрыни, лишь густо валялся сор от тысячного войска и множеством кострищ рябела земля. У капища безмолвно стояла небольшая толпа баб. Рогнеда протиснулась вперед и увидала мертвого волхва – как зарубили его дружинники, так и лежал он окровавленный среди щепы от посеченного идола.
«Схороним вещуна, люди!» – сказала она, чувствуя себя главной и ответственной; ей подчинились. Она и сама стала носить с кострищ недогоревшие поленья. Несколько старух заголосили, и этот положенный привычный плач всех приободрил. Какой-то умелый старик расчетливо укладывал плахи и утаптывал хворост, Рогнеда со старухами взялись обмывать волхва, а кто-то догадливый принес из лесной его пещеры смертный наряд – льняную рубаху, пояс, обереги, кий. Убранного, обмытого и словно подобревшего от заботы волхва положили на приготовленный костер. По хворосту рассыпали уголья, раздули огонь, пламя быстро разгорелось, костер заурчал, и столб дыма потянулся к небу, колыхаясь под легким ветром…
Волхв отлетал в страну Ирей, таинственную страну предков, душа его, освобожденная и очищенная огнем, поднималась к поднебесью на вечные пути святых птиц, единственных из живого, кому боги разрешают видеть людков, рассказывать им о живых, а потом возвращаться к живым, принося на белых крыльях заветные слова дедов. И прощаясь с волхвом, Рогнеда просила: «Скажи, вещий, князю Рогволоду, что внук садится на его место, и род наш, подрубленный, не пресекся. В светлый день радуницы князь, и мать, и братья могут посмотреть на преемника, он знает их имена, он ждет их в свои сны. Восстанет Полоцк, народят кривичанки новых воинов, поднимется наше племя.» Летит, уже летит приветное слово в Ирей, туда гнется дым, туда дует ветер, неся под облаками гордую душу волхва…
Дым развеялся, уголья догорели, стала расти на старом капище могильная насыпь. И вот тут, когда бросали горстями землю, Рогнеда огляделась, что сошелся на погребение весь Заславль, даже тиун промелькнул в толпе. Некая злая радость сквозила у всех в глазах, будто последняя честь волхву снимала с сердца тягость вынужденного крещения, подчиненности и позора, и разрушенные княжескими попами устои вновь обретали былую прочность. Они так – мы этак!..
Был волхв и ушел, душа его летит над реками и лесами, Киевом, Днепром, морем, за тридевять земель в сады с золотыми яблоками, где отдыхают от бедствий жизни пращуры и предки. Там покой, нерушимая беззаботность, а здесь жизнь ткется из обязательности малых дел. Вот солнце пошло на закат, смеркается, мычат недоеные коровы, народ вспомнил свои хлопоты и разобщился по дворам в уверенности, что ничего не переменилось и не переменится никогда.
Толпа рассеялась, Рогнеда одиноко вернулась в избу. Запалила лучину и застыла возле нее, слыша в себе крепнущий ток уныния. Огонек дрожит, трепещет, одинокая искра медленно падает на пол, стены затягиваются мраком, в избе густеет мертвая тишина, ни сверчка, ни мыши, даже сердце перестало стучать. Немощный огонек неспешно поедает тонкую щепу, высвечивая некую страшную истину тишины. Одиночество – вот эта истина. Тоскливо вползает она в душу, вытесняя недавнюю короткую радость мятежа. В тусклом свете чадящей лучины гаснут прежние обманные видения и открывается срез будущей жизни: никого рядом, ничьей помощи и заботы.
Двадцать два года, думает Рогнеда, мне двадцать два года, и столько же, наверно, отпущено вперед, а зачем? Впереди темень, непроглядная унылая ночь. Как эту черную ночь прожить? Зажжется ли свет? Когда? Кто зажжет? Захлебнулись кровью отец и мать, полегли в кровавых лужах дядя, родные и двоюродные братья, Ярополк зарублен мечами, волхв тоже зарублен, и еще тысячи людей зарезаны, и еще сотням порубят костяки в тех местах, куда идут Добрыня и старый грек. А она стоит в теплой келье, дышит, видит, думает, но уже никто не придет ее рубить, потому что мертвых и умирающих не рубят. Никому она не нужна, даже детям. Они нужны ей, а она им – нет. Прояснились их пути, развезены они в разные города, без нее вершатся их судьбы, а дочкам сказано, что мать умерла. Нет Рогнеды, нет княгини Гориславы, осталась от них смутная память, а в бегущую минуту стынет, пронизанная тоской, в тесной, как могила, избе, в черной, как смерть, рубахе некая инокиня Анастасия. Пусто вокруг, нет грядущего, и тоска прозрения не дает обмануться надеждой. Дети отобраны, Владимир превратился в Василия, отдал за царевну шесть тысяч воинов, они сгинут в чужой земле, зато он в одной вере с ромеями, все у него будет как у них, все похоже, один Василий в Царьграде, другой в Киеве, там попы, здесь попы, он стал наравне с базилевсом, а ее, ее столкнул он в бессмыслие жизни. Была кривичская княжна, киевская княгиня, сделалась одинокая печальница, тень изъятого существа, некий обрубок без прошлого и будущего. Даже это жилье, эта келья для инокини Анастасии – обрубок от полоцкого княжеского дома, киевского двора, комора от той пятистенной избы, в какой жила она с Изяславом и какую отняли для попа. Да, тень, бледная тень от гордых мечтаний…
Но нет, здесь он оказался несмел, подумала Рогнеда, он несмел, князь Владимир, он повторил чужую храбрость, болгары и ляхи крестились раньше, и ничего боги им не сделали, и старые их боги примирились с новым. Наверное, так надо, и он поступил умно и правильно, но нет смелости в его крещении. Но поступив по уму и расчету, он лишил меня имени, а вместе с ним и моей малой власти и небольшой силы, которые я должна иметь как княгиня, дочь Рогволода, кривичская княжна. Страх и малодушие владели им, когда он решил отнять мои имена. Чего-то князь Владимир побоялся, каких-то забот, беспокойства, мятежа. Все достояние отняли они: землю, детей, власть. Все они могут отнять, что вокруг меня, но ничего, что во мне. Ну, совсем ничего, решила Рогнеда. Они остригли меня. Но душа во мне прежняя, и желания мои им не изменить. А когда и как они исполнятся – дело судьбы. Пусть отдохнут, как земля зимой под снежной защитой. Пусть дремлют десять лет, пока вырастает мой сын. Вот мой срок терпения.
Глава двенадцатая
Обычно на сломе дня, когда сквозь слюдяное окно уже не просачивался в избу сумеречный свет и мать Анастасия зажигала лучину, скрипела дверь, и отец Симон переступал порог. Отец Симон входил, крестился на икону, давно отданную Анастасии в дар за исцеление, и садился в кут. Анастасия безмолвно ждала привычного вопроса. Симон тоже молчал в напрасной надежде, что она заговорит первой. Обоюдное молчание затягивалось и, увязнув в нем, поп Симон с хрипотцой в голосе от смущения обрывал эту нудную тишину.
– Что почитать тебе, мать Анастасия?
Читал отец Симон из Библии по памяти.
Анастасия называла: про братьев-мучеников. Но у отца Симона была своя цель, он тотчас возражал: «Про братьев много раз читано, лучше новое почитаю».
Анастасия прислонялась к печи, готовая слушать, и следила, как худое усталое лицо отца Симона светлеет, а черные искристые глаза начинают видеть нечто нездешнее, и вот уже он и духом не здесь, в тесной избе, а в тех давних пустынях и городах, где родился, ходил и умер на кресте его Бог. Отец Симон говорил, она слушала и еще слышала, как за стеной привычно крадется под окно вечный ее надзиратель Сыч. Но лепиться ухом к окну его давно не обязывали – подслушивал Сыч от скуки.
Отец Симон читал, а по чтении крестился и с этим крестом словно возвращался из сурового странствия в родной дом – добрел, улыбался и говорил Анастасии, чтобы и она прозрела: «Великую мудрость дал Господь в своих книгах». Анастасия просила еще почитать. Но если отец Симон читал из Евангелия, а потом говорил: «Великую мудрость дал Христос: возлюби врага своего!» – Анастасия немедленно и круто возражала: «Врагов возлюбить – зачем?» – «Возлюбишь врага, – доброжелательно отвечал отец Симон, – и не станет врагов!» – «Значит, на колени стать?» – спрашивала Анастасия. Поп Симон выдерживал порицающий взгляд и толковал свою правду: «Сдаться – одно, возлюбить – иное. Что слабый, что сильный – есть разница? Или понять не можешь?» Начинали спорить. Или если поп Симон говорил славословно: «Ради спасения человеков принял Иисус смертные муки!» – Анастасию передергивало: «Полдня на кресте провисел – неземные муки! Больно ему было, больно! А муки тут при чем? Другая баба при родах больше намучится». У отца Симона наливался кровью шрам, криво – через лоб, щеку, к шее – пересекавший лицо: «Баба! При родах! Духа нет… А то Бог в людском образе…» – «А тебе, отец Симон, – торжествуя, говорила Анастасия, – когда ребра перебили, месяц кровью отплевывался, и лицо посекли – тебе тоже больно было. А чем мучился? Плоть болела, жилы порванные. Всего-то!» – «Душа мучилась, – кричал поп Симон, – что люди глухие, истины не слушают, бродят во мраке подобно скотам». – «Все подобно скотам, один ты, поп Симон, на свету человеком», – усмехалась Анастасия. И оба спорили до глубокой ночи и расставались, обессиленные безнадежностью убедить в своем. Но иной раз вовсе не враждовали, слушали друг друга с участием и расходились умиленные.
За десять лет таких споров прошло тысячи. Не все вечера были похожи: иногда отец Симон рассказывал не из Библии, а из своей жизни, иногда рассказывала мать Анастасия, а поп Симон сострадательно внимал, иногда Сыч бражничал и забывался подслушать, иногда слушая, начинал зевать (сквозь окно слышались утробные его зевки), иногда являлись на беседу монашки Прасковья и Ефросинья, иногда поп Симон неделями не появлялся, уходя в апостольские походы, из которых редко приходил нетронутым, иногда мать Анастасия неделями никого не впускала в избу. Даже отца Симона, хоть он утром, днем и вечером подходил он к окну и звал:
– Что делаешь, мать Анастасия?
– Молюсь, поп Симон!
– Что не ешь ничего, мать Анастасия?
– Пощусь, поп Симон! – отзывалась она, и тот отходил прочь с тяжелым вздохом.
Вздыхал поп Симон оттого, что угадывал истину ответа – «никто не нужен». Сердце подсказывало ему, что мать Анастасия не молится – лежит ничком, упершись горестным взглядом в стену, не думает о Боге – страдает, а не ест из безразличия к себе и жизни.
Мать Анастасия лежала пластом, отыскивая теряющийся смысл своей нужности на земле. Смыслом были свобода, возвращение на отчую землю и месть. Он терялся, потому что время текло и уходило, дети выросли при чужих людях и зажили своей жизнью, забыв о ней, а для нее ничего не переменилось. Время текло и размывало ее правду. Ее самое забывали; может быть, уже и забыли, как мертвую. Только в этом маленьком Заславле знали, что она жива. Надо было вырваться из забвения. Как? Всю жизнь она была одинока; никто не решился прийти к ней сквозь пелену лжи и запретов. Кто решится теперь? У кого хватит памяти, силы, смелости, желания? Мать Анастасия лежала в удушье безнадежности, а под окном топтался поп Симон.
– Что делаешь, мать Анастасия?
– Молюсь, поп Симон!
Она была одинока, но и отец Симон был одинок: жена его на втором году здешней жизни зачахла и, недолго полежав, скончалась. Отец Симон принял смерть жены как испытание своей веры и понес Христово учение в окрестности Заславля. Мать Анастасия сказала ему однажды, уже когда подружились: «Я потому терплю твоего Бога, поп Симон, что ты живой». Сказала она так потому, что возвращался поп Симон из своих хождений с пореженными зубами, побитый или потоптанный. С Анастасией в начальный год ее монашества он держался строго, прикрывая строгостью свое смущение. Смущала отца Симона судьба монашки. В иные часы охватывало его недоверие собственным глазам; он глядел на мать Анастасию и сомневался: должно ли так быть? почему так? Вот он, Симон, болгарский священник, прибывший с митрополитом Михаилом крестить Русь, волею судьбы оказавшийся в глухом Заславле, и вот перед ним черница Анастасия, всего лишенная, кроме кельи и жизни, но эта молодая женщина в черной рясе и черном платке – бывшая жена князя Владимира, великая киевская княгиня, мать князей полоцкого, новгородского, владимирского, и сама она дочь полоцкого князя. И вот она, знавшая славу, власть, почет, – первая на Руси монашка, беднейшее создание, сама топит печь, сама готовит, стирает, живет милостыней от церкви, помогает убогим, а он, поп Симон, призван наставлять ее в истине. Но истина двоилась. Первою на Руси черницей княгиня стала по чужой воле. Согрешил и отец Кирилл, исполнявший княжий приказ. В любой миг могла мать Анастасия надеть мирское платье и вместе с ним вернуть себе свое княжеское имя и достоинство. Господь не счел бы такой поступок грешным. Ходит она в монашеском, а пришла к отречению не сама. Кто не сам постиг – во что верует? И поп Симон решил держаться жестко: не церковь ласкою выпрашивает веру для Бога, а Бог за веру дарует любовь. Пусть постигнет!
Но когда после очередного апостольского хождения в Менск его нашли в кустах у Немиги и привезли на поводе в Заславль полуживого, с перебитыми ребрами, с отбитой грудью, и мать Анастасия месяц выхаживала его, стягивая полотенцем поломанные кости, просиживала у изголовья ночи, поя с ложки, кормя с руки, и весь этот месяц он слышал ее мягкий, призывающий жить голос, а прикосновение ее рук ощущалось как благость, и ночью при свете свечи он видел ее без платка с распущенными волосами, и видел синие, сиявшие заботой глаза, отец Симон смутился и обрел новую радость. Когда он встал, а мать Анастасия вернулась к замкнутой жизни в своей избе, он ощутил, что в нем пробудилось давнее, позабытое чувство живого родства: стало важно думать о матери Анастасии, видеть ее, волноваться, если не видно ее. Отец Симон говорил себе, что бог обратил для него духовную сестру в кровную. И с того времени, если дверь кельи матери Анастасии оставалась дань за днем запертой, а на вопрос: «Почему не ешь, мать Анастасия?» – следовал полный чуждости ответ: «Пощусь, поп Симон!» – отец Симон впадал в тревожное смятение, терзался, что не владеет средством исцеления этой души, не знает для нее слов утешения. Однажды в очередную неделю страданий, услышав обычное: «Молюсь, поп Симон!» – отец Симон, не стерпев тоски, сказал сквозь слюдяную пластину: «Покажись, мать Анастасия! Хочу видеть тебя!» Была тишина в избе, и мать Анастасия спросила: «Зачем тебе, поп Симон?» Он сказал: «Душа болит, не видя тебя! Ибо ты мне родная сестра, мать Анастасия». Опять было молчание, и она отвечала: «Ты – сторож мой!» Он сказал: «Я не сторож тебе. Твоя боль – рана моя!» В ту минуту Сыч стоял на воротной башне, видел попа Симона под окном Анастасии, но не слышал слов и думал – лаются. И это было удачей отца Симона. Он сказал: «Прими мою заботу, мать Анастасия. Истинно люблю тебя!» Она отвечала: «Молюсь, поп Симон!», но голос ее был нетверд, а вечером она пришла в церковь.
И с тех пор возникла между ними сокровенная тайна. Оба потянулись друг к другу, хоть во всем были различны: поп Симон терпел избиение плоти за святое, она – избиение души от грешников; поп Симон знал стойкость крестителя, она – стойкость отчаяния; поп Симон жил вольно, она – пленницей; поп Симон говорил, что думал, мать Анастасия свои заветные думы таила; но восприняв бывшую княгиню за сестру и близкую душу, поп Симон понял и гнет ее несчастливой судьбы. Он смог видеть ее глазами и угадывать ее замыслы. Они казались ему неисполнимыми, веяло от них смертью. Но она жила ими, поп Симон был бессилен ее остановить. Когда мать Анастасия запиралась в избе, он знал – вновь ее охватила печаль о несвершенном. Или когда мать Анастасия в предзакатный час поднималась на надворотную башню и, застыв столпом, глядела на терявшийся в болотах и лесах менский путь, он знал – она мыслит о Полоцке, об отъезде, о сыне и внуках, которых обяжет оголить меч…
Отец Симон вышел на двор. Близились сумерки. Как свеча за холстом, краснело на краю седого неба солнце. Бледный лик луны высвечивался высоко над восходом. Из посада слышались мыки коров, где-то далеко в пуще завыл волк, и вослед его унылому вою разбрехались псы. Отец Симон замер посреди детинца, ощутив свое одиночество в окружающей суете, свою ненужность страже, угрюмо приплясывавшей на стене, мужикам, ходившим в церковь по принуждению тиуна и десятских, которые тоже ходили в церковь по княжескому приказу и с твердым неверием слушали про непорочное зачатие, превращение воды в вино и воскрешение Лазаря на пятом дне смерти. А ведь Христу в нынешнее рождество тысяча лет, подумал отец Симон. Тысячу лет пребывает он с нами, и заветы всеобщей любви расходятся по земле, достигая ее самых дальних окраин. Торжественный год – тысячелетие веры христианской. Они не могут осмыслить выпавшего им счастья – бабы, мужики, стража, десятские, тиун Середа, мать Анастасия. Как им осмыслить, если они не веруют! Тысячелетие царства Христова – отметит Господь свой праздник славою милосердия. Из праха создан человек и уходит в прах, коли грешник; праведный же уходит в спасение, в жизнь вечную. И мать Анастасия за муки свои получит жизнь вечную, если очистится от злой памяти ее сердце. Только добром созидается правда. И Христос призывал разрушать зло добром. И он видит всех, кто следует этому главному его завету…
Глава тринадцатая
Отец Симон быстро пересек двор и вошел в келью Анастасии. Здесь он перекрестился на икону и сел в кут, волнуясь сомнением: поймет ли мать Анастасия смысл искренней молитвы в этом году, когда отец небесный внимает с особенной чуткостью. Дышала жаром натопленная печь, Анастасия бросала в парящий горшок жменьками травы.
– Что почитать тебе, мать Анастасия? – спросил Симон.
Анастасия, подумав, сказала: «Почитай про города, что бог истребил».
– Это я не однажды читал, – возразил поп Симон, – лучше что– нибудь другое почитаю.
– Не надо другое, – отказалась Анастасия. – Читай что просят. – И добавила радушнее: – Жарко, кожух бы снял.
Отец Симон послушно разделся. Положив руки на колени, он отрешился от Анастасии, пальцы словно прикоснулись к листам святой книги, листы зашевелились, с нежным шорохом ложась один на другой, и явился нужный – заполненный округлым греческим письмом. А из буквиц стало возникать видение белых песков, и посреди них стояли города Содом и Гоморра, и отец Симон стал рассказывать, что видел.
«В Идумейской пустыне стояли два города. Все дал им Господь: каменные дома, воду, деревья, стада и птицу. И заленились содомляне молиться, утратили Бога в сердце, приняв за счастье буйную радость порока. Не осталось греха, который здесь не умножился бы стократно. И решил Господь сжечь города, предавшие чистоту духа, ибо возопили грехи о должном отмщении. И сказал Он праведному Аврааму, что сожжет Содом и Гоморру. „Господи, – спросил Авраам, – но если есть в городах праведные, неужели праведных сожжешь вместе с грешными?“ – „Нет, – ответил Господь, – если есть там хоть десять праведных, не сожгу“. Но и десяти праведных не отыскали ангелы в Содоме. Все блудодействовали, грабили, воровали, и грязь лжи заполнила города. Только праведный Лот держал семейство свое в чистоте. Явились к нему ангелы и сказали: „Господь сожжет города, уводи своих, кто достоин“. И взяли ангелы за руку его самого, жену его и двух дочерей его и вывели из города и сказали: „Спасайтесь, но не оглядывайтесь назад, ибо велико будет ваше несчастье!“ И только тронулись они прочь по дороге, как выпал на виновные города дождь из смолы, и понеслись из пожарища молящие крики грешных. Жена Лота возжалела палимых, содрогнулось ее сердце, оглянулась она назад – и превратил ее Господь в соляной столп».
Отец Симон очнулся, буквы на листах стали таять, виденье ушло, он увидел, что Анастасия стоит у печи, расслабленная состраданием. «Великая мудрость дана в этой притче, – сказал отец Симон. – Нельзя глядеть в прошлое. Кто оглядывается – тот яко столп недвижимый на одном месте стоит». – «Что понимаешь ты, отче, – тихо отвечала Анастасия. – Кто не оглядывается – у того сердце соляное. Что лучше?»
– «Не надо, мать Анастасия, – сказал поп Симон. – Прошлое в омут времени упало. Искать его – следом кидаться. Погибель». – «Там погибель, и тут смерть, – сказала Анастасия. – Вот, – дотронулась до платья, – сама по себе скорблю». – «Что же скорбеть, – вздохнул поп Симон. – Жизнь идет…» Тут он спохватился, но слово уже вылетело, задело мать Анастасию, и на лице ее появился тот суровый прищур, когда сквозь болота и дебри, сквозь полутысячу верст земли видела она Полоцк и начало своих бедствий, положенных приездом неожиданных сватов. Да, жизнь идет, думала Анастасия, бежит время, несется вскачь, как в седле. Вот поп Симон, десять лет назад ни единой седины не было, локоны черные до плеч опадали, теперь поределись, и седые пряди не вьются.
– Сколько тебе годков, поп Симон: – спросила она.
Поп удивленно задумался, подсчитывая свой век.
– Кто же знает, – ответил он неуверенно. – С полсотни скоро. А тебе, мать Анастасия?
– И мне много, поп Симон. четырнадцать лет меня замуж увезли, двадцать лет как Изяслав родился. Вот сколько жива – тридцать пять.
– Молода ты, мать Анастасия, – сочувственно сказал поп.
– Сто лет мне, поп Симон. Три разные жизни прожила. Все подневольные. Много на одну душу. Хочется четвертой, своей – хоть денек пожить.
Поп Симон посмотрел на нее с сожалением.
– Что, думаешь, будет ли та, четвертая? – укорила Анастасия.
– Захочешь – будет, – ответил поп Симон. – Только какая?
– Боишься? – спросила Анастасия.
– За тебя боюсь, мать Анастасия.
– А что бояться. Вон тебя колом били – а ты жив.
– Бог уберег, – сказал отец Симон.
– Били неумеючи, – возразила Анастасия.
– Били без жалости, – подчеркнул поп Симон. – Бог уберег. За его дело били.
– За его дело его самого убили, – не согласилась Анастасия. – Зачем ему тебя беречь, поп Симон?
За стеной заскрипел снег под тяжелыми сапогами, и крадущийся этот скрип затих под окном. Замолчали. И от затаился. «Входи, Сыч! – крикнула Анастасия. – Что мерзнешь под окном равно пес!» Спустя мгновение дверь отворилась, и в избу ступил мужик лет сорока – красномордый, черный, с блеклыми пустыми глазами. На поясе у его поверх кожуха висели меч и широкий, в ладонь, нож. «Куда вооружился так густо? – спросила мать Анастасия. – В полк призвали?» «Сегодня черед ворота стеречь», – отвечал Сыч. «Разве тут ворота? – спросила, кивая на окно, мать Анастасия. – Или тут велели стоять?» – «Мимо шел», – весело соврал Сыч. «Так и шел бы мимо, коли шел!» – сказала Анастасия. «Так я и иду», – кивнул Сыч и вышел.
– Ох, поп Симон, – вздохнула Анастасия, – открыла бы тебе, зачем дозволяю Сычу порог переступать…
– Открой, – согласился Симон.
– Не открою. Ясности твоей жалко.
Поп Симон не стал настаивать.
– Заешь, мать Анастасия, в какой год живем? – спросил он. – Христу тысяча лет!
– Ну и что, поп Симон?
– Благ будет господь к тому, кто верит!
– А кто не верит?
– За что ж ему благодать, если не верит?
– Так что особого, поп Симон. Так все живут. Склонись – привечу.
Поп Симон заерзал по лавке.
– Склонись, мать Анастасия, одно, возвыситься через веру – другое. Дух свободен. Неужто не понимаешь?
– Дух свободен, а сидеть буду здесь, да?
– Дух свободен – все равно где быть, – сказал поп Симон. – Здесь, там, на краю света – равная радость.
– Кому радость? – насупилась мать Анастасия.
Но тут, загасив искру тяжкого спора, зазвучало церковное било. Медный гул поплыл волнами, призывая в церковь к вечерней молитве. «Пойдем, мать Анастасия», – примирительно сказал Симон. Анастасия надела старый свой кожушок, вышли на двор. От стен огорожи торопилась в церковь развлечься в толпе стража. И Сыч, увидав мать Анастасию позади попа, вприпрыжку помчался к церкви. Мать Анастасия усмехнулась: «Ну, скачи, скачи, помолись, изведешься там от досады».
Отец Симон в виду людей, бредших на вечернюю службу, шел к церкви, не оглядываясь на мать Анастасию, а когда оглянулся – не было ее возле него, поднималась Анастасия на стену. Огорченный отец Симон приковался взглядом к черной хрупкой фигуре, всходившей по обледенелым ступеням. «Обречена она, – подумал поп Симон, – обречена мать Анастасия. Мало ей того, что есть, а большего не получит, а прежнее не вернуть. Так и будет терзаться своей мечтой до немощных лет». Отец Симон перекрестился, попросил у господа прояснить душу инокини Анастасии и опечаленно ступил в церковь.
Мать Анастасия в этот миг вошла в башню. Здесь оказался малознакомый ей страж. Она кивнула ему и по дробинам залезла на смотровую вышку. Известный до каждого деревца вид открылся ей. Обычно взгляд ее невольно начинал скользить по Свислочи, мысленно проделывая неблизкий путь к Березине, а по ней к реке Сургут, а по ней в озеро Плавье, а затем по Эсе, Улле в Западную Двину – и в Полоцк. Это была ее вечерняя радость – мысленно двигаться по этой связи рек и озер, приближаясь к Изяславу, или воображать его челны на этих водах, таинственно, неожиданно для нее прибывающие в Заславль. Но сегодня свежий спор с отцом Симоном мешал ей мечтать. Особенно ей мешали слова «равная радость», они печалили ее. Мать Анастасия понимала, что такая радость, к которой призывал ее поп Симон, возможна, но возможна для других. Для нее она невозможна: принять ее означало согласиться, что Добрыня, Владимир, старый грек Кирилл поступили с ней справедливо и, отняв одно, дали взамен другое, равное…
Мать Анастасия заметила, что неотрывно смотрит на крест. Большой, посеревший под дождями крест стоял на месте былого капища; много лет назад его поставили тут по слову попа Симона, чтобы освятить древнее место сжигания требы. Но мать Анастасия помнила, как здесь погиб волхв, и как погребли его, и курганчик над его прахом был вблизи креста; прочный суровый крест походил на того старика. Иногда она завидовала его гордой смерти; старик появлялся в памяти в горькие минуты, когда она закрывалась ото всех, когда не могла объяснить себе, зачем живет и живет свою унылую жизнь. Он не расстался с тем, что любил; его не разлучили со своей святыней, он не дал себя отлучить. А что он делал бы сейчас, подумала Рогнеда, если бы в день крещения не убил святотатца? Рубил бы по ночам этот крест, воевал с попом Симоном, поджидал бы его на дорогах, как иные волхвы; с отчаяния и злобы топтал бы его ногами… Он не хуже попа Симона – а они были бы враги. Меняются люди на белом свете. Ушел волхв – пришел поп Симон; разные у них правды. Был в Полоцке князь Рогволод – ныне Изяслав. Почему он не приедет в свой город? Чем одурманили его память? Что удерживает его от свидания?..
Ледяной порыв резко ударил Анастасии в лицо, словно задувая обращенные к сыну вопросы, и мать Анастасия послушно подчинилась и подумала о себе: почему она не пойдет к Изяславу? Что ей самой мешает тронуться в этот путь? Это десять, семь… еще пять лет назад ей могли помешать. Тогда тиун Середа беспокоился – где она? Лежит ли пластом, плачет на берегу Свислочи, страдает, хохочет, сидит при больных старухах, кричит с попом – все ему было безразлично, лишь бы не исчезла. Потому что хоть и назвали ее монашкой Анастасией, оставалась она княгиней, и в Полоцке сидел князем Изяслав, а в Новгород перешел из Ростова Ярослав, а во Владимире сидел младший ее сын Всеволод, и в каждый из этих городов могла повести ее охота жизни. А теперь все о ней забыли. Состарился и доживает свой век Добрыня. Старится и скучает со своей царевной Владимир. Одряхлел тиун Середа, и кажется ему по собственной немощи, что и она обессилела… Но никто не знает, что она не жила, а ожидала. Вот что мешает ей уйти. Уйти – это признать, что не дождалась. Но и сын не знает, как долго она ожидала. Она объяснит ему, он поймет с полуслова, он прибудет. Когда он приедет, войдет на детинец, и она вместе с ним пройдет под этой башней, и он повезет ее по Свислочи, Березине, Сургуте и Двине, тогда осуществится смысл ее многолетнего терпения. Он должен узнать, что она ждет. Он ничего не знает о ней. Ему говорят, что она смирилась и молится. Но зачем князю смиренная прибитая мать? Он должен знать, что она не смирилась. Он узнает, и тогда он проснется, и память подскажет ему давний материнский шепот, и он поймет, что те слова не умерли, они одухотворят его, он осмелится и решится. Душа его возвысится. В этом ее цель, ее долг, ее последняя обязанность. Эту мечту она осуществит. И не надо прозревать конец, остановила свою мысль мать Анастасия. Правда в другом – мечтать и делать. Мать Анастасия поспешно сошла в башню и вышла на двор детинца.