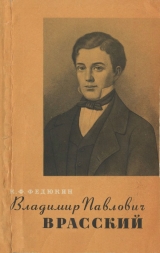
Текст книги "Владимир Павлович Врасский"
Автор книги: Константин Федюкин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц)

К. Ф. ФЕДЮКИН
ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ
ВРАССКИЙ
1 8 2 9 – 1 8 6 2

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Ленинград 1970
Докт. техн. наук Л. Д. Белькинд, докт. биол. наук Л. Я. Бляхер, докт. физ.-мат. наук А. Г. Григорьян, докт. физ.-мат. наук Я. Б. Дорфман, акад. Б. Л/. Кедров, докт. экон. наук Б. Б. Кузнецов, докт. биол. наук А. И. Купцов, чл.-корр. АН СССР Б. Б. Микулинский, докт. ист. наук Д. Б. Ознобишин, докт. физ.-мат. наук И. Б. Погребысский, канд. техн. наук 5. Я. Новокшанова-Соколовская (ученый секретарь), докт. хим. наук Я). Я. Соловьев, канд. техн. наук А. Б. Федоров (зам. председателя), канд. техн. наук И. А. Федосеев, докт. хим. наук Я. А. Фигуровский (зам. председателя), канд. техн. наук А. А. Чеканов, докт. техн. наук Б. Б. Шухардин, докт. физ.-мат. наук А. Я. Юшкевич, акад. А. Л. Яншин (председатель), докт. пед. наук Л/. Б. Ярошевский.
Ответственный редактор Я. Я. С КАТКИН
2-10-2
66-69 (н.-п.)
Владимир Павлович Врасский, ихтиолог и рыбовод, основоположник научно поставленного рыбоводства и создатель первого в России рыбоводного завода, принадлежал к той категории подвижников, имена и дела которых остаются в памяти людей на долгие времена. Это был оригинальный ученый-опытник, открыватель новых путей в познании и преобразовании природы. Он очень много дал русскому рыбоводству и биологической науке, но его заслуги перед отечеством, к сожалению, оценены еще не в полной мере.
Нельзя сказать, что о нем мало написано. В прошлом столетии, например, научным открытиям Врасского и его практической деятельности посвящали свои статьи и доклады видные ученые и публицисты. Его имя нередко встречается в современной научной литературе, в справочных изданиях, в ряде учебников и руководств по общей зоологии, ихтиологии и рыбоводству.
Но, во-первых, эти статьи, доклады и учебные руководства разрознены и по времени, и по месту издания. Сведения об ученом, содержащиеся в этих публикациях, не собраны воедино, не систематизированы. Во-вторых, научные и популярные работы о Врасском в абсолютном большинстве случаев опубликованы в специальных изданиях – в ученых записках научных обществ или государственных институтов – и для массового читателя практически недоступны. Исключение в этом отношении составляют лишь некоторые труды современных авторов и, может быть, одна важная работа, вошедшая в книгу К. Ф. Рулье «Избранные биологические произведения» (М., 1954). В-третьих, во всех этих сочинениях – и в научно-исследовательских, и в популяризаторских – бедны биографические сведения об основоположнике научного рыбоводства. В ряде случаев отсутствуют сведения о раннем периоде жизни Врасского, т. е. о его детских и юношеских годах, о его учебе в гимназии и в университете, о начале производственной и научной деятельности. Достаточно сказать, например, что до сих пор не было известно, в каком городе жил и в какой гимназии учился Врасский до поступления в Дерптский университет.
Как правило, исследователи научного творчества русского рыбовода не прибегали к архивным документам. Правда, Н. Данилевский и Ф. Судакевич в свое время отчасти пользовались казенными бумагами департамента земледелия, когда они еще не были сданы в архив. В последние годы с этими источниками знакомился П. Н. Скаткин. Но многие архивные документы о В. П. Врасском до сих пор не были известны и поэтому не использовались в указанных работах. А это обедняло наши представления о человеке, жизнь которого оборвалась слишком рано, но была ярка и поучительна.
В. П. Врасский принадлежит русской науке, русской истории. И чтобы определить его место, его историческую роль в науке, чтобы как-то воссоздать образ ученого, узнать подробности его недолгой кипучей жизни, – для этого надо не только в воображении перенестись в прошлый век. Необходимо прежде всего прикоснуться к подлинным документальным источникам, в том числе к архивным бумагам, так или иначе относящимся к жизни и деятельности талантливого ученого-рыбовода. На наш взгляд, все эти литературные и другие документальные свидетельства можно подразделить на четыре основные группы.
1. Научные и научно-популярные труды самого Врасского, его современников, учеников и последователей, опубликованные с конца 50-х годов XIX в. до 1917 г. Тут прежде всего надо назвать «Извлечение из переписки с В. П. Врасским», опубликованное в «Записках Комитета акклиматизации животных», а затем перепечатанное в несколько сокращенном виде в «Новгородском сборнике». Это единственный печатный труд, принадлежащий перу самого ученого. Небольшой по объему, он написан с большим знанием дела. В нем автор раскрыл содержание своих научных исследований и разработанных им практических приемов рыбоводства.
Рядом с этим оригинальным сочинением следует поставить «Донесение членов комиссии для освидетельствования рыбного завода г. Врасского», написанное К. Ф. Рулье, С. А. Усовым и Я. А. Борзенковым по горячим следам их совместной поездки осенью 1857 г. на Никольский рыбоводный завод, основанный В. П. Врасским. Донесение было опубликовано в «Журнале сельского хозяйства», а также отдельной брошюрой. Позднее этот труд перепечатывался во многих отечественных и зарубежных изданиях. Полный текст его вошел в упомянутую книгу проф. Рулье. Обстоятельность и научная глубина отличают это своеобразное произведение.
Среди литературных источников этой группы следует назвать труды К. Ф. Кесслера, Н. Я. Данилевского, Н. Богословского, Ф. Судакевича, В. П. Ласковского, О. А. Гримма, К. К. Гильзена, А. А. Лебединцева, Н. Н. Пушкарева и др. Оценки этих работ в необходимых случаях даны в тексте тех или иных глав, а.точное библиографическое описание – в списке использованной литературы.
2. Статьи и другие научные произведения послеоктябрьского времени, посвященные Врасскому и созданному им Никольскому рыбоводному заводу. Эти печатные труды, как правило, значительно выигрывают в своем качестве по сравнению со многими дореволюционными публикациями. Во-первых, они написаны с учетом новейших достижений биологической науки и практики современного рыбоводства. Во-вторых, события давно минувших лет, социально-экономические условия, в которых жил и работал Врасский, его заслуги перед Россией, перед отечественной и мировой наукой – все это здесь освещено с более четких позиций советской историографии, хотя, конечно, и тут не все договорено и не все написанное одинаково ценно.
Самой обстоятельной в этой группе источников является книга П. Н. Скаткина «Биологические основы искусственного рыборазведения». В ней немало страниц посвящено глубокому анализу научно-производственной деятельности Врасского и основанного им рыбоводного завода. Известную ценность представляет работа М. И. Тихого «Столетие Никольского рыбоводного завода». И. В. Кучин, М. П. Сомов, Б. И. Черфас в отдельных трудах освещают открытия Врасского и деятельность его рыбоводного завода.
3. Архивные документы 20—60-х годов XIX в., относящиеся к личности В. П. Врасского и к ранней истории Никольского завода. Без этих материалов нельзя было бы сколько-нибудь подробно описать жизнь ученого-экспериментатора.
Основные неопубликованные и мало кому известные документы о Врасском хранятся в Центральном государственном историческом архиве в Ленинграде (ЦГИАЛ) и в Центральном государственном историческом архиве Эстонской ССР (ЦГИА ЭССР). В первом наибольший интерес представляют фонды департамента земледелия Министерства государственных имуществ (ф. 398), Вольного экономического общества (ф. 91) и департамента герольдии Сената (ф. 1343). Здесь нами обнаружены ценные документы, содержащие сведения о развитии рыбоводства в России и, в частности, на Никольском заводе. Найдены официальные письма, отношения, адресованные Врасскому, а также бумаги за собственноручной подписью ученого. По архивным документам удалось воспроизвести родословную семьи Врасских, а также получить биографические сведения о многих лицах, с которыми у Владимира Павловича были родственные, дружеские, научно-творческие или официально-деловые отношения.
Исторический архив Эстонии в г. Тарту хранит документы Дерптского (ныне Тартуского) университета, в котором учился Врасский, а также документы бывшей Дерптской губернской гимназии, в которой он был вольноприходящим воспитанником. Здесь основную ценность представляют университетские бумаги (ф. 402). Из них в первую очередь нами использованы личные дела самого Врасского, его друзей-студентов и некоторых профессоров и преподавателей, а также печатная книга «Academicum», представляющая собою хронологическое изложение кратких сведений о всех студентах университета.
4. Различные справочные издания от середины прошлого столетия до наших дней, в которых содержатся какие-либо сведения об ученом-рыбоводе или о людях и событиях, имеющих прямое отношение к нему и к созданному им заводу. Эти издания в большинстве своем устарели, но для исторических исследований они полезны. Вместе с современными изданиями эти старые книги дали возможность пополнить сведения как о самом ученом, так и о людях, с которыми он общался.
Кроме того, нами были использованы источники, которые нельзя отнести ни к одной из перечисленных групп. Это, например, «Привилегия, выданная на имя отставного коллежского секретаря Врасского» (1859), картотека Б. Л. Модзалевского (Пушкинский дом) и т. п. Различна ценность сведений, взятых из этих источников, но все они тоже были необходимы при создании более или менее подробной биографии замечательного русского ученого-рыбовода.
Книжка эта документальна, хотя, конечно, в некоторых случаях в ней встретятся неизбежные авторские «допуски». Там, где разрывалась цепь событий, где недоставало прямых документальных подтверждений, приходилось прибегать к предположительным суждениям. Но таких предположений немного, все они так или иначе оговорены в тексте. Они не просто выдуманы, а логически выведены из содержания архивных бумаг и печатных изданий. Следовательно, некоторые авторские «допуски» тоже не выходят за рамки документальности. А без них не обойтись. Без них по сути дела невозможны обобщения, отбор и оценка исторических фактов и событий.
В. П. Врасский родился 26 августа (7 сентября) 1829 г. в дворянской семье, в имении Никольское Демянского уезда Новгородской губернии. Как сказано в консисторских записях, 28-го числа того же месяца он был крещен в церкви села Пестово,1 расположенного поблизости от Никольского.
Первые сведения о Врасских в отечественной истории относятся к середине XIV столетия. В то время двое из них служили воеводами и участвовали в военных походах Ивана Грозного. В XVII—XIX вв. род Врасских представлял собой типичную дворянскую фамилию, в которой представители мужского пола в большинстве были офицерами.
Поручик Николай Александрович в конце XVIII в. вышел в отставку. Это – дед будущего ученого-рыбовода, пензенский помещик, владевший землями и крепостными крестьянами в ряде губерний России. У него, кроме четырех дочерей, было два сына – Владимир и Павел.
Павел Николаевич, как и многие его предки, в молодости служил в русской регулярной армии. Ему довелось быть активным участником Отечественной войны 1812 г. Но потом он оставил военную службу, выйдя в отставку в звании прапорщика. После раздела отцовского наследства ему досталось пять усадеб в Тверской, Симбирской и Ярославской губерниях.2 Крестьян у него оказалось около 60 мужских душ. Имущественное состояние Павла Николаевича улучшилось, когда он женился на дочери богатого новгородского помещика Н. Я. Толстого, коллежского советника.
В свое время императрица Елизавета Петровна принесла в дар дворянскому роду Толстых 20 000 десятин земли. Видимо, если не все эти угодия, то большая часть их была на Валдайской возвышенности, в Новгородской губернии. Переходя по наследству, все эти земли достались Николаю Яковлевичу. А после его смерти, в 1813 г., землю и все ценности на ней поделили между собой его дети – три сына и пять дочерей.
Старшая дочь Александра, тогда еще несовершеннолетняя, получила в свое владение Никольское – тихий, лесом затененный уголок земли у озера Велье. Через несколько лет молодая помещица вышла замуж за Павла Врасского. В Никольском молодожены и поселились на всю жизнь. Здесь у них родились и выросли дети – Алевтина, Варвара, Владимир, Николай, Аглая, Зинаида. Будущий рыбовод был третьим по счету ребенком в семье и старшим из сыновей.
Ранние детские годы он пробыл на руках у нянек, а в 1838 г. Павел Николаевич, отставной прапорщик, чиновник 14-го класса решил отдать старшего сына в учение – «куда случай дозволит», как заявлял он в одном своем прошении.3 И «случай дозволил» определить его в Дерптскую гимназию, далеко от родных валдайских мест. Это было, очевидно, уже в 1839 или 1840 г. А года через четыре в эту же гимназию в Дерите был определен Николай, его младший брат.
Сказав коротко о родословной и о месте рождения В. П. Врасского, необходимо оговорить некоторые отдельные ошибки и неточности, которые допускались, а нередко и теперь допускаются в литературе о нем.
Прежде всего встает вопрос: как все-таки правильнее писать и произносить – «Врасский» или «Враский?».
Пишут часто и так и этак. Большинство исследователей, однако, предпочитают писать эту фамилию через два «с», находя это более соответствующим истине. Но как доказать это? М. И. Тихий заметил в сноске: «По единственному официальному документу, имеющемуся в нашем распоряжении, фамилию Врасского следует писать через одно „с“, однако в большинстве литературных источников, а также в БСЭ принято написание ,,Врасский“» (Тихий, 1954). Но каждый, кто заглянет в Большую Советскую Энциклопедию, сможет убедиться, что фамилия ученого там обозначена двояко —и через одно, и через два «с». В том и другом виде она много раз встречается как в литературе, так и в архивных документах. Нынешние представители старинного рода по всем официальным документам значатся как «Враские». На наш взгляд, все-таки правильнее произносить и писать «Врасский». Это полностью согласуется с первоначальным звучанием старинной фамилии. В давние времена ее произносили не иначе, как «Вразской».4 Так она значится в архивных бумагах, относящихся к XVIII в. и к более раннему времени. В некоторых случаях через «зс» писали и в XIX столетии.5 Фамилия «Вразской» вполне естественно, по лингвистическому закону ассимиляции, должна была трансформироваться в «Врасский».
Далее, иногда в печатных трудах Александра Николаевна, мать В. П. Врасского, именуется как урожденная графиня Толстая, а ее отец – как граф Толстой. Так сказано, например, в книжке И. В. Аничкова «Обзор помещичьих усадеб Новгородской губернии». Потом это стали повторять некоторые другие авторы. На самом деле ни этот помещик, ни его старшая дочь не носили графского титула. Путаница тут, очевидно, произошла оттого, что младшая дочь дворянина Н. Я. Толстого, Анна, сестра Александры Николаевны, вышла замуж за графа Сергея Дмитриевича Толстого. Он поселился в имении уже умершего тестя, в Новогеоргиевском Демянского уезда. И титул нового владельца усадьбы по недоразумению стали приписывать его родственникам по линии жены.
Наконец, еще одно замечание. Во многих печатных изданиях, а также в некоторых архивных бумагах можно встретить сокращение: «с. Никольское». А что, собственно, означает здесь маленькое «с»? Что это – «село»? В иных случаях Никольское названо именно селом.6 Но это недоразумение. Все сведущие авторы под сокращением «с. Никольское» имели в виду сельцо Никольское. Сельцо – и не больше, потому что число жителей там во все времена было незначительным. Там никогда не было церкви, которая раньше отличала село от деревни или хутора. Никольское при жизни В. П. Врасского представляло собой дворянскую усадьбу, помещичье имение, в котором во второй половине 50-х годов возник рыбоводный завод. А с конца 60-х годов XIX в., когда завод перешел в ведение Министерства государственных имуществ, оно по своему специальному назначению превратилось в небольшой заводской поселок. Таким поселком Никольское остается по сей день. Стало быть, давно устаревшее, почти вышедшее из обихода нарицательное имя «сельцо» к нему не только не подходит теперь, но и не совсем подходило раньше. Поэтому для 20—60-х годов прошлого столетия Никольское лучше называть имением, усадьбой, а для более позднего времени – заводским поселком, или просто поселком.
В ДЕРПТЕ
Гимназические годы Врасского пока мало изучены. Они – «белое пятно» в его биографии. Это связано с тем, что он не состоял в числе штатных воспитанников Дерптской гимназии, а был там в качестве вольноприходящего. Поэтому имя его обычно не значилось в списках учеников и в экзаменационных ведомостях.
Жил он на частной квартире. Каждое лето, в каникулярный период, уезжал в родное Никольское. Обычно директор гимназии Э. Гаффнер, будущий ректор Дерптского университета,6 7 подписывал ему пропуск на проезд из Прибалтики на Новгородчину. Вот один из таких документов (за № 465 от 5 июня 1846 г.) :
«От Дерптской губернской дирекции училищ... свидетельствуется, что предъявитель сего, чиновника 14-го класса, дворянина и помещика Павла Николаевича Вразского сын Владимир Вразский, вольно приходящий воспитанник Дерптской губернской гимназии, мною уволен до 1-го числа августа месяца сего года в Тверскую губернию, почему и прошу г. г. начальствующих по дороге чинить ему свободный туда и обратно пропуск.
Гаффнеръ?
В этом обычном канцелярском документе, быть может, надо объяснить только одно: почему юный Врасский увольнялся на этот раз не в Новгородскую, а в Тверскую губернию?– Дело в том, что у Врасских были там имение Хомутово и дер. Александрово-Филатово.8 9 Видимо, гимназист приезжал и туда в дни своих каникул. Путь этот был не близок, особенно если учесть тогдашние средства передвижения. Из Эстляндии надо было на лошадях пересечь Псковщину и почти всю Новгородскую губернию, чтобы приехать в родовое имение, к берегам Велье-озера. И уже отсюда с кем-нибудь из родных или из крепостных крестьян можно было отправиться через Валдай под самую Тверь, где находилось Хомутово.
Что дала Врасскому гимназия?
Как и все гимназии того времени, она давала воспитанникам довольно хорошие знания по арифметике, географии, всеобщей и русской истории. Там основательно изучались латынь, русский, греческий, немецкий и французский языки. Наряду с этим много и долго, во всех классах, со всей силой верноподданнического усердия преподавался закон божий.
Быстро пролетели гимназические годы, и перед юношей открылась новая заманчивая перспектива. В начале 1847 г. он успешно сдал вступительные экзамены и был принят в Дерптский университет, на камеральное отделение. Сначала оно было в составе философского, а затем юридического факультета. Позднее это отделение стало называться дипломатическим.
Судя по всему, под своды храма науки Владимир Врасский пришел не безликой «единицей», пожелавшей носить студенческую куртку и зубрить мудреные формулы. Нет, это была оригинальная, по-своему яркая натура, хотя и не успевшая еще раскрыть своих дарований. Как это часто бывает с людьми талантливыми, в юные годы он много раз находился в разладе с самим собой. В нем сталкивались очень противоречивые наклонности и привычки.
С одной стороны, положение вольноприходящего гимназиста заметно разбаловало его. Он жил вдали от родительского досмотра, в стороне от гимназического начальства, был предоставлен самому себе – и это не проходило даром. Постепенно в нем зарождались черты недисциплинированности. Когда-то смирный и застенчивый барчук, он в годы пребывания в Дерпте бывал вспыльчивым забиякой.
Однажды, будучи студентом-первокурсником, Врасский ударил на улице одного молодого горожанина. Это было в начале 1847 г. За этот грубый проступок он получил наказание – трое суток строгого ареста. А позднее, как это видно из справки председателя суда, он еще два раза побывал под арестом, – правда, уже за менее тяжкие проступки.10 Он сидел в карцере, расположенном на чердаке главного университетского корпуса. Стены этого мрачного помещения были испещрены «афоризмами» штрафников. Между прочим, одна из комнат карцера и теперь сохраняется в Тартуском университете в прежнем виде, как свидетель прошлого. Изредка туда приводят экскурсантов.
Иногда Врасскому просто нравилась праздность. В такие часы он бродил где-нибудь по Набережным, улицам или подымался на знаменитую гору Тоомберг, стоящую в центре города и нависающую над университетскими корпусами. Там, в тени густых дубов и лип, на дорожках, петляющих вокруг высоченных стен древнего Петро-Павловского костела, он проводил немало времени. Случалось, что и кутил на холостяцких пирушках. Об одной такой студенческой пирушке, оставившей некоторый след в его судьбе, речь будет впереди.
Итак, одинокая, вольная и обеспеченная жизнь юного барина развивала в нем наклонности, которые никак не назовешь хорошими. Но, с другой стороны, независимое существование, видимо, помогало ему вырабатывать в себе вдумчивое отношение ко всему, что его окружало. Надо было самому решать многие жизненные вопросы, самому делать то, что дома сделали бы за него другие. Это влияло на студента благотворно. Постепенно он отучался от дурных привычек, воспитывая в себе человечность, пытливость и стойкую работоспособность.
Как свидетельствуют экзаменационные листы, хранящиеся в Эстонском архиве, учился он хорошо, получая на экзаменах высокие и очень высокие оценки.11 Его общественные взгляды свидетельствуют о прогрессивном образе мыслей. Об этом можно судить хотя бы по его студенческим сочинениям. Вот одно из них, под названием «Смирна». Написанное наспех, коротко, оно уместилось всего на одном листке гербовой бумаги. По форме это как будто простой пересказ статьи из турецкого журнала, автор которой с большой похвалой отзывался о реформах в Османской империи при правлении молодого султана Абдул-Меджида. Сочинение прозрачно намекало на то, что даже султанская Турция в экономических и политических преобразованиях стала более гибкой по сравнению с крепостнической Россией, где формы правления застыли в своей неподвижности.12
В. П. Врасский был человеком образованным, обладал достаточно широкими знаниями. Но надо признать, что университет все же много недодал ему, как и другим студентам, по вопросам социологии, в области философских и других гуманитарных наук.
В лекционных залах он слушал многих столпов правоведения, истории, филологии, богословия. Профессор Фридрих-Адольф Филиппи читал теологию, историю догматов, символику. А что от всего этого оставалось в голове студента? Экстраординарный профессор Людвиг-Генрих Штрюмпель говорил с кафедры о сотворении мира, о верховном разуме творца, о целесообразности и гармонии в царстве живой природы, о сущности человеческой души. Все это преподносилось сложно, туманно,
17
до разума и сердца не доходило, хотя начальство – вполне понятно – оценивало лекции Штрюмпеля очень высоко. Сам ректор университета, проф. Христиан-Фридрих Нейе, читал проще, но и в его устах древнеклассическая филология и история литературы выглядели далекими и маложизненными.
Разумеется, не только сами лекторы были повинны в насаждении идеалистических и догматических взглядов. Тут действовали более общие и глубокие причины, обусловленные всей социально-политической обстановкой тогдашней николаевской России.
В одном своем отчете ректорат в те годы отмечал, что профессора и преподаватели университета были охвачены стремлением подготовить из студентов «не праздных умников и книжных ученых, а верных служителей престола».13 Это довольно откровенное признание: учебная кузница в Дерпте ковала опору царскому самодержавию. Правда, идеологическая подготовка служителей престола проводилась несколько своеобразно, с примесью лютеранского духа, который в то время насаждался в университете. Против этого царское правительство предприняло некоторые шаги. Но главная опасность русскому царизму грозила не отсюда.
Главное заключалось в росте революционных сил в стране. Лучшая часть студенчества проникалась идеями русской революционной демократии. До Дерпта доносился ветер революции 1848 г., и тогда министр просвещения П. А. Ширинский-Шихматов, с одобрения императора, провел ряд мер по усилению контроля над мыслями студентов, а , также и профессоров. К концу пребывания Врасского на юридическом факультете уже готовилась печально знаменитая инструкция и секретное наставление ректору Дерптского университета об усилении борьбы с «разными социалистами и коммунистами», у которых «основная мысль – достижение безусловного равенства».14
Таково было влияние реакционных сил на всю официальную систему формирования общественных взглядов. Откуда же могла появиться особая жажда к так называемым гуманитарным знаниям, которые преподносились
тогда студентам? Скорее наоборот – влекло к тому, о чем умалчивали лекторы и что запрещалось знать.
Другое дело – точные и прикладные науки. На камеральном отделении готовили практических работников, по преимуществу управляющих для крупных государственных, удельных и помещичьих имений. Врасский, сам дворянин и состоятельный помещик, не совсем подходил для этой цели. Но он жадно изучал зоологию и ботанику, физику и математику, лесное хозяйство и финансы, технологию и архитектуру. Его влекло к стихийному материализму естественных и прикладных наук. Как большинство студентов, он жил тогда надеждами на будущее, той перспективой, которую открывало перед ним университетское образование.
Перед выпускниками императорского Дерптского университета широко распахивалась дверь в мир обеспеченности и привилегий. Одни из них рано или поздно становились крупными чиновниками двора и министерств, воспитателями великих князей, генеральными консулами и посланниками. Другие поступали на военную службу и потом появлялись на светских балах и в дворянских собраниях в генеральских эполетах. Третьи занимали профессорские кафедры в университетах и императорских лицеях. Четвертые выходили на арену литературного творчества.
В. П. Врасский, человек пытливого ума, увлекающийся, в студенческие годы настойчиво искал свое место в жизни. Этим, видимо, можно объяснить то, что на последнем году обучения он загорелся было желанием посвятить себя дипломатической службе. Студентов камерального отделения жизнь все больше отдаляла от камералистики, склоняла то к дипломатии, то к правовым наукам, – и Врасский был в числе первых, кто с энтузиазмом пошел в новом направлении.
Тут, по всей вероятности, не обошлось также без некоторого влияния со стороны Н. К. Шлегеля. Это был однокурсник Владимира Павловича, лучший друг его студенческих лет, выходец из прибалтийских немцев.15 Учился он отлично и увлекал друга своей жаждой к знаниям. Он был на четыре года старше Врасского, и это тоже
19
накладывало отпечаток на их дружбу. Но Врасский, в свою очередь, заражал его своей увлеченностью. Вместе прошли они университетский курс, вместе сдавали экзамены. И вместе, в конце июля 1851 г., представили на факультет свои диссертации: один на соискание степени кандидата дипломатических наук, а второй – кандидата правоведения.
В период подготовки Врасского к защите произошел один эпизод, который характеризует его способности и трудолюбие. Он уже был допущен к кандидатским экзаменам, более того – начал сдавать их. И вдруг произошла досадная заминка. Оказалось, что он не экзаменовался по французскому языку, хотя знал его неплохо. На камеральном отделении этого не требовалось. Но для будущего дипломата надо было знать французский в совершенстве. Поэтому М. П. Розберг, профессор кафедры русского языка и литературы, высказался за то, чтобы не допускать Врасского к кандидатским испытаниям.
Препятствие возникло немаловажное. Вопрос этот специально обсуждался на Ученом совете университета. В поддержку студента выступили декан юридического факультета проф. Э.-С. Тобин, профессора Л.-Г. Штрюм-пель, К.-Э. Отто, К.-Л. Блюм. К ним присоединил свой голос ректор университета. И барьер, таким образом, был снят. Врасскому разрешили продолжать сдачу кандидатских экзаменов с добавочным требованием: в течение шести месяцев написать работу дипломатического характера на французском языке. И он представил сочинение о Венском конгрессе 1814—1815 гг.16 17 Представил не через полгода, а через три месяца.
Потом Врасский работал над диссертацией под названием «Вооруженный нейтралитет 1780 года».11 Этот труд, написанный на немецком языке, прежде всего строго документален. Основная его идея заключается в том, что лучше уж вооруженный нейтралитет, чем война.
Эта оценка относится к , тому, что написано рукой В. П. Врасского и хранится в архиве, в личном деле диссертанта. Но есть основания считать, что эта рукопись – еще не сама диссертация. Скорее всего это черновой набросок, вариант, строгий подбор документов, скомпано-ванных в логической последовательности, с отдельными авторскими добавлениями, мыслями, которые связывают эти документы в единое целое. Очень может быть, что диссертация в законченном виде еще не разыскана.
Защита диссертации состоялась в ноябре 1851 г. и прошла успешно. 1 декабря Владимир Павлович получил диплом кандидата наук.18 Одновременно ему присваивались, в случае поступления на гражданскую службу, права и привилегии чиновника 10-го класса. По табелю о рангах этому соответствовало звание коллежского секретаря.
Но от государственной службы Врасский отказался, подав прошение об отставке. И в самом конце 1851 г. он, кандидат дипломатии, отставной коллежский секретарь, выехал из Дерпта в свое родовое имение.
НОВЫЙ СЕЛЬСКИЕ ХОЗЯИН
К сожалению, мы не знаем, как удалось В. П. Врасскому объяснить домашним, почему он отказался от служебной карьеры. Родителям, потомственным дворянам, очевидно, трудно было понять любые его доводы. Тем не менее они с готовностью передали ученому сыну обязанности по управлению родовым имением, понимая, что воспитанник университета, дипломат и камералист, сумеет повести дело лучше, чем они. Как отмечал В. П. Ласков-ский в своей биографической статье о Врасском, молодой кандидат наук, вернувшись в Никольское, сразу же взял на себя все заботы по хозяйству.
Но все-таки почему Врасский отказался от государственной службы, от карьеры, которая могла быть блестящей, и занялся... сельским хозяйством? Этот вопрос нельзя оставить без ответа. А в литературе он не освещен. Правда, на этот счет есть одно любопытное замечание О. А. Гримма. Будучи редактором «Вестника рыбопромышленности», он в 1889 г. написал «Дополнение» к статье В. П. Ласковского, опубликованной в журнале и посвященной русскому ученому-рыбоводу. Там сказано следующее:








