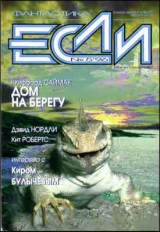
Текст книги "«Если», 1996 № 05"
Автор книги: Клиффорд Дональд Саймак
Соавторы: Льюис Кэрролл,Теодор Гамильтон Старджон,Брайан Майкл Стэблфорд,Всеволод Ревич,Майкл Коуни,Дэвид Зинделл,Кит Робертс,Дэвид Нордли,Наталия Сафронова,Альберт Родионов
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 20 страниц)
Всеволод РЕВИЧ
ПОПЫТКА К БЕГСТВУ
В начале 60-х на литературном небосклоне зажигается новая звезда. Согласитесь, это не совсем обычный случай: кадровый инженер, которому перевалило за 50, обращается к литературному труду и буквально с первых же шагов завоевывает широкую популярность.
Уже первый рассказ Ильи Варшавского «Роби» (1962 г.) привлек внимание читателей. Второй получил международную премию. В самых первых рассказах ясно проявились особенности творческой манеры Варшавского. «Роби» – и памфлет, и пародия. Автор высмеивает вереницу кочующих из одного произведения в другое кибернетических слуг, преданных, как дядя Том. Но вместе с тем своенравный, даже нахальный Роби – это насмешка над обывательскими мечтаниями: вот, мол, вернутся на новом, автоматизированном уровне ваньки, васьки, захарки к кроваткам новоявленных обломовых, чтобы утирать им носы ласковыми железными пальцами.
Это было время кибернетического романтизма. Просвещенное человечество вообразило, что еще немного, еще чуть-чуть – и сбудутся мечты фантастов, появится искусственный мозг, превосходящий по всем статьям «натуральный», и люди, вздохнув с облегчением, потребуют от него решения самых трудных задач, вроде ведения ядерной войны, не говоря уже о таких пустяках, как сочинение музыки. Я сам слышал виолончельные композиции, сочиненные компьютером, когда и слова-то такого не существовало. Самые бдительные из фантастов (американцы раньше всех, но и наши – вспомним «Суэму») разглядели надвигающуюся опасность и стали всерьез живописать ужасы и тупики, в которые нечеловеческий разум может завести человечество. А Варшавский непочтительно засмеялся над подобными бреднями. Поверьте, что тогда для такого отношения требовались куда большие прогностические способности, чем сейчас. Нелепо отрицать научные успехи, но прошедшая четверть века расставила все по своим местам. Нигде не слышно концертов музыки, сочиненной компьютером, и даже в шахматы стали играть с машинами реже.
А все эти проблемы уместились в одном из самых первых, одном из самых маленьких и одном из самых лучших рассказов Варшавского – «Молекулярном кафе», давшем название его первой книге и популярной в свои годы телепередаче. Никакая кибернетика не может заменить людям простых и естественных радостей, «настоящего молока со вкусным ржаным хлебом», как и никакие электронные педагоги не заменят детям старенькую Марьванну с ее потертым портфельчиком (это я добавляю от себя). Так что уже и тогда достижения прогресса тревожили и пугали. Приходилось думать не только о том, как развивать, но и как обуздать науку, чтобы она ненароком не превратила планету в поясок астероидов. А это был спор, далеко выходящий за рамки чисто литературных и чисто научных парадигм.
Считается корректным рассматривать любые произведения в координатах своего времени. Такой подход, разумеется, необходим, иначе мы не поймем, скажем, почему автор, сконцентрировав ненавистные ему социальные пороки в вымышленной стране Дономаге, старательно подчеркивал ее капиталистическую природу. Пройдет довольно много лет, прежде чем мы признаемся себе, что Дономага – это и наша страна тоже. И, возможно, автор сделал такой намек, сочиняя свою Дономагу без всяких географических привязок, придавая ей черты всеобщности, о чем, мне кажется, догадывались все. Не случайно некоторые рассказы Варшавского смогли увидеть свет лишь в конце 80-х годов. Скажем, «Бедный Стригайло». Беспомощность и никчемность иных научных заведений, фальшь и аморализм тенденциозных «собраний коллектива», пустозвонство номенклатурных руководителей – лишь в последнее десятилетие об этом стали говорить открыто.
Должен признаться, однако, что своим пассажем о насмешках Варшавского над издержками кибернизации я отдаю дань традиционному подходу к фантастике 60-х. Не один десяток статей был написан на тему «Фантастика и НТР». И сам автор был уверен в том, что вклинивается своими юморесками в существо научных дискуссий. А ведь это был только верхний слой, под которым скрывались философские раздумья о путях человеческих.
Любой научный и социальный прогресс, не обращенный к людям, сам по себе бесчеловечен. В конечном счете он обязательно приведет к появлению и совершенствованию средств уничтожения сначала народонаселения планеты, а потом и ее самой. Мы уже притерпелись к подобным максимам, и они скользят по поверхности нашего сознания. Все же, когда мы уясняем из рассказа «Тревожных симптомов нет», во что превратился престарелый ученый после оздоровительной «инверсии», освободившей его гениальный мозг от «ненужного балласта» вроде сентиментальных воспоминаний детства, чувства сострадания, памяти о погибшем сыне-космонавте, – нам становится не по себе. Но разве люди с кастрированной совестью обитают лишь в фантастических рассказах? А не они ли направляли танки на толпы безоружных людей, не они подкладывали взрывчатку к детским домам?
Любимейшим рассказом самого автора была «Петля гистерезиса». Критики, помнится, и я в их числе, находили в «Петле…» и пародийные ноты, и научную одержимость героя, и скрытые резервы интеллекта, и даже «ненавязчивую, но активную антирелигиозность»… Перечитав ее сейчас, я усомнился в том, что автор преследовал подобные цели, зато отчетливо увидел, что он не столько восхищается находчивостью молодого историка Курочкина, отправившегося в Иудею I века, сколько презирает его приспособленчество, его демагогические способности оперировать тезисами, в которые сам ни на йоту не верит. Так что в отличие от подлинного Христа наказание, которому подвергли Курочкина обозленные его болтовней жители священного города, может быть, было заслуженным. Правда, по нынешним меркам, распятие должно квалифицироваться как чрезмерно суровая статья за демагогию и самозванство. Но ведь то был I век новой эры…
По возрасту Илья Варшавский и Геннадий Гор почти одногодки. И свои первые фантастические произведения они выпустили одновременно. Но при разных исходных позициях. Гор занимался литературой еще в 20-х годах и к началу 60-х у него уже было солидное литературное имя. И стопка книг Гора (я беру только фантастику) заметно толще. А соревнование все же выиграл Варшавский. Честно признаться, не тянется рука к полке, чтобы взять хотя бы одну из многочисленных книжек Гора, хотя, казалось бы, в них есть все, чем жила фантастика тех лет: путешествия во времени и пришельцы с дальних планет, заглянувшие на огонек к философу Канту, существа, добившиеся бессмертия и отказавшиеся от него, беседы о живописи, о загадке времени… Трудно вспомнить какую-нибудь из модных тогда научно-фантастических идей, которая бы не нашла у Гора отражения. «Их даже хочется свести в… фантастический словарик от А до Я, так их много и столь чутко они отысканы в философском слое научной информации», – подмечает доброжелательно относящийся к писателю литературовед А. Урбан. Но надо ли было вообще и, если надо, то с какой целью искать их в этом самом слое?
А. Днепров, конечно, попроще Гора. Его интересовали не столько философские, сколько технические аспекты кибернетики. В рассказе «Игра», например, усадив участников математического съезда на стадионе, превратив каждого в ячейку памяти и запрограммировав этот живой процессор по двоичной системе, он заставил их путем передачи сигналов друг другу перевести фразу с португальского на русский, доказав таким образом, что машина мыслить не может, так как каждое действие выполняется чисто механически: простым опусканием руки на плечо соседу, что должно имитировать электрический контакт. Не хочу заострять внимания на художественных достоинствах рассказа, но свою научно-популярную роль он выполняет отлично. На эту же тему пишутся длиннейшие рассуждения. Что, собственно, и делает в своих повестях Гор. Конечно, каждый из его героев произносит вполне осмысленные фразы, но задача их тоже механическая – передать собеседнику необходимое количество информации, совокупность которой дает автору возможность подвести читателя к тому мировоззренческому выводу, ради которого автор и задумывал свое творение. В повестях Гора есть множество действующих лиц, но, увы, нет людей, нет характеров – недостаток, типичный для пресловутой научной фантастики, но непростительный для столь маститого автора. Писатель как бы решил доказать справедливость полушутливой сентенции М. Анчарова: «Научная фантастика – это не литература, это изложение тезисов, разложенных на голоса». А если к этому прибавить, что в повестях Гора, как правило, не происходит драматических событий, а тем более приключений, то читателю впору и заскучать. Порок, как известно, неприемлемый для фантастики. Если меня действительно интересует одна лишь философская сущность пространства и времени, то не лучше ли обратиться непосредственно к Эйнштейну или Минковскому.
А если и интересы науки uber alles, то и автору, и героям до людей ли? Мать улетает к далеким созвездиям на триста лет, оставляя шестилетнего Коленьку, который каждый день спрашивает отца, скоро ли вернется мама («Странник и время», 1962 г.). Но вскоре и папаша покидает сына, погружаясь в трехсотлетний анабиоз. Кого теперь будет спрашивать мальчик? И что по сравнению с загадками мироздания переживания маленького сердечка, которому пришлось заживо похоронить родителей? Это же мелочь в масштабах Галактики, как и случайно убитый чеченский паренек при восстановлении конституционного порядка. Из-за таких пустяков величавая спираль Галактики не дрогнет ни на миллисекунду. Герои Гора даже не задумываются над этим.
Нет, пожалуй, иногда задумываются, но есть небольшая разница – рассуждать о чувствах и изображать эти же самые чувства, волновать ими читателей. С книгами Гора произошло то же самое, что и с его героями, которые пытаются оторвать память от себя, упрятать ее в свои приборы. А люди без памяти – это уже не люди, они не замечают, что происходит вокруг них, что происходит с их близкими, у них отсутствует стремление критически взглянуть на мир. Просыпается в той же повести человек XX века в XXIII-ем. И что же – окружающих его людей ни в малейшей степени не интересует наше время. Они не зададут ему ни одного вопроса о тех катаклизмах, которые потрясали нас. Между прочим, взгляд на них издали, с высоты был бы очень любопытен. (То же самое происходит в романе Г. Мартынова «Гость из бездны», только там наш современник «просыпается» еще позже, но опять-таки как живой свидетель истории он настолько никому не интересен, что ему приходится подумать, как бы приобрести себе какую-нибудь профессию, чтобы не чувствовать себя ненужным). В представлении Гора (и Мартынова, и многих других) материальный и научно-технический прогресс – это нечто бесконечно развивающееся, причем только прямо и только вверх, и единственное, что будет занимать людей – как расшифровать непонятные сигналы с далекой планеты Уаза. (Разумеется, когда их разгадывают, выясняется, что на Уазе был и капитализм, который хищнически губил биосферу, и классовая борьба, и восторжествовавший коммунизм).
Герой повести «Кумби» (1963 г.), который помнил всю свою жизнь до мельчайших подробностей, учится искусству забывать. Не знаю, может быть, с точки зрения самого Кумби – это для него благодеяние, но с точки зрения писателя-шестидесятника, скорее, надо было бы побеспокоиться, не слишком ли быстро мы забыли то, чего нельзя забывать ни в коем случае, не слишком ли успешно была проделана над нашим народом та самая операция инверсии, которой боялся Варшавский…
Видимо, и сам Гор почувствовал, что избранная им метода исчерпала себя. Последние его романы «Изваяние» и «Геометрический лес» я бы даже не стал причислять к фантастике шестидесятников, хотя в них много фантастического, даже сказочного. Автор попытался вернуться в них к годам своей молодости, когда он принадлежал к объединению «обэриутов». Но времена обэриутов и «театра абсурда» Д. Хармса миновали. Вряд ли читатель понял смысл запутанных ходов в этих произведениях.
Время требовало другой фантастики.
Прежде всего в ней надо было возродить нравственные начала. Слезинка ребенка снова должна была восторжествовать над тайнами Млечного Пути. В предыдущей советской фантастике слово «нравственность» вообще не котировалось. Многие авторы старательно отрицали так называемый «абстрактный» гуманизм, оправдывая любые зверства во имя прогресса.
Я не религиозен. Но, наверное, нельзя найти более точное определение классовой морали, нежели «антихристианская». К несчастью, упомянутая «теория» захватила в свои сети не только литературную мелочь, но и крупных по видимости писателей, таких, как Алексей Толстой, Максим Горький, Леонид Леонов…
Нельзя сказать, что восстановление гуманистических ценностей произошло в одночасье, фантасты с трудом преодолевали установившиеся штампы. Даже в 1964 году Днепров видел задачу фантастики в том, чтобы служить генератором идей для утомленного воображения академиков. Еще большему числу сочинителей казалось, что достаточно запихнуть героя в машину времени или звездолет, как это и будет фантастика. Вопрос, зачем это они делают, перед ними не возникал. Взять для примера хотя бы столь расхожий сюжет, как машина времени. Уже ее изобретателю она нужна была не сама по себе. С ее помощью Уэллс хотел показать, к чему может прийти человечество, если вовремя не опомнится. А зачем нужна была такая машина М. Емцеву и Е. Парнову в рассказе «Снежок»? Молодой ученый на защите диссертации эффектно забрался в свой аппарат, «отъехал» в нем на несколько месяцев назад, встретился там с самим собой, двойники мило, без особого волнения поговорили, и ученый вернулся в диссертационный зал, захватив в доказательство обыкновенный снежок. Как и в случае временных перелетов Саула из «Попытки к бегству», меня совсем не трогают «научные» объяснения возможности сосуществования двух идентичных тел. Зато меня чрезвычайно интересует: зачем авторам понадобилась эта встреча? Но ответа я не нахожу. Даже такие основательные авторы, как В. Савченко в романе «Открытие себя» или А. Громова в романе «В Институте времени идет расследование», написанном совместно с Р. Нудельманом, не удержались от соблазна поиграть в эту же бессодержательную игру.
Отрицательные примеры приводить, конечно, легче, и в глазах читателя они выглядят выигрышнее, но и среди отечественных писателей с самого начала были такие, которые сразу поняли, что новая фантастика может быть только частью художественной литературы, и сосредоточили свое внимание на людях, попавших в экстраординарные обстоятельства. Вот, например, прелестный рассказ В. Крапивина «Я иду встречать брата». Здесь есть вроде бы весь «необходимый» научный антураж – звездолет, ушедший в дальний поиск и считавшийся погибшим, его возвращение через триста лет, попытки растопить вечные льды на замерзшей планете… Но все это лишь фон для переживаний мальчика, у которого погибли родители и который думает, что на неожиданно появившемся корабле находится его брат. Брат погиб тоже, но космолетчики решают, что мальчик не должен об этом узнать. Один из членов экипажа «становится» его братом. Вот так талантливый писатель заставил нашу фантастику, мерцающую металлическим блеском роботов и звездолетов, вспомнить о доброте, о замечательной человеческий черте, которая заставляет читать рассказ с грустной и нежной улыбкой.
По тональности, по щемящей ноте к рассказу В. Крапивина близок более поздний рассказ В. Колупаева «Самый большой дом». И здесь суть рассказа не межзвездные перелеты, а та же доброта к людям, к детям… Космонавты, зная, что погибнут, спасают жизнь новорожденному сыну, направив корабль к Земле. И теперь каждая женщина Земли называет себя его мамой…
В другом рассказе Колупаева – «Билет в детство» та же тема, что и в «Снежке»; теперь, правда, уже взрослый человек встречается с собой, мальчиком. Но у Колупаева это не случайная встреча, не эффектный «хроноклазм», а нервный узел рассказа: человек отправляется на рандеву с самим собой, чтобы осмыслить прожитое, подвергнуться неподкупному суду молодости, проверить, правильно ли он жил, оправдал ли надежды и мечты юности.
Еще один пример непрекращающегося «сражения» между фантастикой «научной» и фантастикой художественной. (На самом-то деле противоречия между ними не должно быть). В «Записках хроноскописта» И. Забелина задействован хроноскоп, прибор, способный извлечь максимум информации из минимума данных. По обломку горшка, обрывку письма он воспроизводит образы людей, сделавших или бравших их в руки. Этакий электронный Шерлок Холмс, который по одной пылинке мог представить себе возраст, достаток, цвет волос преступника, а также мотивы, толкнувшие его на преступление. С помощью хроноскопа героям Забелина удалось разрешить много любопытных историко-географических загадок. Выдумка неплоха, но, кажется, автор никогда не слыхал о существовании нравственной экспертизы, а потому видит в своем аппарате одни лишь достоинства. Но ведь ясно, что с его помощью можно без спроса вмешиваться в чужие жизни. В рассказе американского фантаста А. Азимова «Мертвое прошлое» действует устройство, имеющее то же название и в принципе аналогичное забелинскому. Но рассказ написан для того, чтобы возбудить тревогу: возможность беспрепятственного заглядывания во вчерашний день может обернуться бедствием – жизнь людей будет протекать словно в прозрачном аквариуме.
Ладно, Бог с ним, с прошлым, но вот получить сообщения из будущего дело, казалось бы, бесспорно соблазнительное. Звездолет в романе «Леопард с вершины Килиманджаро» Ольги Ларионовой (1965 г.) доставляет из некоего подпространства список, в котором каждый желающий может узнать, когда именно он умрет. Я не спрашиваю, зачем и кому понадобилось составлять такой список. Но опять-таки хочу допытаться: для чего сей экстравагантный ход придуман автором? Добровольное обнародование убивающей информации выдается за победу духа, за подвиг не побоявшихся взглянуть в лицо смерти. О, разумеется, дня собственных похорон и похорон своих близких люди будущего ожидают, не прекращая творческого труда, шуток и занятий спортом…
Повесть представляется мне фальшивой по всем психологическим параметрам. И герой, который не знает даты своей кончины, и две женщины, которые оповещены о дне своей смерти и которых он любит, – все ведут себя крайне неестественно. Так, девушка, которая знает, что скоро погибнет, признается герою, не подозревающему, что видит ее в последний раз, в любви. Зачем же она призналась? Чтобы любимому тяжелее было переживать ее преждевременную кончину?
Замысел писательницы, допускаю, был благородным: показать силу чувств людей будущего, но невозможно поверить, что действительно сильные, гордые люди будут так вести себя в предложенной ситуации; больше всего, пожалуй, поражает их смирение перед роком.
Забежав несколько вперед, мы найдем в нашей фантастике произведение, которое прямо спорит с позицией Ларионовой. Я имею в виду повесть Крапивина «В ночь большого прилива». В ней тоже кто-то сумел заглянуть в будущее и привезти оттуда сведения, в которых расписано все, что случится в дальнейшем – с планетой, со страной, с каждым человеком.
В отличие от героев Ларионовой у Крапивина даже мальчишки поняли, что страна катится в пропасть: всеобщая предопределенность полностью лишает людей воли. Сообразили ребята и то, как можно уничтожить злой справочник: надо сделать так, чтобы хоть одно его предсказание не сбылось. А за ним рухнет и все остальное.
Гораздо удачнее получаются у писательницы сравнительно небольшие притчи, в которых тоже подвергаются анализу моральные качества людей будущего. Впрочем, будущего ли? Не псевдоним ли это настоящего? Таков, например, рассказ «Обвинение». Темиряне, среди которых ведет научную работу экипаж земного звездолета, странно устроены. Они могут жить только рядом друг с другом, согреваемые волнами сочувствия ближнего. Член племени, оказавшийся в одиночестве, погибает, «замерзает», как они говорят. В фантастической гиперболе писательница рассмотрела солидарность, чувство общности, сознание собственной нужности для остальных.
Из-за непростительного любопытства одного из членов экипажа умирает мальчик-темирянин. Презрением и гневом окружают Грога товарищи, и неожиданно обнаруживается, что тот тоже «замерз» в своей каюте. «Человек не может жить, если все кругом о нем думают плохо», – тихо проговорил Феврие, и никто из нас не посмел возразить, что это правило справедливо только для жителей Темиры…»
Вот несколько более поздняя повесть О. Ларионовой «Сказка королей». Нежданно-негаданно русский юноша и французская девушка переносятся на иную планету-Представители цивилизации, величественной, но застывшей в своем развитии, потерявшей вкус к жизни, решают посадить, фигурально говоря, под стеклянный колпак двух красивых землян, чтобы, наблюдая за ними, попробовать вновь разгадать тайну молодости, любви. Но живые люди не могут радоваться жизни, будучи посаженными в тюрьму, пусть даже их тюрьма замаскирована под райский сад. Они начинают бунтовать. Особенно сильное впечатление производит финал. Для удовлетворения старческого любопытства жестокие хозяева умерщвляют девушку – им хочется «вникнуть» в переживания юноши. И хотя «Сказка…» описывает далекие от Земли берега, нам нетрудно приложить к этой фантастической модели множество земных ситуаций…
А Михаил Анчаров проделал подобную операцию сам, прочертив рядом с тремя нефантастическими повестями («Теория невероятности», «Золотой дождь», «Этот синий апрель») фантастическую параллель, состоящую тоже из трех названий: («Сода-солнце», «Голубая жилка Афродиты», «Поводырь крокодила», 1966–1968 гг.). И хотя фантастическими их назвал сам автор, фантастика Анчарова настолько своеобразна, что у многих, возможно, возникнет сомнение, можно ли «Соду-солнце», например, вообще отнести к привычно-обычной научной фантастике. К привычно-обычной безусловно нельзя. Но, может быть, в этом утверждении содержится наивысший комплимент, который можно сделать автору.
Зачем же автору понадобилась такая параллель, если речь идет об одних и тех же людях, стоило ли городить фантастический огород, если и проблемы одни и те же?
Для ответа надо начать с самих героев: физика Алеши Аносова, художника Кости Якушева и поэта Гошки Панфилова. Во всех троих есть очень много от самого Анчарова. Их поколение характеризуется в повести «Этот синий апрель» такими стихами: «Наш рассвет был попозже,//Чем звон бубенцов,//И пораньше, чем пламя ракеты.//Мы не племя де-тей//И не племя отцов,//Мы цветы//Середины столетья…» Заметим, что именно Анчаров был родоначальником авторской песни, предвосхитив на несколько лет и Окуджаву, и Высоцкого, и Галича, и Кима… Сама авторская песня стала столь же неотъемлемым и столь же неожиданным признаком движения шестидесятников, как и фантастика.
Вот и названо то ключевое в этой статье слово, которое объединяет героев Анчарова с их автором. Они – шестидесятники, этим сказано все. Шестидесятники вовсе не представляли собой монолит единомышленников. Они (или мы) были разными. Анчаров занимал, так сказать, крайний, радикально-романтический фланг. В более низком «штиле» его можно назвать неисправимым оптимистом. Но он был не одинок. Стругацкие в «Полдне», Аксенов в «Коллегах», даже Войнович в ранних рассказах отразили не столько ту жизнь, которая их окутывала, сколько ту, которую они хотели бы видеть не в далекой дали «Туманностей», а сейчас, сегодня. Правда, у большинства оптимизм долго не продержался. А вот Анчаров не сдавался. Он продолжал верить в то, что даже самых плохих людей можно перевоспитать в очень хороших. Пожалуй, в его постулатах был избыток прекраснодушия, но если в жизни каждого не было бы ожидания алых парусов, то насколько она была бы унылее. (Недаром Грин оставался любимым писателем Михаила). Возможно, Анчаров и сам чувствовал, что его реалистические повести отражают время не столь правдиво, как, скажем, «городские» повести Ю. Трифонова. Вот тут-то фантастика и пришла ему на выручку. А так как основная тема Анчарова, смысл жизни его и всего человечества – это творчество, и не просто творчество, а творчество по законам красоты, то его герои постоянно творят, творят у нас на глазах. Даже забавные розыгрыши «Сода-солнца» в научно-исследовательском институте – это тоже творчество. И хотя никто не назвал бы фантастику Анчарова научной, он, между прочим, показал иным, так называемым научным фантастам, что такое подлинная выдумка и подлинная эрудиция. Теории, которые выдвигают его герои (то есть, конечно, сам автор) не только оригинальны, но и столь убедительно обоснованны, что мне, дилетанту, трудно даже судить, правда это или все-таки фантазия. Гошка, например, убеждает, что мастера, строившие Кремль, были непосредственно связаны с Леонардо да Винчи. А в более позднем «Самшитовом лесе» герой доказывает знаменитую теорему Ферма. Ученые, правда, вряд ли удовлетворятся его построениями, однако попробуйте хотя бы предложить новые пути решения загадки, над которой математики бьются триста лет.
Наступил 1968 год. Советские танки ползут по Праге. Но встречают их не так, как в 1945-ом. Еще живы современники и того, и другого марша. Жив и И. Ефремов. Зажмуриться, будто ничего не случилось, и писать новые «Туманности» стало невозможно. И Ефремов, не захотевший поддержать Стругацких в их отчаянной схватке с Системой, предпринимает новую попытку защитить дорогие для него идеалы. Но уже с другого конца. В предпоследнем своем романе «Час Быка» торжество зла он связывает с поражением социализма. Так думали и до сих пор думают многие. Но снова Ефремов не был понят. На этот раз с ним расправились жестоко. Любые изображения тоталитарных диктатур власть принимала на свой счет. Придуманную Ефремовым планету Торманс, погрязшую в застое и моральном распаде, она так и восприняла, несмотря на то, что в книге же показан противовес в виде коммунистической Земли. Бдительные идеологи рассудили, что земной экипаж введен лишь для отвода глаз, а вот все, что происходит на Тормансе, – это очередной антикоммунистический пасквиль.
А впрочем, на этот раз я бы не поручился, что у Ефремова не было намерения хотя бы в «кривом» зеркале фантастики показать, до чего могут довести страну неразумные правители. Трудно не увидеть сходства с оригиналом, который был у писателя перед глазами ежедневно. «…город… встретил их удручающим однообразием домов, школ… мест развлечений и больниц, которое характерно было для поспешного и небрежного строительства эпохи «взрыва» населения…»; «Ваша общественная система не обеспечивает приход к власти умных и порядочных людей, в этом ее основная беда…»; «И… сразу стал вопрос: кто же ответит за израненную, истощенную планету, за миллиарды напрасных жизней? До сих пор всякая неудача прямо или косвенно оплачивалась народными массами. Теперь стали спрашивать с непосредственных виновников этих неудач»… Типично инопланетные проблемки, не так ли?
Несомненно, однако, что Ефремов не собирался заниматься «очернением» нашей действительности. Он хотел всего-навсего исправить ошибки, а потому считал гражданским долгом указать на них. Он все еще надеялся раскрыть глаза власть имущим. Но советским писателям не полагалось делать неподобающих намеков. «Римская империя времени упадка сохраняла видимость крепкого порядка», – пел также гонимый Окуджава.
Напрасно удивляются некоторые доброжелатели: с чего бы «Час Быка» после своего появления в 1969 году вскоре исчез из обихода? В собрании сочинений 1975 года о нем не осмелились напомнить даже авторы послесловия. Удивляться следует тому, что в конце 60-х годов роман пробился в свет. Почему это произошло и почему не полетела ни одна голова, для меня до сих пор остается загадкой. Ефремов был не из тех, которые кидались грудью на амбразуры и, скорее всего, не ожидал кампании травли и замалчивания, которая сопровождала его до смерти в 1972 году и даже после смерти, когда в его квартире был произведен загадочный обыск, породивший множество слухов.
Если сравнивать ценность произведений Ефремова, то я бы отдал предпочтение «Туманности Андромеды». В свое время она была нужнее. В «Часе Быка» автору не удалось внести что-нибудь принципиально новое в мировую библиотеку антиутопий, хотя безобидным роман не назовешь, а термин «инферно», то есть та дьявольская дыра, в которую периодически проваливаются страны и народы, великолепная авторская находка.
Самой ситуацией Ефремов еще раз вернул нас к вопросу о праве цивилизации, считающей себя высшей, на вмешательство в дела чужих планет, чужих народов. Но осталось до конца неразъясненным – каким все же образом планета Торманс стряхнула власть жестоких правителей и влилась в Великое Кольцо свободных человечеств? Скорее всего, автор и сам не знал ответа, но, видимо, надеялся, что, прочитав его роман, компетентные лица поймут: так жить нельзя. Увы, они не поняли и продолжали жить так. А страна все более погружалась в бездонную пропасть инферно…








