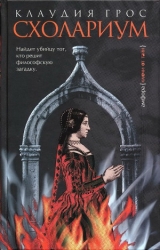
Текст книги "Схолариум"
Автор книги: Клаудия Грос
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц)
Софи хотелось уйти. Лучше дождь и гроза, чем подобное общество. Хозяин пулей полетел, чтобы принести пиво для парня, у которого в руках все еще поблескивало орудие смерти. Ломбарди встал и повел Софи через толпу прочь. Выйдя на улицу, они увидели, что совсем рядом, прямо перед женским приютом, в дерево попала молния.
Позже Софи даже вспомнить не могла, с чего все началось. Видимо, кто-то из мужчин, вывалившихся из трактира, схватил одну из приютских и принялся танцевать с ней прямо на улице. А потом вдруг вспыхнула драка. Софи оказалась в самом центре. В безотчетном страхе она прижалась к ограде, палки и сучья летали прямо над ее головой. Хотя дождь и загасил горящее дерево, оно вдруг упало. А потом Софи заметила рядом с собой парня, который пытался заставить женщину танцевать, а она, наверное, подумала, что настал Страшный суд, потому что вопила и отбивалась руками и ногами. И тут парень с хохотом обхватил своими сильными пальцами ее шею и сдавил. Женщина упала на колени, но он не отпускал свою жертву, давя со смертельным спокойствием все сильнее и сильнее. Все замерли и молча смотрели. И вдруг он упал. Мертвый. Свалился на землю, как будто в него тоже попала молния. А сзади стоял Ломбарди, зажав в руке нож, с которого капала кровь. Софи закрыла глаза.
– Он спас жизнь женщине! – закричали люди подбежавшему стражнику, который склонился над мертвецом.
Женщина хрипела и ощупывала след на шее – красные отпечатки рук, которые ее душили только за то, что она не хотела танцевать. У мертвеца – сейчас это было ясно видно – не хватало одного уха. Не тот ли это вор и убийца, которого уже давно разыскивают? Наверное, гроза выманила его из укрытия, обнадежив, что он сможет всласть пограбить. Но зачем такой тип заставлял эту женщину танцевать?
Софи открыла глаза. Труп все еще лежал на земле, а Ломбарди беседовал со стражником, спокойно и по-деловому. Стражник хотел узнать, откуда у него нож Он всегда берет его с собой, если выходит из дому в темное время суток Его зовут Зигер Ломбарди, он магистр семи свободных искусств, живет в схолариуме на Гереонштрасе. Стражник кивнул. При свете фонаря было видно, что все приютские собрались вокруг своей пострадавшей товарки, а та на трясущихся ногах подошла к Ломбарди и принялась благодарить. Он лишь улыбнулся.
День святого Иоанна прошел, желтые цветы завяли. Теперь на полях буйствовали маки и колокольчики, да и пшеница нынче уродилась. На песчаный берег накатывали легкие волны, в воде сверкали солнечные лучи. Ниже по течению на берегу стоял маленький домик там можно было перекусить. Штайнер проголодался, впрочем и выпил бы тоже с удовольствием. Издалека он увидел насаженные на вертела рыбины, жарящиеся над огнем.
Иорданус уже ждал Штайнера. Он тоже пришел пешком, правда по другому берегу, а от причала сюда без малого час ходьбы, поэтому ступни у него просто горели. Штайнер заказал жареную рыбу и пиво. А потом посмотрел на усталого, измученного Иордануса и улыбнулся. На противоположном берегу раскинулся распаренный жарой город.
– Я старею, – заявил Иорданус, снимая башмаки. – Состояние такое, как будто я совершил паломничество в Сантьяго-де-Компостела. А ведь всего-навсего прогулялся по берегу, к тому же половину пути проехал в лодке.
– Если мы будем постоянно корпеть над книгами, то вообще забудем, как выглядит этот мир, господин магистр, – пошутил Штайнер.
– А разве мы еще не забыли? Иногда на диспутах меня посещает мысль, что мы заплутали в мечтах и фантазиях. Вот это… – он показал на окружающие поля, – это же реальная действительность. Вы способны обработать поле? По-настоящему? Посеять зерно, а потом собрать урожай?
Штайнер покачал головой:
– Нет. Я не крестьянин. Да и вы тоже. Так уж случилось, что кто-то обрабатывает поля природы, а кто-то – поля духа.
– Может быть, первое лучше, – пробормотал Иорданус.
– У вас отвратительное настроение.
Неожиданно Иорданус наклонился и схватил Штайнера за рукав:
– Вы не имели права спрашивать у магистров про плащи. От этого в крови начинает бурлить злость.
– Знаю, но я хотел убедиться. И это у меня получилось. Теперь каждый из нас вне подозрения.
– Все, кроме Ломбарди.
– Да, вполне возможно. Но если он смог за полчаса добежать до моего дома и обратно, а между делом убить Касалла, то он знается с нечистой силой. А между тем один наш коллега клянется, что Ломбарди уходил не больше чем на полчаса.
– Коллега может ошибаться. Я говорю вам, Штайнер, Ломбарди – это уравнение с двумя неизвестными. Я ему не доверяю. Слышали, что позавчера он спас жизнь какой-то женщине из приюта? Всадив человеку нож в спину? Ну, и сами понимаете, что из этого вышло. Кёльнцы чествуют его теперь как героя, к тому же он прибавил славы факультету.
– Но ведь парень просто хотел с ней потанцевать, – сказал Штайнер.
– Он ее чуть не задушил. Она до сих пор не встает с постели. И никто не хотел ей помочь. Все стояли вокруг и глазели.
– Пока не появился Ломбарди.
– Да, пока не появился Ломбарди.
– Вам не кажется, что он слишком поспешно хватается за нож?
Иорданус покачал головой:
– Что это значит, Штайнер? Против него можно говорить что угодно, но если бы он не проявил человеколюбие, женщина наверняка уже была бы мертва. Пусть кое-кто скажет, что это всего-навсего старая карга, но человеческая жизнь все равно остается человеческой жизнью.
Штайнер отпил пива. Вытянув ноги, он, моргая, смотрел на солнце.
– Иорданус, я топчусь на месте. Признаюсь, проверить плащи – это была идея Ломбарди, и в этой идее оказалось некое разумное зерно. Но дело не в плащах. Я на совершенно неправильном пути и не вижу выхода, сколько бы ни ломал голову. Я почти верю, что преступление совершил сумасшедший, оставил нам бумажку, а теперь помирает со смеху, видя, как мы мучаемся, прикидывая то так, то этак. Sapientia меня покинула. Думаю, мне следует сосредоточиться на Домициане фон Земпере, это единственная зацепка, которая у меня есть, потому что, возвращаясь в схолариум, он спокойно мог пройти по Марцелленштрасе. Там, например, столкнулся с Касаллом и воспользовался представившейся возможностью.
– Хорошо. Предположим, что он единственный, кто в это время был на улице. Софи Касалл и Лаурьен не вставали со своих постелей. В таком случае именно он должен был составить загадку и разрезать плащ…
– А что там еще лежало, кроме плаща?
– Башмаки, но они принадлежали самому Касаллу. В этом может поклясться его жена.
– Она уже подтвердила, что плащ его. А если она лжет?
– А если завтра мир перевернется вверх ногами? Штайнер, во что вы, собственно говоря, верите? Если вы занимаетесь этим делом, у вас должна быть твердая точка зрения.
– Верно, – пробормотал Штайнер. – Но если она действительно лжет?
– А зачем ей лгать? Чтобы выгородить саму себя?
– А если они все врут?
– Надеюсь, вы это не серьезно?
– Да, – тихо сказал Штайнер, – это я не серьезно… Что вы знаете о Ломбарди?
– Немного. Что он умен, магистром стал уже в двадцать лет. В Париже. Потом поехал в Прагу, потом в Эрфурт. Что питает слабость к Оккаму и Бэкону [31]31
Бэкон, Роджер (1214–1292) – английский философ и естествоиспытатель. Доказывал, что знания можно получить не в богословских спорах, а только с помощью опытов, направленных на изучение природы.
[Закрыть]. Убивает мужчин, которые пытаются надругаться над женщиной. Что он не слишком богат. Что красив и циничен…
– И что у него есть возможность водить нас всех за нос, – проворчал Штайнер.
Какое-то время они молча смотрели на детей, играющих на берегу, пока Иорданус не поинтересовался, а где же был Ломбарди в течение того получаса.
– У женщины, но имя я не спрашивал. Он полагает, что если я умею считать, то подозревать его в убийстве не стану. Он не обязан мне ничего рассказывать. Но вообще-то мне бы хотелось знать, у кого он был.
С противоположного берега донеслись удары колокола. Через час закроют городские ворота. Иорданус с ужасом подумал об обратном пути, и на лице у него появилась гримаса боли.
– У меня ноги не двигаются…
Штайнер ухмыльнулся:
– Значит, вам придется ночевать здесь, уважаемый коллега. Я слышал, что тут вполне приличные постели.
Иорданус поднялся.
– Огнем горят, – сказал он чуть ли не торжественно. – Жжет, как будто от тысячи свечей. Теперь я знаю, что испытывают мученики, которых охватывает пламя. О милосердие Божие, коснись меня…
Они отправились в путь. Иорданус решил снять башмаки и босиком трусил рядом со Штайнером. Приближающуюся по лугу повозку, запряженную быками, он заметил издалека. Наверное, торговец или крестьянин, спешащий попасть домой.
– Он просто обязан взять меня с собой! – Иорданус пришел в восторг. – Пусть довезет меня до лодки.
Он завопил так громко, как будто речь шла о жизни и смерти. Повозка остановилась, мужчина посмотрел на них. Иорданус призывно размахивал руками. «Слава Богу», – с облегчением подумал Штайнер, когда повозка наконец подъехала к ним.
Иорданус предложил вознице несколько монет, если тот поможет ему добраться до лодки, которая перевезет его на другой берег. Тот согласился, и Штайнер продолжил путь в одиночестве. Идти надо было еще добрых полчаса. И вдруг он услышал – по крайней мере так ему показалось – голос.
– Штайнер!
Он подскочил. Это мог быть только Иорданус, но ведь сейчас он сидит на тряской телеге, целиком и полностью посвятив себя своим ступням. Странно, ведь больше здесь никого не было.
Штайнер покачал головой и пошел дальше.
Софи родилась вне городской территории, так сказать за воротами Кёльна. Но потом город принял отца на работу переписчиком, семья переехала и получила бюргерские права. Теперь, когда Касалл умер, да и отец вот уже год как лежит в земле, мать потребовала, чтобы она вернулась домой. Но Софи отказалась. Она намерена принимать решения самостоятельно. Позади у нее двухлетний ад: брак с побоями и унижениями. Теперь все должно кончиться. Ей не хотелось переходить от одного хозяина к другому. Вообще-то сестры мечтали, чтобы Софи, как и они, стала крутильщицей нити, тогда она сможет вступить в цех и зарабатывать деньги, но к работе с нитками у Софи было ровно столько же таланта, сколько у Гризельдис – к супружеской верности. С Гризельдис Софи познакомилась в мастерской своих сестер, где та какое-то время тоже крутила нить. Гризельдис была полной противоположностью Софи: она всегда знала, чего хочет. Так что Софи даже не удивлялась тому, что она богатеет, торгуя своим телом, и при этом безо всякого ущерба для себя, Гризельдис рассказывала, что на все вопросы мужа она только пожимает плечами, и он верит, будто она до сих пор работает в мастерской. Дурачок, ничего не замечает. Он торговец и почти не бывает дома.
Софи хотела быть похожей на Гризельдис, тоже хотела стать проще и решительнее. Но ей не хватало бесстыдства. Она постоянно размышляла и регулярно натыкалась на моральные препоны. Ее натура требовала обдуманных действий: сначала необходимо взвесить все за и против, прикинув и так и этак. Вместо того чтобы принять решение, она целыми днями сидела у окна и считала лошадей на площади и удары кнутов.
– Как ты можешь говорить, что тебе противно, если ты даже не пробовала?
Гризельдис вынула из корзины сыр, хлеб и бутылку вина. Сдачу тоже выложила на стол.
– Этого надолго не хватит. Боюсь, тебе все равно придется крутить нить.
Софи кивнула. Крутить нить – это почтенная работа. Каторжная, но почтенная. Став крутильщицей, она найдет себе хорошего мужа. Такого, как Касалл, про которого отец когда-то сказал, что лучше просто не бывает. А не позволят ли ей выполнять какую-нибудь работу для факультета? Что-нибудь переписывать… По крайней мере, можно спросить, потому что от спроса никакого вреда не будет.
– Кто он? – спросила она.
– Я его не знаю. Молодой человек, не скупой. Этими деньгами можно оплатить квартиру за целый месяц; кроме того, у тебя будет хорошая еда и ты сможешь сделать первый юное кредиторам.
– А ты не чувствуешь себя грязной, Гризельдис?
Нет, грязной Гризельдис себя не чувствовала. Гризельдис родом из нищей семьи, так что постель оказалась для нее лестницей наверх. Софи прижалась лицом к стеклу. Там, внизу, взлетали и опускались кнуты лошадников. Удар, второй… Похоже, жизнь состоит из одних ударов.
Она даже не знала имени хозяина. Не знала она и названия переулка, в который ее, закутанную в длинную накидку, вела Гризельдис. В желудке обустроилась тошнота, похожая на мерзкую жабу. Мать вынуждала ее вернуться домой – если дочь откажется, то она не даст ни пфеннига. Скоро начнется новый месяц, и она не получит кредита. Или все-таки? Как вдова уважаемого магистра… Тоже можно было бы спросить, но она колебалась. Вся ее жизнь – нерешительность и колебания, и даже сейчас, когда ситуация сложилась весьма однозначно, она вышагивала настолько медленно, что Гризельдис разозлилась.
Дом, дверь, лестница, снова дверь, комната, аккуратная и чистая. Хорошая кровать у стены, окно, занавешенное легкой темной тканью, на столе – искусно изготовленные кубки, бутылка хорошего вина. Довольно мрачно, потому что горят всего две свечи. Вокруг тишина, словно здесь никто не живет.
– Час, – сказала Гризельдис, – и сними вуаль. Он уже заплатил, деньги получишь от меня. А теперь выпей.
Софи сняла вуаль, положила ее на кровать и закрыла глаза. Еще можно уйти. К матери, которая примет ее с распростертыми объятиями и пошлет в мастерскую. Возможно, она даже окажет ей услугу и сама спросит на факультете насчет переписывания…
Прочь отсюда, прочь! Она решительно встала. Тяжелые длинные юбки задели стоящий на полу кубок, и вино вылилось на дощатый пол. И тут она, замерев от ужаса, увидела, как открывается дверь. Медленно. Он даже не постучался.
Она остановилась и торопливо накинула вуаль. Он вошел и закрыл за собой дверь. Стройная фигура. Он снял перчатки и бросил их на стол. Энергичный жест. Лицо неразличимо в скудном свете свечей. Софи испугалась. Теперь это были не теоретические угрызения совести, не расплывчатое отчаяние, а конкретная боязнь конкретного мужчины. Камзол, остроносые башмаки, легкий летящий плащ.
– Вы хотите остаться под вуалью?
В голосе она уловила иронию. А еще этот голос показался ей знакомым. Где-то она его уже слышала. Но где?
– Мне это не мешает, – приветливо сказал он и бросил плащ на кровать. Потом подошел к окну и чуть-чуть отодвинул занавеску. Теперь Софи поняла, кто перед ней. Нужно немедленно бежать. Она поддернула юбку повыше и от всей души надеялась, что он не сдвинется с места. Но стоило ей добраться до двери, как он обернулся, схватил ее и снял с лица вуаль.
– Ломбарди…
Он опустил руки и вгляделся более внимательно. Бедный магистр и вдова его погибшего коллеги. «Откуда у него столько денег?» – промелькнуло у нее в голове. Какое-то время они молча стояли друг напротив друга, пока наконец он не сел на кровать.
– Я не мог знать…
– Нет, конечно же нет.
Для нее все было гораздо хуже, чем для него, потому что он просто мужчина, пришедший к проститутке, а она… она будет обесчещена, унижена и превратится в позор города и факультета, если только он обмолвится хоть словом. Он догадывался, о чем она думает.
– Я вас не выдам, – пробормотал он и уставился на носки своих башмаков. – Но мне бы хотелось знать почему. Вы настолько нуждаетесь?
– Касалл оставил мне одни долги, – тихо ответила она. – Представляете, сколько времени мне бы пришлось крутить нить, чтобы расплатиться? Я не хочу возвращаться к матери.
Из ее глаз полились слезы. Она почувствовала бесконечную усталость.
– Сядьте рядом со мной.
Кровать оказалась мягкой. Как ей хотелось его, этого Ломбарди, в тот раз, когда он приходил за книгой Касалла. Но здесь?! Она даже смотреть на него не могла.
– И как же давно это длится?
– Сегодня первый раз. Сначала я не хотела, но потом подумала, что это самый простой выход…
Он тихонько засмеялся:
– Воля и познание, помните? Касалл рассказывал про ваш разговор. Вы его презирали, так ведь?
– Его бы презирала любая женщина. Он бил меня и унижал только потому, что я могла читать его книги и была не глупее его. Познание, Ломбарди, это пустое место, оно подобно висящему на крючке червяку…
– А что же тогда удочка, на которой висит этот крючок?
Она повернула голову. Теперь они сидели как на факультете и вели диспут.
– А удочка, Ломбарди, это сердце. Но об этом вы, артисты, даже слышать не хотите.
– Судя по вашим словам, вы не придаете особого значения познанию. А как насчет воли? Она тоже на удочке?
– Воля следует за разумом, – пробормотала она и подняла глаза. – Фома говорит, что воля следует за разумом. Но вы в это не верите. Вы не последователь Фомы.
– В это я действительно не верю. Изучаю, потому что так записано в уставе, но думаю, что воля свободна. И думаю, что наш метод поиска истины приводит к безумию. С таким же успехом можно ждать, что дождевой червяк вдруг примется летать. Он этого не сделает, мы прождем напрасно. И все-таки мы не прекращаем рубить мир на куски и искать летающих червей.
– В Эрфурте вы читали про Оккама и Скота…
– Да, там больше к этому расположены. То, чему мы учим сегодня, будут повторять даже через пятьсот лет, – ведь разве сейчас мы не занимаемся тем, о чем думали уже за пять сотен лет до нас? Вы не были на медицинском факультете? Я слышал про персидских врачей, которые рассматривают человека как единое целое, а не как сумму костей и органов, соков и хрящей.
– А что же такое человек как единое целое? Разве это не сумма отдельных компонентов?
– Познание есть конструкт, – весело произнес Ломбарди, – точно так же и воля, и ваше сердце, о котором вы так очаровательно говорите. Это идеи, которые мы составляем, подобно тому, как можем составить себе идею летающего червяка.
Они молчали до тех пор, пока Ломбарди не встал, чтобы наполнить кубки вином.
И тут вдруг он холодно сказал:
– За этот час я заплатил много денег. Но не для того, чтобы вести с вами дискуссию. – Он протянул ей вино.
«Час закончился, – подумала она, – сейчас пройдет ночной сторож и объявит новый». Она встала:
– Деньги я вам верну.
Но он покачал головой.
– Нет, этого вы не сделаете.
Он хочет ее напугать?
– Вы можете меня уничтожить, – прошептала она, – именно этого вы хотите?
– Нет, – он засмеялся, – я ведь уже говорил, что не выдам вас. Но, видите ли, Софи, мы с вами заключили соглашение, и вы мне приятнее, чем любая другая…
Он погасил свечи. Она знала этот запах розовой воды от его волос, тяжелый и сладкий. По улице эхом разнесся голос ночного сторожа. Час прошел, но она почувствовала, что отвращение испарилось. Ломбарди был и молод, и красив, и умен, лучшего жениха ей не найти. Для мужа она была первой женщиной, и он умел только в перерыве между чтением задрать ей юбки и удовлетворить свои потребности. Ломбарди, хладнокровно использующий положение Софи, хотел, видимо, получить за свои деньги удовольствие. Он смеялся ей прямо в ухо и заставлял ее мурлыкать, как его маленькая кошка, которую он тайком протащил в схолариум. Он бы охотно рассмотрел ее поподробнее, но в комнате было темно, а он слишком ленив, чтобы зажечь свет. Так что он представил себе, как она должна выглядеть. Кожа словно лепестки магнолии, глаза как лазурное небо, на котором поблескивают белые облака. Иди сюда, моя маленькая кошечка, час подошел к концу, а мое желание – нет, мы еще даже не добрались до начала.
За окном послышались шаги. Подвыпившие студенты, возвращающиеся из пивной, они шумят и мешают жителям спать. А теперь вдобавок ко всему еще и принялись музицировать: зазвучала цыганская мелодия, которую выводили две скрипки. Наверняка жители вот-вот начнут швырять в них кружки и веретена, а потом еще и стражников позовут.
Софи прислушалась. А если и правда придет стражник? Ей нужно домой. Но Ломбарди мягким движением взял ее за руки и положил их себе на плечи.
– Они скоро уйдут, – пробормотал он и вдруг, как будто испугавшись, что она все-таки убежит, потащил ее к кровати. Как только она заметила, что дело принимает серьезный оборот, в ней снова проснулось отвращение. Притаившаяся в желудке ядовитая жаба заворочалась и попыталась выбраться наружу. Софи оттолкнула Ломбарди и выскочила за дверь. Побежала по коридору, мрачному и узкому. Вот и лестница, но внизу ведь студенты, изображающие музицирующих цыган.
Но за это время студенты уже исчезли. Дрожа от волнения, она завернулась в накидку, опустила на лицо вуаль и выбежала на улицу. К счастью, в данный момент пустынную. Софи огляделась: где это она? Пресвятая Дева, помоги! Вон там, сзади, должно быть, церковь Святой Цецилии. Значит, ей в другую сторону. Ноги уже все в грязи и нечистотах, в спешке она не успела надеть обувь. Никакого света, только луна, выглядывающая из-за туч. Наконец она добралась до сенного рынка. Запыхавшись, пробежала его насквозь, и вот она уже у своей двери. Быстрее наверх. В комнате было открыто окно. Она закрыла его и только тогда зажгла свет.
И если бы мир был голубым, как лимон, вы бы все равно захотели это доказать Вы знаете двойную истину скотизма? Что нечто может быть истинным и одновременно неистинным? Все дело в точке зрения. И я спрашиваю, где же стоите вы?
Это вопрос насчет точки зрения? Сомнению можно подвергнуть все, даже собственную точку зрения. Штайнер искал мотив, хотя в этом не было никакого смысла. Мотив он имел: месть, ненависть, зависть.
Штайнер покачал головой. Ломбарди отбрасывал тень, похожую на волка. В принципе не так уж это и важно, верит он в Бога или нет. Кто здесь в него верит? Желание что-то доказать не означает, что в доказательство требуется вложить свою веру или свою душу. И все равно, как только он увидел Ломбарди, на него повеяло холодом. Как все происходило с той женщиной из приюта? Ему пришлось пересилить себя, чтобы всадить человеку в спину нож? Ломбарди ничего не рассказывал. А к мессе ходят все, даже те, кто ни во что не верит.
Он уже готов был его спросить. Но во время мессы, перед лицом Бога, задавать такие вопросы не следует. Над их головами витал душный запах ладана, а монотонный хор служителей заполнял уши. Говорят, что существуют секты, члены которых позволяют себе совершать непотребство прямо на алтаре – надругаться над на все готовыми и больше уже не владеющими своими чувствами монахинями, которые ослеплены настолько, что совокупляются в святом месте. Кто-то ему про это рассказывал. Это были слухи, но весьма упорные. Одни забивают себя до смерти, другие занимаются травлей и убийствами, третьи развратничают в церкви. Говорят, что Ломбарди относится к последним. Штайнер уже забыл, кто ему шепнул такую новость, да и не такой он человек, чтобы с готовностью верить во все подряд. Но все-таки…
Сейчас они пойдут к причастию. У него заболели колени. Но что эта боль по сравнению со страданиями Христа? Члены клира в своих темных сутанах прошли по хорам и преклонили колена на грубом помосте.
«Вы хоть раз совокуплялись с монахиней на алтаре? Говорят, что они согласны, но может быть, и нет. Вы их насиловали? Должно быть, вы являетесь очевидцем невероятных сцен». Если он будет возводить подобные обвинения, то и сам может оказаться на кухне дьявола. Краем глаза Штайнер заметил рядом опустившегося на колени, сложившего руки и склонившего голову Ломбарди. Что будет, если спросить напрямую? Сможет ли он по реакции собеседника понять, в чем же заключается истина? Распространение гнусных слухов – это тоже грех.
Они поднялись с колен и пошли вперед. Священник что-то едва слышно бормотал себе под нос. Он почти ни на кого не обращал внимания, механически совал облатку в чужие губы, но поднял голову, когда приблизился Ломбарди. Мимолетный взгляд, вот и всё; когда подошел Штайнер, священник уже снова опустил глаза.
«Призраки. Мне повсюду мерещатся призраки с пустыми глазницами». К выходу он направился под звуки хорала. Штайнера ослепило позднее вечернее солнце. Сейчас или никогда.
– Они встречаются в одной церкви. Avidissimum animal, bestiale baratum, concusicienta camis, duelleum damnosum… Это их алфавит, но они приписывают ему другое значение. Перед алтарем стоит священник. Он выбирает себе одну из женщин; они предлагают ему себя, поднимая юбки и обнажая грудь. Та, которую он выбрал, ложится на алтарь, и он в нее входит. Послушники совокупляться не могут, это прерогатива священника, который перебирает всех женщин по очереди…
Штайнер молчал. Инквизиторские расследования отданы на откуп доминиканцам. А в Кёльне инквизитора нет. Пока еще. Но он, Штайнер, никогда не был лицом духовным, он артист. Схоласт, возводящий здание духа. А в данный момент он, преисполненный сомнений, возводил дурную славу Ломбарди.
– Вам это известно только с чужих слов?
Иорданус, остановившийся со Штайнером перед церковью, говорил так тихо, что было почти ничего не разобрать. Ломбарди уже успел попрощаться и исчез.
– Конечно, только с чужих слов. Не думаете ли вы, что я при этом присутствовал?
– А от кого вы это слышали?
– От человека, которому положено об этом знать.
Значит, доминиканец. Их в этом городе не меньше, чем мух.
– И как же они себя называют?
– Понятия не имею. Но разве это важно?
– Нет. Важно исключительно одно: имеет Ломбарди к ним отношение или нет. – Иорданус внимательно на него посмотрел. – Вы все еще подозреваете, что это он убил Касалла.
– Если вдруг он имеет к ним отношение, то это, по крайней мере, уже мотив. Magister in artibus, который входит в секту… Это значит, он ослеплен. От такого можно ждать чего угодно.
Иорданус покачал головой.
– Если вы обмолвитесь хоть словом, вас не отпустят до тех пор, пока не вытрясут из вас всё. Вы же знаете, как это бывает: подозрение – это все равно что вызов в суд. Или же как аутодафе. Вы действительно этого хотите?
Штайнер поднял руки, как будто давая клятву:
– Вы неправильно меня поняли. Я не хочу никого обвинять, и вопросы до сих пор я задавал только вам, больше никому. Но если вы что-то знаете или слышали, тогда скажите мне, ради бога. Прошел слух, что Ломбарди покинул Эрфурт, потому что возникли сомнения в его безупречности.
– И тем не менее ему разрешено преподавать в Кёльне? – возразил Иорданус. – Кто бы его сюда принял, если бы в этих слухах была хоть доля правды? Никто. Никто из нас об этом не знал. Но откуда об этом знаете вы? Вы ведь солгали насчет «человека, которому положено об этом знать», я прав? Боюсь, что вы слишком вжились в роль advocatus diaboli [32]32
Адвокат дьявола, возражающая сторона в диспуте по поводу канонизации, согласно принятой в католической церкви процедуре.
[Закрыть].
Штайнер смущенно смотрел на свои башмаки Студенты. Об этом ему рассказали студенты. Студенты, набравшиеся хорошего вина. Теперь уже он не мог вспомнить даже их имен. Еще дети, лет по пятнадцать. Из довольно почтенного коллегиума, обитатели которого считают себя выше других.
– Видите? Одни слухи, – сказал Иорданус и положил руку ему на плечо. А потом развернулся и ушел, оставив Штайнера одного.
У Лаурьена, который жил в схолариуме уже три месяца, испарились и гордость, и высокие мечты относительно новой жизни. Три месяца изнуряющего изучения способов доказательства, предложенных Аристотелем, арифметики и геометрии, а еще музыки и астрономии. Лаурьен все сильнее скучал по дому, но он не мог просто так, за здорово живешь, отказаться от стипендии и снова стать тем, кем был раньше. Со званием magister artium он наверняка сумеет получить дворянство, поэтому ему придется терпеть и двигаться вперед, даже если эту науку нужно будет грызть зубами. Конечно, остальные в схолариуме точно в таком же положении. Лучше живется только тем, у кого в городе своя комната, они хотя бы после лекций могут заниматься чем хотят. В схолариуме никакой свободой и не пахнет. Мрачный карлик правит своей маленькой империей, зажав ее твердой рукой. Принятие пищи, молитва, собрания, еженедельная исповедь – все больше и больше времени приходилось проводить в схолариуме, выполняя самые различные обязанности. Питались кашей, супом и овощами; жаркое, сыр или фрукты давали крайне редко. Исповедовались в собственной часовне, где даже в разгар лета стоял страшный холод. Только поход в баню сулил хоть какое-то развлечение, но чувственным удовольствием это не назовешь. Да и вообще с чувственностью возникли проблемы. От владельцев собственных комнат Лаурьен слышал, что они ходят к шлюхам; где-то в запутанных переулках Кёльна есть публичный дом, очень гостеприимный, особенно для тех, у кого есть деньги. Хотя и другие ценности тоже в ходу. Ему даже поведали про студента, который расплатился там мешком украденных яблок! От сплошной похоти пивнушки и веселые дома бурлили, но студенты, живущие в схолариуме, вынуждены были вести жизнь монахов. Карлик не сдавал позиций, иногда даже пользовался кнутом, если кто-нибудь из воспитанников по ошибке попадал туда, куда ему попадать не положено. Лаурьен прислушивался к чужим словам, но его товарищи могли только выдвигать предположения, потому что и сами ничего толком не знали, а если среди них оказывался тот, кому было известно больше, чем остальным, то с ним носились как с писаной торбой. Ходили слухи, что женщина отдается всего за три монеты, а иногда хозяин может даже угостить чем-нибудь вкусным, к тому же там есть хорошее вино, и так далее и тому подобное. С любопытством человека, ничего конкретно не знающего, Лаурьен постоянно прислушивался к разговорам. Вроде бы у развалин римской стены есть женский монастырь, туда можно пробраться через дыру и, когда стемнеет, посмотреть в окно на раздевающихся женщин. Эту дыру в стене сделали сами монахини, чтобы быть уверенными, что за ними наблюдают. А раздевшись, они бросаются друг другу в объятия, ласкают друг друга и целуют. Но еще ужаснее были слухи о секте, которая занималась sexsum sacrale [33]33
Сакральное совокупление.
[Закрыть]. Небесный Бог кажется им недостаточно близким, вот они и воспользовались мистикой, которая не ограничивается словами, а требует конкретных действий. Действий настолько мерзких и богохульных, что Лаурьен вышел из комнаты. Слушать о подобных вещах ему не хотелось. Он бы вполне ограничился сведениями относительно того, сколько требуется денег для похода к проститутке. Чтобы убедиться, что такой суммы у него в любом случае нет. Когда обитатели схолариума перешептывались, поглядывая на него (Домициан всегда был с ними), он делал вид, что ему неинтересно. Но однажды Домициан предложил составить им компанию, причем прямо на следующий день, поскольку подвернулась удачная возможность.
«Удачная для чего?» – спросил Лаурьен, но Домициан только засмеялся и сказал, что он сам всё увидит.
Приору они выдали очередную ложь, и он ее проглотил. Он всегда глотал все, что бы они ни придумали, главное – с должным почтением относиться к его правилам. Их было трое: Домициан, Лаурьен и один парень из коллегиума. Именно у него и появилась эта идея, а когда Домициан возразил, что, может быть, не стоит брать с собой Лаурьена, тот (по имени Маринус) только пожал плечами.








