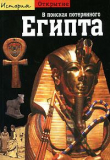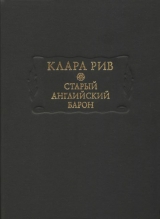
Текст книги "Старый английский барон"
Автор книги: Клара Рив
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 19 страниц)
В. Э. Вацуро
РОМАН КЛАРЫ РИВ В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ [209]209
От редакции.Статья выдающегося российского филолога В. Э. Вацуро о первом русском переводе «Старого английского барона» была впервые напечатана в тематическом сборнике ИРЛИ АН СССР (Пушкинский Дом) «Россия и Запад. Из истории литературных отношений» (Л.: Наука, 1973. С. 164—183) и долгое время оставалась единственной отечественной работой о романе Рив. Позднее в несколько измененном виде она вошла отдельной главой в посмертно изданную книгу ученого «Готический роман в России» (М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 52—68). В настоящем издании статья печатается по первой публикации с уточнением библиографических сведений и транслитерации имен персонажей, а также с частичным сокращением авторского пересказа событий романа Рив, избыточного ввиду появления на русском языке его полного аутентичного перевода.
[Закрыть]
История проникновения в Россию готического романа и восприятия его русским читателем и русской литературой являет собою целую главу в истории русского литературного развития, и не будет слишком большой смелостью утверждать, что без ее учета наше представление об эволюции стилей и формировании романтизма окажется неизбежно неполным и даже искаженным. Широкая волна переводных готических романов захватывает русский книжный рынок в 1810-е годы; к этому времени она, как правило, предстает в глазах критики как нерасчлененная масса низкопробного чтива, рассчитанного на удовлетворение нетребовательного вкуса. Иначе относятся к ней читатель, поглощающий всю эту массу, и издатели, выпускающие двумя и тремя изданиями романы «славной Радклиф», а заодно и другие романы под ее именем, «для большего расходу оных на русском»; [210]210
Ср. примечание известного российского библиографа нач. XIX в. B. C. Сопикова к описанию первого русского издания (1802—1803) романа М. Г. Льюиса «Монах» (1794, опубл. 1796): «Известно, что автор сей книги есть Левис; но для большего расходу оной, на русском издана под именем Радклиф» ( Сопиков B. C.Опыт российской библиографии, или Полный словарь сочинений и переводов, напечатанных на славянском и российском языках от начала заведения типографий до 1813 года: В 5 ч. СПб.: Тип. Императорского театра, 1816. Ч. 4. С. 268 (№ 9392)). ( Примеч. ред.)
[Закрыть]иначе относится к ней и «большая литература» – от Карамзина и далее, вплоть до Достоевского, вольно или невольно впитывающая в себя художественные достижения этого Trivialroman’а. Восприятие готического романа в России прошло несколько этапов, и есть основания думать, что в 1790-е годы отношение к нему русской литературы было отнюдь не пренебрежительным, а заинтересованным и серьезным. Как бы то ни было, ранний период проникновения готического романа в русскую литературную среду заслуживает специального внимания, и примером тому является история перевода второго крупного романа данного типа (после «Замка Отранто» Г. Уолпола) – а именно романа Клары Рив «Старый английский барон» (1777). Нам уже приходилось мельком указывать [211]211
См.: Вацуро В. Э.Литературно-философская проблематика повести Карамзина «Остров Борнгольм» // XVIII век. Л: Наука, 1969. Сб. 8: Державин и Карамзин в литературном движении XVIII – начала XIX века. С. 192.
[Закрыть], что как раз этот роман был выпущен в 1792 году без имени автора под следующим полным заглавием: «Рыцарь добродетели, повесть, взятая из самых древних записок Английского Рыцарства. Издание, посвященное всему Российскому Рыцарству. Перевел с Французского Корн. Лубьянович. Печатано с дозволения указного у Вильковского. В Санктпетербурге 1792 года» [212]212
В дальнейшем в ссылках это издание обозначается как: Лубьянович. ( Примеч. ред.)
[Закрыть]. Скудные данные, которыми мы располагаем об этом переводе и его авторе, и более обширные – о литературной среде и обстоятельствах его появления – позволяют расценить упомянутое издание как совершенно закономерный факт общественно-литературной жизни 1790-х годов.
Имя Корнилия Антоновича Лубьяновича упоминается исследователями радищевского литературного круга. В 1810-е годы он был известен как крупный чиновник (управляющий Экспедицией о государственных доходах), дослужившийся до чина действительного статского советника, кавалер орденов Анны 1-й степени и Владимира 2-й степени. Он скончался 5 июля 1819 года в своей деревне Новоладожского уезда, и знавший его лично А. Е. Измайлов посвятил ему прочувствованный некролог, в котором отдельно подчеркнул его человеческие качества: «бедные, особенно вдовы и сироты, имели в нем благодетеля и покровителя. ‹…› Никому в жизнь свою не сделал он зла, и нередко, очень нередко платил добром за зло» [213]213
Измайлов А. Е.Некрология // Благонамеренный. 1819. № 14. С. 130. Курсив Измайлова. – В. В.
[Закрыть]. Измайлов отмечал его «острый, беглый и самый основательный ум», трудолюбие, бессребреничество – но особенно благотворительность: «Долго жил в нужде и, уже будучи женат, нередко имел недостаток в самых необходимых для жизни потребностях», наконец, уже в преклонных годах, заняв место управляющего Экспедицией о государственных доходах, «получал в сем звании значительные денежные награды и пособия, был совершенно доволен своим состоянием, жил спокойно, умеренно и помогал еще многим» [214]214
Там же. С. 132—133.
[Закрыть]. Нет сомнения, что Измайлов намеренно подчеркивал филантропическую деятельность Лубьяновича, так как видел в «благотворении» одну из задач своего журнала; однако здесь он ничуть не отходил от истины, и красноречивые подтверждения тому мы находим в переписке Лубьяновича с М. И. Антоновским, а также в мемуарах В. И. Сафоновича, прожившего с Лубьяновичем несколько лет [215]215
Материалы переписки Лубьяновича с Антоновским (1810-е годы, неизд., ИРЛИ) см. ниже; воспоминания о нем Сафоновича см.: Воспоминания Валерьяна Ивановича Сафоновича // Русский архив. 1903. Кн. 1. С. 114—117; кн. 2. С. 160—167.
[Закрыть].
Все это имеет некоторое значение, так как характеризует не только индивидуальный, но и социальный облик переводчика романа К. Рив. Лубьянович был убежденным масоном; его филантропия была практической реализацией этической программы масонства, усвоенной еще в ранней юности. С такого рода примерами мы встречаемся неоднократно: подобными явлениями была полна история новиковского кружка, биография Карамзина, деятельность масонских лож в 19-м столетии; Пушкин называл «практическую филантропию» в числе ярких отличительных качеств знакомых ему «мартинистов» [216]216
Пушкин А. С.Полн. собр. соч.: [В 16 т.]. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. Т. 12. С. 32. Материалы о «практической филантропии» в идеологии масонов см.: Вернадский Г. В.Русское масонство в царствование Екатерины II. Пг.: Тип. Акц. о-ва тип. дела в Пг., 1917. С. 198 и след.; об отражении ее в литературе см.: Степанов В. П.Повесть Карамзина «Фрол Силин» // XVIII век. Сб. 8: Державин и Карамзин в литературном движении XVIII – начала XIX века. С. 229—244.
[Закрыть]. Идейная закваска масонства оказалась сильна в Лубьяновиче; она наложила отпечаток на все, вплоть до его бытового поведения.
Корнилий Антонович Лубьянович родился в 1756 или 1757 году и являлся выходцем из демократических кругов: его отец был «небогатый гражданин» из Нежина; однако он сумел дать сыну образование в Киевской академии, где Лубьянович окончил курс философии после восьмилетнего обучения. Лубьянович приезжает в Петербург и готовится стать врачом; он служит учеником в одной из петербургских аптек, но, «увидя там некоторые злоупотребления», сообщает Измайлов [217]217
Измайлов А. Е.Указ. соч. С. 131.
[Закрыть], поступает копиистом в Сенат; в 1780 году он занимает должность подканцеляриста в только что организованной Экспедиции о государственных доходах, где и продолжает службу до конца дней своих. В 1784 году мы находим его имя в числе учредителей Общества друзей словесных наук [218]218
См.: Бабкин Д. С.А. Н. Радищев: Литературно-общественная деятельность. М.; Л.: Наука, 1966. С. 306.
[Закрыть], а в 1789 году он – один из сотрудников «Беседующего гражданина».
Мы мало знаем о деятельности Лубьяновича в Обществе друзей словесных наук. Он был дружен с секретарем Общества М. И. Антоновским, вместе с которым учился в «риторическом классе» Киевской академии; [219]219
См. письмо М. И. Антоновского Лубьяновичу от 11 июля 1815 г. (см.: ИРЛИ. Ф. 405. № 3. Л. 82об.). В 1810-е годы, когда Антоновский впал в ужасающую нищету, Лубьянович помогал ему и выплачивал ежемесячный «пенсион» в размере 25 рублей; во время одной из размолвок вспыльчивый Лубьянович писал ему: «Я не знаю, мой друг, кого ты бранишь, что в прежнее время тебя объедали, а ныне и помогать тебе не хотят. Я тебя никогда не объедал, а что ел хлеб твой, то, кажется, меня в этом неблагодарностию тебе упрекать не следовало бы, ибо, я так думаю, мы были всегда хорошие и друг другу усердные друзья, друг у друга ели хлеб как когда случалось, и бессовестно теперь тебе меня, а мне тебя упрекать» (Там же. № 5. Л. 20); и далее: «‹…› за что же ты беспрестанно по очам меня хлещешь неблагодарностию?» (Там же. № 5. Л. 20об.). По-видимому, в годы юности Антоновский оказывал Лубьяновичу какую-то поддержку; об этом как будто говорит тон приведенного отрывка и ответ Антоновского, намеренно самоуничижительный: «Я вам не смею указывать в ваших всех делах – и тем, как вы горько меня упрекаете, беспрестанно по очам вас хлестать неблагодарностию»; «Не вы мне, а я вам, за премногие ваши оказанные и оказываемые нам благодеяния, обязан вечно благодарностию, хотя бы вы и перестали быть нашим благодетелем, прогневавшись на меня» (Там же. № 3. Л. 105).
[Закрыть]заметим кстати, что он был однокашником также А. А. Прокоповича-Антонского и И. П. Сафоновича, отца мемуариста и члена того же Общества. Таким образом, чисто биографические узы связывали его с кружками московских и петербургских масонов, а тем самым и с Обществом университетских питомцев. Устав Общества друзей словесных наук, в создании которого Лубьянович принимал непосредственное участие, рассматривал оба эти общества как части единого целого и предписывал постоянный контакт и непрерывную взаимную информацию; несомненно, что рекомендуемое уставом упражнение в переводах книг, выбираемых с общего согласия и одобрения членов, было непосредственным продолжением деятельности московских Переводческой и Филологической семинарий по переложению на русский язык нравоучительных произведений лучших авторов [220]220
См.: Вернадский Г. В.Указ. соч. С. 208—211.
[Закрыть]. Просветительские и пропагандистские устремления Лубьяновича, следовательно, вне сомнения, но какова была его индивидуальная позиция в Обществе – об этом у нас есть лишь отрывочные данные. Он был участником «Беседующего гражданина» (1789), где поместил «Завещание уездного дворянина своим детям» – с резким выпадом против злоупотреблений крепостным правом – и известный «Список с дневной записки городской думы», где брались под защиту интересы ремесленников, угнетенных дворянами [221]221
Анализ этих статей см.: Семенников В. П.Литературно-общественный круг Радищева // А. Н. Радищев: Материалы и исследования. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1936. С. 263, 282 и след. Возможно, Лубьяновичу принадлежали и другие статьи; так, была выдвинута гипотеза, что он являлся автором «Рассуждения о том, в чем состоит разум любомудрия» (см.: Лотман Ю. М.Из истории литературно-общественной борьбы 80-х годов XVIII века: А. Н. Радищев и А. М. Кутузов // Радищев: Статьи и материалы. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та им. А. А. Жданова, 1950. С. 100—101); сомнения в этой атрибуции высказал П. Н. Берков (см.: Берков П. Н.История русской журналистики XVIII века. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. С. 373).
[Закрыть]. Конечно, этого недостаточно, чтобы ставить вопрос об его идейной близости к Радищеву, и слишком мало, чтобы говорить об индивидуальных особенностях позиции. Нам известно лишь, что Лубьянович исповедовал принципы масонского гуманизма и увлекался масонскими же политическими, философскими и богословскими сочинениями; уже много позднее В. И. Сафонович видел у него разбросанные повсюду книги Юнга-Штиллинга, Эккартсгаузена и других мистиков, чтению которых Лубьянович предавался «со страстью» [222]222
Воспоминания Валерьяна Ивановича Сафоновича // Русский архив. 1903. Кн. 2. С. 163; ср.: Измайлов А. Е.Указ. соч. С. 132. Некоторые сведения о круге чтения Лубьяновича (правда, позже, в 1815—1816 гг.) мы получаем из писем М. И. Антоновского: 1 февраля 1816 г. Антоновский просит вернуть ему взятые книги: «L’an 2440», «Essai sur les Hiéroglyphes», «La France en perspective», «Merveilles du Ciel et d’Enfer» (2 т.) Э. Сведенборга и др. (см.: ИРЛИ. Ф. 405. № 3. Л. 99об.); в том же 1816 г. Антоновский просит у него для прочтения Штиллинга (см.: Там же. Л. 93). Вообще библиотека Лубьяновича была, по-видимому, довольно велика; в 1815 г. он просил Антоновского помочь ему в ее разборе и составлении описи (см.: Там же. Л. 107об. И др.).
[Закрыть]. Этот-то человек и стал в 1792 году переводчиком сочинения, которое он озаглавил «Рыцарь добродетели».
Корнилий Лубьянович выбрал для перевода литературную новинку. Правда, первое английское издание романа появилось еще в 1777 году; однако лишь через десять лет, выдержав в Англии несколько переизданий, роман выходит в свет отдельной книгой во французском переводе П. А. де Лапласа [223]223
См.: Le Vieux Baron anglois, ou les Revenans vengés: Histoire gothique, imitée de l’anglois de Mistriss Clara Reeve, par M. D. L. P*** [de la Place]. Amsterdam; P.: Didot et Jombert, 1787.
[Закрыть]и в том же году переиздается под названием, объединявшим заголовки первого и второго английских изданий: «Поборник добродетели, или Старый английский барон» («Le Champion de la Vertu, ou Le Vieux Baron anglois») [224]224
См.: Killen A. M.Le roman terrifiant ou roman noir de Walpole à Anne Radcliffe et son influence sur la littérature française jusqu’en 1840. P.: Champion, 1923. P. 226. В известном указателе Ж.-М. Керара отмечено одно издание 1787 г., озаглавленное «Le Vieux Baron anglois…»; к библиографической записи сделано примечание, что многие экземпляры его имеют иной титульный лист: Le Champion de la Vertu, ou le Vieux Baron anglois: Histoire gothique, traduite librement de l’anglois par M. D. L. [P.]. P., Hardouin et Gattey, 1787 (см.: Quérard J. M.La France littéraire, ou Dictionnaire bibliographique des savants, historiens et gens de lettres de la France, ainsi que des littérateurs étrangers qui ont écrit en français, plus particulièrement pendant les XVIII еet XIX еsiecles. P.: Didot frères, 1835. T. 7. P. 491).
[Закрыть]. Это издание, по-видимому, и послужило оригиналом Лубьяновичу [225]225
Русский перевод воспроизводит контаминированное заглавие и так же, как и оно, не содержит указания на имя автора.
[Закрыть].
Уже одно простое сопоставление заглавий дает некоторую почву для наблюдений. Выбор заглавия вообще отнюдь не безразличен: оно рекомендует читателю произведение и дает первый толчок к его восприятию. В известной мере заглавие отражает и читательский вкус. Для самой Клары Рив «Старый английский барон» был «литературным отпрыском „Замка Отранто“» [226]226
См. «Предуведомление» в наст. изд.
[Закрыть]и в большой степени фактом литературно-эстетической полемики, о чем речь пойдет ниже. Последовательница Ричардсона, тесно связанная с моралистической просветительской литературой, она подчеркнула эту связь в первом издании романа, назвав его «The Champion of Virtue», то есть «Поборник добродетели». Авторская замена названия во втором издании – «The Old English Baron» – давала читателю почувствовать, что перед ним – повесть из времен Средневековья, «картина готических времен и нравов» [227]227
Там же.
[Закрыть], роман «тайн и ужасов», относящийся к традиции, начатой «Замком Отранто». Французские переводчики пошли по линии сгущения готического колорита: уже первое французское издание этого романа, осуществленное Лапласом, носило название «Le Vieux Baron anglois, ou les Revenans vengés» («Старый английский барон, или Отмщенные привидения»): так оно и вошло в восьмитомное «Собрание романов и сказок, переделанных с английского» Лапласа [228]228
См.: Collection de romans et contes, imités de l’anglois, corrigés et revus de nouveau par M. de la Place. P.: Cussac, 1788. T. 7. P. 5—247. Текст здесь подвергся, по-видимому, лишь незначительной технической правке. В дальнейшем в ссылках издание 1787 г. («Le Vieux Baron anglois…»; экземпляр получен из Национальной библиотеки в Париже) обозначаем как: La Place; вслед за тем в скобках даем указание на соответствующую страницу седьмого тома «Collection de romans…» как более доступного русскому читателю.
В ссылках на оригинальный текст «Старого английского барона» указываются страницы изд.: Reeve C.The Old English Baron. A Gothic Story / Ed. by James Trainer. L.; N.Y.; Toronto: Oxford University Press, 1967; далее: Reeve. ( Примеч. ред.)
[Закрыть]. Следующий перевод, сделанный в 1800 году, носил уже название «Edouard, ou le Spectre du Château» [229]229
«Эдуар, или Призрак замка». ( Примеч. ред.)
[Закрыть]и т. д. Этот тип «рекламных» названий будут тщательно сохранять русские переводчики романов Радклиф и псевдо-Радклиф в 1800—1810-е годы. Лубьянович как будто намеренно избегает броского заголовка; из лапласовского названия, бывшего у него перед глазами, он сохраняет лишь первую и первоначальную «моралистическую» часть. Ссылка на «древние записки Английского Рыцарства» и посвящение проясняют замысел переводчика. Роман Клары Рив включается для него в круг дидактических масонских изданий.
Посвящение книги содержит намеки чисто масонского характера, которые далеко не везде поддаются расшифровке. Одним из них – и важным для нас – является указание на древнее английское рыцарство, которое переводчик избирает в качестве образца для рыцарства, то есть масонства, российского. Нет сомнения, что здесь лежит одна из причин обращения Лубьяновича к произведению английского автора и из эпохи английского Средневековья. Однако как раз эта сторона дела остается скрытой от нас. Известно, что в конце 1760-х – начале 1770-х годов вождь русского масонства И. П. Елагин проявляет острый интерес к так называемой древней английской системе масонства, которая, как утверждалось, сохранила в чистоте утраченные древние обычаи. Вообще Елагин более других тяготел к английской системе; он был утвержден в качестве великого провинциального мастера именно «великою Аглицкою селенскою ложею» [230]230
[ Елагин И. П.] Новые материалы из истории масонства. Записка И. П. Елагина // Русский архив. 1864. № 1. Стб. 103.
[Закрыть]и в дальнейшем сблизился с Великой ложей Йоркских масонов, с которыми нередко смешивали «древних». Однако к 1790-м годам английская система давно уже не удовлетворяла большинство масонов; сам Елагин после некоторой борьбы вынужден был пойти на союз с Рейхелем, сторонником «шведско-берлинской» системы Циннендорфа, которая, однако же, походила на древнеанглийскую преимущественным вниманием к моральным упражнениям и довольно безразличным отношением к внешней пышности [231]231
См.: Вернадский Г. В.Указ. соч. С. 31—37. Ряд исследователей масонства приводят, впрочем, материалы, свидетельствующие о том, что стремление к «первоначальной простоте» масонских обычаев не угасало и позже возобладало в XIX в.; см., напр.: Пыпин А. Н.Русское масонство: XVIII и первая четверть XIX века. Пг.: Огни, 1916. С. 138 и след.; Соколовская Т. О.Русское масонство и его значение в истории общественного движения (XVIII и первая четверть XIX столетия). СПб.: Изд. Н. Глаголева, [1907]. С. 56 и след.
[Закрыть]. Вместе с тем новиковский круг и тесно связанный с московскими университетскими масонами кружок петербургских «любителей словесности» принадлежали уже не рейхелевской системе, а во многом противоположному ей розенкрейцерству. Вряд ли можно сомневаться в том, что розенкрейцером был и Лубьянович. Его обращение к традициям «древнеанглийского рыцарства» поэтому не совсем понятно; не исключена возможность, что оно было результатом подспудных брожений в масонстве 1790-х годов.
Здесь нам приходится обратить внимание на год издания книги. Он многозначителен. «Рыцарь добродетели» выходит из печати в разгар преследований масонства. В 1789 году Новиков лишается университетской типографии; в 1790 году развертывается процесс Радищева, с которым Лубьянович был, несомненно, знаком и, быть может, как предполагают некоторые исследователи, даже разделял в той или иной мере его позицию. Екатерина II установила прямую связь между Радищевым и масонами словами «автор мартинист», сказанными Храповицкому [232]232
[ Храповицкий А. В.] Памятные записки А. В. Храповицкого, статс-секретаря императрицы Екатерины Второй. М.: Унив. тип., 1862. С. 226.
[Закрыть]. Наконец, в апреле 1792 года начинается следствие над Новиковым. В этих условиях издание книг, масонских хотя бы только по заглавию и фразеологии, оказывалось чревато самыми неблагоприятными последствиями; когда в 1791 году И. П. Лопухин решается все же издать свою книгу «Духовный рыцарь» с изложением основ герметической науки и морально-этической программы розенкрейцерства, он вызывает нарекания в опрометчивости [233]233
См.: Лонгинов М. Н.Новиков и московские мартинисты. М.: Тип. Грачева и Комп., 1867. С. 306—307.
[Закрыть]. Тем не менее Лубьянович издает свой перевод, отнюдь не масонский по существу, но явно и декларативно приноровленный к нуждам масонства [234]234
Случаи такого рода были довольно распространены; по наблюдению Т. Соколовской, масоны постоянно «подтасовывали ‹…› в желательном для себя направлении» произведения иностранных писателей ( Соколовская Т. О.Указ. соч. С. 29).
[Закрыть], и обозначает на титульном листе свое имя полностью как переводчика книги. В 1792 году это было актом довольно большой смелости.
Как явствует из всего сказанного, перед нами отнюдь не случайная книга, а книга, подвергшаяся определенного рода интерпретации. Эта интерпретация достигалась определенным углом зрения, читательской акцентировкой тех или других моментов и эпизодов. Возможность такой акцентировки или даже переакцентировки создавалась тем, что «Старый английский барон» возник на скрещении двух типов художественного и социального сознания; романтическое мировоззрение и философия, возникавшие в эпоху кризиса просветительского сознания, не отменяли этого последнего, но вступали с ним в сложное взаимодействие и на первых порах даже своеобразный симбиоз. Второй этапный для истории жанра готический роман был написан рукой человека, воспитанного в духе Просвещения, и все его представления об этической норме, социальных связях, структуре личности положительных и отрицательных героев, индивидуальной психологии и т. д. несли на себе явственную печать просветительства.
Центральным героем романа Рив, несомненно, является Эдмунд Туайфорд – воспитывающийся в семье барона Фиц-Оуэна сын землепашца (а в действительности – потомок покойного лорда Артура Ловела), отличающийся редкими душевными и телесными качествами и вызывающий в силу этого зависть сыновей и племянников барона. Именно такую расстановку действующих лиц устанавливали последующие переводы и переделки романа [235]235
М. Саммерс приводит названия этих переделок: «Edouard, ou le Spectre du Château» (фр. пер. 1800); «Edmond, the Orphan of the Castle» («Эдмонд, сирота из замка». – Ред.; анонимно вышедшая трагедия; 1799). Любопытен своеобразный пересказ романа в заглавии переделки 1818 г.: «Замок Ловел, или Восстановленный в правах наследник: Готическая повесть, рассказывающая, как молодой человек, предполагаемый сын крестьянина, сцеплением необыкновенных обстоятельств не только открывает истинных родителей, но и то, что они были доведены до безвременной смерти; о его приключениях в комнате с привидениями, открытии рокового тайника и появлении призрака его убитого отца; рассказывающая также, как убийца был предан суду, о его исповеди и возвращении обездоленному сироте его титула и имущества» ( Summers M.The Gothic Quest: A History of the Gothic Novel. N.Y.: Russell & Russell, 1964. P. 188).
[Закрыть]. Это подтверждается и последующей эволюцией готического романа, черты которого в «Старом английском бароне» еще не определились до конца. Фигура рыцаря Филипа Харкли, строго говоря, сюжетно излишня; подобного рода персонажи из готического романа вскоре исчезнут. Между тем именно Филип Харкли занимает ведущее место в восприятии романа его русским переводчиком: именно на нем сосредоточивает Лубьянович внимание своих читателей. Он снабжает свой перевод стихотворным посвящением, – а по существу интерпретацией текста:
К Российскому Рыцарству
Быть дружелюбивым, святити правоту,
Хранити свой Закон, честь, славу, чистоту,
Любить род человечь и защищать теснимых:
Есть свойство Рыцарей не ложных, справедливых.
Гарклай был таковым; он Рыцарям пример!
Был честен, храбр, друг, чист и не был изувер.
Вы Русски Рыцари с вниманием прочтите
Пример сей в Рыцарях! его примером чтите.
Издатель
В этом посвящении недвусмысленно выражена этическая программа переводчика. Легко заметить, что она близка к масонской программе самоочищения и самосовершенствования, хотя, взятая как формула практической этики, ничего специфически масонского в себе не содержит. Это просветительский идеал человеческого характера – и с подобной точки зрения фигура Харкли выдвигается для переводчика на первый план. Тип идеального рыцаря без страха и упрека вырисовывается из серии эпизодов, тщательно сохраненных в переводе. На них сделаны указания в посвящении. «Дружелюбие» (в первоначальном смысле слова: любовь к друзьям) – это преданность Харкли памяти своего погибшего друга лорда Ловела. Слова «святити правоту» и «защищать теснимых» обозначают центральную линию романа, связанную с Харкли: покровительство Эдмунду Туайфорду, защита его от гонителей, наконец, старания Харкли восстановить его в правах наследника Ловелов и вернуть ему родовое достояние; эти усилия завершаются судебным поединком Харкли с узурпатором Уолтером Ловелом, в котором рыцарь выступает под девизом «Поборник Добродетели» («The Champion of Virtue»). Подобной же моральной характеристикой Харкли является и его «любовь к человеческому роду», – но эта формула, как кажется, имеет более широкий и общий смысл. Она включает идею внесословной ценности человека, являющуюся одной из направляющих в поведении Харкли. Это особенно отчетливо видно в английском подлиннике: перевод Лапласа, как мы указывали, несколько сокращен. Однако и при дальнейшем сокращении текста Лубьянович удерживает характерные эпизоды дружеских и равноправных взаимоотношений Харкли с крестьянами, слугами – с людьми, занимающими низ социальной лестницы. Это имеет для Лубьяновича особое значение: вспомним, что он – автор статьи в «Беседующем гражданине», направленной против злоупотреблений крепостников. В сцене, где Эдмунд Туайфорд приезжает к Харкли просить помощи и покровительства, Лубьянович уже от себя вкладывает в уста своему герою слова: «Откудова, продолжал дворянин с видом неудовольствия, родились обряды для свидания со мною? ‹…› я не хочу, чтоб ко мне приходили так, как обыкновенно приходят к гордым людям, кои заставляют дорого платить за впуск к себе; да для кого б ето дом мой был так страшен?» [236]236
Лубьянович. С. 129—130; ср.: La Place. P. 178—179 (136—137); Reeve. P. 84—85; наст. изд.
[Закрыть]
Эта последовательная идеализация Харкли вполне соответствовала авторскому замыслу. Однако были случаи и расхождения – и очень показательные. Быть может, указанием на один из них является не совсем понятная формула в посвящении: «и не был изувер». Харкли – католик, и «хранит свой Закон» для него означало: строго следовать христианским заповедям в их католическом изводе. Известно, что масоны, неоднократно провозглашавшие свое безразличие к оттенкам вероучений, в то же время были откровенно враждебны обрядово-догматической стороне официальных религий; [237]237
См.: Соколовская Т. О.Указ. соч. С. 66 и след.
[Закрыть]католицизм же в XVIII веке был своеобразным ее воплощением; следующие за Рив готические романы («Монах» Льюиса, «Итальянец» Радклиф, отчасти «Мельмот Скиталец» Метьюрина) под влиянием антиклерикального théâtre monacal будут специально развивать тему католического религиозного изуверства. В «Старом английском бароне» католицизм Харкли – функционально нейтральная историческая реалия; однако как принадлежность рыцаря «не ложного, справедливого», призванного служить образцом для «Российского Рыцарства», она в глазах Лубьяновича требует если не извинения, то, во всяком случае, оговорки.
В романе есть сцена, прямо подвергшаяся переделке. Это сцена поединка и последующего допроса тяжело раненного Уолтера Ловела. Здесь Харкли подлинника и французской версии, обнаруживающий черты суровости или даже жестокости, перестает соответствовать тому облику мягкосердечного христианина, который создался в представлении русского переводчика. В русском тексте рыцарь спешит подать помощь раненому; в английском и французском – отказывает ему в священнике и хирурге до тех пор, пока тот не сознается в совершенном преступлении: «Vous aurez l’un et l’autre ‹…› mais il faut, préalablement, me répondre…» [238]238
«Вы получите того и другого ‹…› но прежде вы должны ответить мне…» (La Place. P. 214 (162)); Лубьянович. С. 157; ср.: Reeve. P. 101; наст. изд.
[Закрыть]Подобной же трансформации подвергается сцена вторичного допроса, где у ложа умирающего Ловела остаются Харкли и духовник. Драматическая исповедь преступника оставляет Харкли холодным: «Mon pénitent vous a tout dit… Que voulez-vous de plus? – Qu’il restitue, c’écria sir Philippe; qu’il rende à l’héritier, qu’il rende à l’orphelin son titre et tous les biens de ses parents» [239]239
«Мой кающийся сказал вам все… Чего вы еще хотите? – Чтобы он возвратил наследнику, – воскликнул сэр Филип, – чтобы он отдал сироте его титул и все имущество его родителей» (La Place. P. 226 (172)); ср.: Reeve. P. 106; наст. изд.
[Закрыть]. Лубьянович снимает содержащуюся здесь проблему «жестокости во имя блага»: «Добродушный Гарклай, смягчен будучи раскаянием Вальтера даже до слез, говорил ему все то, что токмо добродетельный человек может сказать во утешение Христианину» [240]240
Лубьянович. С. 166.
[Закрыть].
Акцентировав дидактические начала в романе Рив и выделив эпизодическое, в сущности, лицо, Лубьянович в значительной мере менял все восприятие романа. В литературном сознании эпохи для готического романа устанавливалась определенная иерархия героев. Удельный вес героя-злодея в художественной ткани романов этого типа с течением времени возрастал; столь же неизбежным их атрибутом становился и его антипод или жертва – герой или героиня идеального типа, конкретно ему противопоставленный. Такого рода центральную пару составляют в романе Рив Эдмунд Туайфорд и его антагонисты, прежде всего Уолтер Ловел. Ее-то и отодвигала на задний план трактовка Лубьяновича. По-видимому, русского переводчика не вполне удовлетворяла та пассивная роль, которая выпала в романе на долю Эдмунда Туайфорда; Лубьяновичем владела идея активного добра – и он нашел ее воплощение в фигуре Филипа Харкли.
Таким образом, готический роман в передаче Лубьяновича должен был потерять некоторые признаки жанра: он читался иначе, нежели был написан. Однако поэтика его не определялась только расстановкой персонажей. Едва ли не основным литературным заданием Рив было дальнейшее, по сравнению с Г. Уолполом, осмысление и развитие фантастического элемента в историческом романе. Подобно Уолполу, Рив отталкивалась от просветительского отрицания сверхъестественного в реальной жизни и допускала в свой роман фантастику лишь постольку, поскольку последняя была как бы санкционирована «народным суеверием» Средневековья. Этот аргумент окажется очень важным для просветительской эстетики, медленно уступавшей преромантическим веяниям; русские теоретики будут пользоваться им вплоть до 1820-х годов; романы Радклиф станут искать компромиссного решения в создании атмосферы сверхъестественного за счет естественных причин. Вместе с тем как раз на этой арене развертывается довольно острый спор между Уолполом и Рив: последовательница в специальном предисловии к своему роману восстает против слишком необузданной фантазии своего учителя, требуя соблюдения правдоподобия и вводя свои призраки в намеренно обытовленную обстановку [241]241
См. «Предуведомление» в наст. изд.
[Закрыть]. Это вызывает иронию Уолпола: «призрак» и «правдоподобие» с просветительской же точки зрения несовместимы в самом своем существе; Уолпол пренебрежительно третирует роман Рив как «вялый», скучный и лишенный воображения [242]242
См.: Summers M.Op. cit. P. 187.
[Закрыть].
Де Лаплас не мог обойти эту эстетическую проблему, которая уже возникала перед ним как переводчиком Шекспира. Видимо, у него была мысль сохранить авторское предисловие Рив; на экземпляр издания 1787 года с этим предисловием ссылается А. Киллен [243]243
См.: Killen A. M.Op. cit. P. 11—12.
[Закрыть]. В нашем экземпляре, как и в «Собрании романов», оно заменено «Необходимым предуведомлением» самого Лапласа; переводчик счел более уместным представить французскому читателю, воспитанному на классической и просветительской литературе, непривычный ему род романа с фантастическим элементом в целом. Лаплас занимает ту же умеренно-классическую позицию, что и в споре о Шекспире, – и под его пером один из манифестов английского преромантизма выступает в своеобразном французском просветительском изводе. Он не верит в сверхъестественное, считая его порождением суеверий, нередких у просвещенных народов; [244]244
См.: La Place. P. 87 (69).
[Закрыть]фантастическое же в романе для него – не более чем литературная условность, развлекающая читателя подобно волшебной опере на сцене, – и он готов допустить ее, если она имеет целью воздействовать в лучшую сторону на нравы. «Не по этим ли соображениям, – пишет он, – кавалер Уолпол не побоялся лет двадцать назад представить призраков пред стоические очи самой Англии в своем романе, озаглавленном „Замок Отранто“, – и его успех оправдал смелое начинание. Так и миссис Клара Рив, исходя из тех же идей, осмелилась сделать попытку обновить эту старинную историю, или готическую легенду, второе издание которой, дошедшее до нас, соблазнило нас поспешить представить французской публике, на свой риск и страх, это слабое подражание» [245]245
[ La Place P. A. de] Avertissement nécessaire // Ibid. P. [3—4].
[Закрыть].
Русский переводчик опустил предисловие. Как мы видели, в романе Клары Рив его интересовала вовсе не эстетическая сторона. Да и в развернувшемся споре он должен был занять несколько неожиданную позицию. Сверхъестественное для него не составляло дискуссионной проблемы – ни в эстетическом, ни в мировоззренческом смысле. Корнилий Лубьянович – мистик. Читатель Штиллинга и Эккартсгаузена, он убежден в реальном существовании явлений из потустороннего мира; он рассказывал В. И. Сафоновичу о явлении призрака некой особе, достойной полного доверия, и даже о своем собственном общении с духом Эккартсгаузена [246]246
См.: Воспоминания Валерьяна Ивановича Сафоновича // Русский архив. 1903. Кн. 2. С. 165—166.
[Закрыть]. Его ближайший друг М. И. Антоновский в течение многих лет вел записи своих сновидений и предчувствий: среди этих записей есть и толкование одного из его снов, предложенное Лубьяновичем [247]247
См.: ИРЛИ. Ф. 405. № 2 («Предчувствования, сновидения, мечты, чутье замечательное моих родителей» – заглавие, данное сыном Антоновского). На л. 19 (под датой «1804 г.») – эпиграф: «Lex viis futura homini Deus denunerat per somnia, portenta aves, intestina, spiritum et Sybillam. Mercurius Trismegistus Ægyptius» («Бог возвещает будущее человеку снами, вещими знамениями, внутренностями животных, явлением духов и пророчествами. Меркурий Трисмегист Египетский»). Толкование сна Лубьяновичем – в духе обычной для него этической программы: «Лубьянович, при рассказывании своем о гневе государевом на меня, сказал, что-де гнев его наипаче за то, что я скупо содержу людей в доме; на что я сказал: разве роскошно слишком» (Там же. Л. 3Зоб.).
[Закрыть]. Такого рода бытовой мистицизм был довольно обычным явлением в масонской среде [248]248
Ср., напр., рассказ идиллика В. И. Панаева, сына известного масона И. И. Панаева, о явлении его матери призрака покойного мужа (см.: Панаев В. И.Воспоминания // Вестник Европы. 1867. Т. 3: Сентябрь. С. 204—205).
[Закрыть], и не исключена возможность, что он оказал влияние на выбор Лубьяновичем для перевода именно романа Рив и в какой-то степени наложил отпечаток на его восприятие.
* * *
В своей переводческой практике Лубьянович следовал уже сложившимся в XVIII веке принципам, которых придерживался и Лаплас. Он свободно переходил от почти дословного перевода к сжатому пересказу, сохраняя все основные сюжетные линии, мотивы и эпизоды. Текст сокращался – не столько за счет купюр, сколько за счет конспективности изложения. Сокращение коснулось в особенности второй части романа: во французской версии первая часть занимает 146 (113), вторая 179 (134) страниц; в русской (где деление на части не отмечено) – соответственно 111 и 87. «Конспектируя» роман, Лубьянович укрупнял смысловое членение оригинала, сводя до минимума побочные эпизоды и описания и добиваясь «единства действия». При этом систематически сжимались диалоги: они либо превращались в монологи, либо заменялись косвенной речью. Линия повествования выравнивалась и рационализировалась.
Это было частью намеренное, а частью неосознанное транспонирование раннего готического романа в стилистическую систему русской просветительской прозы. Лубьянович проделывал работу, как бы обратную той, которую совершил Уолпол в своем стремлении выйти за пределы «филдинговского» романа и примирить «новый» роман XVIII века со «старым», рыцарским. Сделать это до конца Уолполу не удалось, так как в самой основе своего литературно-эстетического и философского мышления он оставался просветителем. Еще в большей степени с просветительством была связана Рив. Как отмечали все исследователи, так или иначе касавшиеся «Старого английского барона», основой этого романа был роман филдинговского или, скорее, ричардсоновского типа [249]249
Ср.: Dibelius W.Englische Romankunst. Leipzig: Mayer: Müller, 1922. Bd. I. S. 285 ff.
[Закрыть] – и это сближало литературные позиции Рив и ее русского переводчика. Лубьянович сохранял эту основу, довольно последовательно отсекая готические наслоения. Так, ему совершенно непонятны робкие элементы стилизации «древней повести», имеющиеся в романе Рив. Стилистическая функция лакуны – имитация разрыва, порча текста – неинтересна русскому переводчику. Иногда он честно сохраняет «археографический комментарий» мнимого издателя, но предпочитает отказываться от него, где только можно. «Son ‹…› soin fut ‹…› d’honorer le Créateur, en secourant et protégeant la créature dans l’infortune; et… Ici se trouve une lacune dans l’ancien manuscrit, comportant à-peu-près l’intervalle de quatre années. La suite, qu’on va lire, est d’une autre main, et d’une écriture plus moderne», – стоит во французском тексте [250]250
«Он ‹…› заботился о том, чтобы ‹…› почитать Создателя, поддерживая и покровительствуя в несчастье созданию; и… В старинной рукописи здесь лакуна, охватывающая период приблизительно в четыре года. Продолжение написано другой рукой, и манера письма приближена к современной» (La Place. P. 36 (31)).
[Закрыть]. Русский переводчик рассматривает этот пассаж единственно как форму перехода от одной главы или части к следующей, своего рода эквивалент формулы: «Прошло четыре года». Соответственно он завершает предшествующую часть и далее ставит курсивом: «В рукописи пропущено четырехлетнее после сего время, а следующее написано другою рукою» [251]251
Лубьянович. С. 33.
[Закрыть], – и с абзаца продолжает рассказ. Строго говоря, примечание об изменении почерка – прием наивной мистификации – Лубьяновичу вовсе не нужно; он мог бы отказаться от него, как отказался от «датировки» почерка [252]252
Ср. аналогичные примечания: La Place. P. 45 (38), 53 (44); Лубьянович. С. 33, 45—46.
[Закрыть]. И уже абсолютно не нужно и непонятно ему вкрапление перифрастического стиля, своего рода цитата из якобы подлинной древней рукописи, ныне подаваемой мнимым издателем в модернизированном виде: «Elle obéit, la joue baignée de larmes, telle que la rose de Damas, que mouille la rosée du matin» [253]253
«Она повиновалась, орошая слезами щеки, подобные дамасской розе, которую увлажняет утренняя роса» (La Place. P. 312 (237)).
[Закрыть](с примечанием: «Ce sont les expressions littéralles de l’original») [254]254
«Это подлинные выражения оригинала» (Ibid).
[Закрыть]. Лубьянович попросту опускает его. Историзм мышления не был свойствен русскому переводчику – он удовлетворялся простой ссылкой «повесть из самых древних времен Английского Рыцарства» на титульном листе; осознания культурной специфичности «древней повести» у него не было, как не было его, впрочем, и у самой Клары Рив.
Однако английская писательница сознавала некоторую жанровую обособленность своей «готической повести», которая при всей ее близости к ричардсоновскому роману все же была литературным порождением «Замка Отранто» и теории Уолпола. Элементы техники «романа тайн» здесь присутствуют, причем даже в более развитом виде, нежели у родоначальника жанра. Вряд ли правы те исследователи, которые отказывают «Старому английскому барону» в стилевом новаторстве; как бы ни иронизировал Уолпол над беспомощностью «скучной и вялой» истории, классик жанра Радклиф и все другие представители сентиментальной ветви готического романа пошли по пути, который нащупывала Клара Рив. Волшебно-рыцарский реквизит «Замка Отранто» сменялся бытовой средой, той иллюзией реальности, которая распространялась и на сверхъестественные события; их психологическое предвосхищение и мотивировка отныне становились основными средствами создания напряжения, «атмосферы», которая коренным образом преображала всю стилистическую структуру романа, удаляя его от сказки в сторону современного бытописания. Через несколько десятилетий это станет едва ли не основным принципом фантастической литературы. Строго говоря, этот принцип и нес в себе начала, разрушительные для просветительской прозы; он был истинной и полной реализацией теоретических деклараций Уолпола о необходимости сблизить «реальное» и «фантастическое». Русский переводчик на материале романа Рив как бы учится технике «тайн и ужасов» на уровне стиля. И здесь его рационалистические тенденции ставят перед ним труднопреодолимый барьер. Сокращая диалоги и побочные описания, он следует принципу «необходимости», как он понимался в просветительской эстетике, – необходимости логической, сюжетной и композиционной – принципу непротиворечивого и последовательного развертывания действия. Однако в преромантической эстетике этот принцип уже терял свою силу – на смену ему приходили иные формы литературной организации, с бо́льшим удельным весом внефабульных элементов: пейзажа, интерьера, диалога чисто эмоционального назначения. Среди них диалогу принадлежало даже особое место: в теоретическом предисловии к «Замку Отранто» Уолпол писал о необходимости приближения романа к драме, имея в виду, конечно, не только характер развертывания сюжета, но и более наглядные формы драматизации с широким использованием диалога.